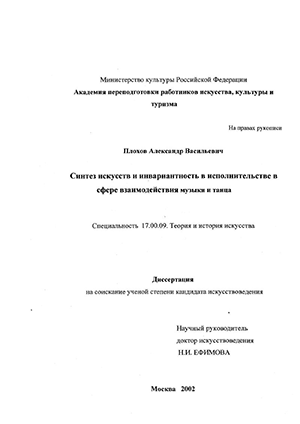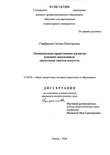Содержание к диссертации
Введение
Глава I Танец и музыка: проблемы взаимосвязей 13
1 Взаимодействие музыки и пластики в искусстве танца 14
2 Многообразие танцевальных жанров opus-музыки и их синтетическая природа 31
3 Особенности жанровой интонации танцевальной музыки 49
Глава II Исполнение танцевальной музыки: проблема инварианта 64
1 Инвариантность в искусстве 64
2 Инвариантность в музыкальном исполнительстве 77
3 Танцевальная жанровая интонация и инвариант ее музыкально-исполнительского отражения 89
Заключение 108
Список литературы 112
Приложение 131
- Многообразие танцевальных жанров opus-музыки и их синтетическая природа
- Особенности жанровой интонации танцевальной музыки
- Инвариантность в музыкальном исполнительстве
- Танцевальная жанровая интонация и инвариант ее музыкально-исполнительского отражения
Многообразие танцевальных жанров opus-музыки и их синтетическая природа
Жанры танцевальной музыки занимают, на наш взгляд, особое место в музыкальном искусстве, обусловленное не только и не столько их первоначальной прикладной функцией. Далеко не все танцы музыкальные создавались для сопровождения танцев, но даже в этом случае их обиходная функция стала достоянием истории. Танцы В.Моцарта, Ф. Шуберта, И. Штрауса и других композиторов, писавших для обслуживания танцев, перешли в разряд музыки концертной, преподносимой, а не прикладной. Тем более это относится к произведениям, изначально предназначавшимся не для танцев.
Композиторы из века в век создавали произведения с авторским обозначением танцевальных жанров. Тем самым они подчеркивали, что данные сочинения в качестве жанрового содержания содержат образ конкретного танцевального жанра. Таким образом, они декларировали и осуществляли перевод произведений одного вида искусства в другой.
Эстетика выделяет различные типы художественного синтеза. Во-первых - это соединение различных искусств, которые могут существовать и автономно. Например, соединение архитектуры с монументальной живописью или скульптурой, музыки со словом. Вторая форма - органический синтез -проявляется в природе таких искусств, как театр, кино, цирк. Вне художественного синтеза различных искусств друг с другом эти виды не существуют. Третья форма синтеза заключается в переводе произведения одного вида искусства, из одного художественного ряда, в другой — романа в пьесу, оперу; балета, оперы - в кинофильм и т.п. Сюда можно отнести и транскрипции. Как отмечает А.Я. Зись, в этом процессе выражен не только синтез, но и сохранение за каждым искусством своих «преимущественных художественных компетенций» [76, C.11].
При использовании музыки для сопровождения танца (в балетном спектакле, на балу) осуществляется органический синтез двух искусств, так как в данном случае музыка является неотъемлемой частью танцевального исполнения даже в том случае, если само музыкальное произведение написано не в танцевальном жанре. Пластика танца является здесь ведущим системообразующим компонентом, и синтез осуществляется в рамках данного вида искусства. Не случайно в данном случае имеет место обязательное соотнесение темпоритмических особенностей музыкального сопровождения с удобством танцевального исполнения. Но следует выделить иной тип синтеза в жанровой сфере танцевальной музыки.
На наш взгляд, все произведения танцевальной музыки синтетичны по своей природе. Композитор, пишущий произведение в танцевальном жанре, осознанно и целенаправленно создает образ танца средствами музыкального искусства, осуществляя перевод с языка пластики на язык звуков. При этом он не просто пользуется набором стандартных ритмоформул, что в принципе возможно, а создает индивидуальную музыкальную транскрипцию пластического образа, обладающего своеобразием и, в то же время, жанровой конкретностью. Подтверждением этого может служить то, что композиторы практически никогда не писали танцевальной музыки в неизвестных им, невиданных и не танцованных жанрах. Только конец 20 века внес элемент «жанрового моделирования» в сочинение танцевальной музыки, что, возможно, послужило одной из причин падения к ней слушательского интереса.
Таким образом, специфической особенностью танцевальной музыки является ее имманентная синтетичность, выделяющий данный пласт музыкального искусства из ряда других конкретностью жанрового, а тем самым и смыслового содержания. Здесь имеет место не просто отражение образов окружающего мира, а синтез искусств, что является принципиально важным для понимания как гносеологии так и онтологии танцевальной opus-музыки.
Танец является одним из первичных жанров музыкального искусства, то есть является одной из его генетических основ. Прежде всего, к нему относятся слова С.С. Скребкова о том, что «музыка, широко говоря, вышла из танца, поэтому метро- ритмическое, моторно-танцевательное начало ее, объединяющее движение коллектива людей, навеки осталось в музыкальном искусстве в качестве первичной основы» [193, с.399].
Разделение жанров на первичные и вторичные является исходным моментом их историко-генетической дифференциации в соответствии с их типологическими особенностями - жизненным предназначением и общественной функцией. Истоки первичных жанров в фольклоре, вторичные возникают на их основе. Исследователи отмечают акциональность первичных жанров, их способность обеспечивать контактные, кратковременные миметические сообщества людей [148, с.96]. Это жанры непосредственного бытового человеческого общения - в ритуале, празднике, на балу. Первичные жанры выполняют роль аккумулятора эмоционально-коммуникативного опыта людей в музыкальных интонациях, выступая, в то же время, в качестве порождающей закономерности определенного вида музыкальной структуры.
Музыка и танец - самостоятельные виды искусства, отражающие действительность по-разному. Если музыка - искусство, наиболее удаленное от внешнего предметного мира, то хореография связана с ним наиболее непосредственно. Общего между музыкой и танцем гораздо больше, чем различий. Их роднит способность к высоким обобщениям, к тончайшим психологическим нюансам (что недоступно порой конкретному слову), к созданию поэтических моделей жизненных коллизий, к непосредственному эмоциональному воздействюя на человека. Немало у них общего и в средствах выразительности, это коренится в их эстетической природе. Двигательное начало (кинетичность) априори присуще всякой музыке; оно присутствует даже тогда, когда музыка кажется статичной. Ритмическая организация временных искусства основана на природных, антропологических ритмах, что является базой для многих общих принципов между ними. Так, ритмическая основа человеческой речи - акценты, цезуры, темп - может быть сопоставима с музыкой; ритмические движения человека -жесты короткие и длинные, движения плавные и энергичные - могут вызывать ассоциации и с музыкой, и с танцем.
Особенности жанровой интонации танцевальной музыки
Интонация как понятие, возникшее и развивающееся в областях языкознания и музыкознания, в настоящее время приобретает все большее значение в искусствознании и эстетике. Высказываются мнения, что интонация - «важнейшая общехудожественная категория» [140, с.69], а информация, заложенная в ней, составляет «первооснову человеческой коадаптации, генерирующий элемент информационно-полевого сознания» [148,с.61]. Слово интонация происходит от латинского intono - громко произношу. Смысл данного слова прямо и непосредственно указывает на: процессуальность данного понятия; личный, индивидуальный характер высказывания; определенность и конкретность высказывания, в то же время, предполагающую осмысленность и целостность. Именно данные свойства этого понятия, которые присущи всем его интепретациям в языкознании, музыкознании и искусствознании, позволяют рассматривать интонационность как особенность, прежде всего, временных, мобильных исполнительских искусств, связанных не только со словом и звуком, но и с движением. Интонация является живым исполнительским воплощением мысли -речевым, звуковым, пластическим в любых их возможных сочетаниях. Она может фиксироваться в виде литературного, режиссерского, нотного, хореографического текста, дублироваться с помощью аудио и видеозаписей, но это не способно изменить ее индивидуально - процессуальную вариативную природу. Интонация не существует вне «громко произносящего» — исполнителя. Это принципиально исполнительское явление, где, разумеется, первым исполнителем является автор - поэт, драматург, композитор, балетмейстер, дающий в тексте как семиотической системе приблизительную, схематизированную фиксацию своего варианта интонирования и понимания образного смысла произведения. Далее произведение живет своей собственной жизнью, интонируемое, интепретируемое исполнителями, вскрывающими и реализующими в исполнении свои интонационные смыслы. Исполнительское интонирование - это индивидуально - творческая конкретизация, актуализация, акционализация, опредмечивание смыслового подтекста произведения в контексте конкретных условий исполнения на основе авторского текста. И чтение, и исследование, и исполнение - это всегда живая попытка индивидуального интонационного осмысления текста, отличающаяся принципиальной вариативностью.
Глубокое изучение интонации в языкознании обусловлено тем, что вне интонации устная речь невозможна - это ее основное выразительное средство. Интонация является неким итогом сбалансированного взаимодействия языковых и внеязыковых факторов, характеризует говорящего и ситуацию общения. Выражая тончайшие оттенки чувств и особенности психического склада говорящего, интонация служит одним из основных средств создания художественного образа на сцене, в кино и в искусстве художественного чтения. Интонации эмоций могут соответствовать смыслу слов, или противоречить ему в случаях подтекста. В теории сценической речи рассматриваются такие явления, как интонационный план, интонационная перспектива.
В театроведении содержание понятия интонация получает оттенок истолкования текста режиссером: «В режиссерском театре истолкование и акцентирование уже не единственное занятие, и главное - оно выступает не только как прямое интонирование текста. Режиссерский театр - всегда зримое прибавление к авторскому» [84, с. 80]. К.С. Станиславский считал, что органическое переживание актера в ходе спектакля обеспечит органическое, как бы импровизационное единство звуковых и пластических интонаций. Большое внимание он уделял подготовке необходимых спектаклю интонаций актерами вне авторского текста, обходясь собственными словами.
Термин «интонация» достаточно широко используется в теории танца, однако, содержание его трактуется у разных исследователей неоднозначно.
Ряд исследователей в качестве синонимов использует термины «па -интонация» и «па - мотив» [25, с.77], «пластическая интонация» и «пластический мотив» [84, с.191; 41, с.8]. Подобное использование, в качестве равнозначных, понятий, относящихся к семантике и синтаксису, представляется не вполне корректным. Наиболее близким к нашему пониманию сущности интонации в хореографии является мнение Л.А. Ладыгина, который отмечает, что индивидуальные черты танцевания «представляют собой разнообразные психологические интонации, отражающие эмоциональные состояния исполнителя, его видение и понимание хореографического материала, взаимосвязей с музыкальной основой» [ ПО, с156]. Таким образом, можно сделать вывод, что под интонацией в хореографии следует понимать индивидуальное исполнительское образное «окрашивание», смыслонаполнение пластики движения. Термин «интонация» в истории музыкального искусства бытует давно и имеет различные значения. Интонацией назывались вступительное прелюдирование на органе перед пением хорала, вступительная часть перед григорианским песнопением, упражнения по сольфеджио. Интонация в современном смысле слова - явление несравненно более широкого характера. Она определяется как «выразительно-смысловое единство, существующее в невербально-звуковой форме, функционирующее при участии музыкального опыта и внемузыкальных ассоциаций» [ 236, с. 46]. Открытие данного содержания понятия интонации принадлежит исключительно русскому и советскому музыкознанию. В этой области трудились известные ученые, как Л. Л. Сабанеев, Б. Л. Яворский, но целостную интонационную концепцию музыки разработал Б. В. Асафьев, который всячески сближал словесную и музыкальную интонацию, а также интонацию «движенческую»: «Музыкальная интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой, она есть осмысление звучания, принадлежит конкретной социальной среде» [22, с.355].
Механизм функционирования в музыке жанровой интонации наиболее полно раскрыт в работах В.В. Медушевского. Рассматривая жанровую интонацию как языковой элемент, исследователь включает в свою теорию социально-психологическое ее бытование, факт закрепленности в человеческом сознании, а также рассматривает вопрос о способности интонации к типизации и обобщению, свертыванию отбираемых и закрепляемых в общественном сознании музьжальных сущностей на отдельных оборотах, приобретающих свойства узнаваемых смысловых единиц. Узнаваемые одномоментно, музыкальные интонации обобщают в себе разного рода виды музыкального содержания в результате художественного опыта. Эти интонационные обобщения хранятся в чувственной памяти человека в виде пластически ощущаемьж знаков. К таким образным знакам-интонациям относятся жанровые.
Музыкальная интонация может типизировать огромный запас жизненных явлений. Через типичные интонационно-пластические движения могут быть отображены: легкость, грузность, стремительность, равномерность, вращение, взлет, качание, резкие вздрагивания, размашистые, вкрадчивые, скорые, медленные движения.
Инвариантность в музыкальном исполнительстве
Особое значение приобретает инвариантность в сфере музыкального исполнительства. В отличие от пространственных искусств, временные искусства нуждаются в актах воссоздания своих произведений и посредничестве исполнителя. Объективно существуя в виде текста, (литературного, нотного, хореографического), такие произведения требуют исполнительской актуализации, чтобы обрести свое общественное бытие.
Исполнительство - вид творческой деятельности по воссозданию художественного произведения средствами исполнительского мастерства. В сфере мобильных искусств исполнение является обязательным условием их бытия как специфических форм общественного сознания, и, в то же время, одной из форм существования самого художественного произведения. Текст произведения искусства, являясь первичной формой его опредмечивания автором, в то же время, является сам по себе лишь потенциальной формой его существования, сам процесс исполнения является актуальной [94] или акциональной [148] формой существования произведения, и, в то же время, представляет собой единственный способ для внедрения его в общественное сознание.
Именно посредством исполнений как актов вторичного опредмечивания, произведения мобильных искусств обретают третью форму своего сущуствования - виртуальную или полевую. В исполнении свернутый, симультанный художественный образ приобретает временную координату и творчески реализуется, отражается, процессуально развертывается. Образная протоинтонация временных искусств может актуализироваться и непосредственно, в виде импровизации, представляющей собой особый вид художественного творчества, при котором произведение создается в процессе его исполнения. Это наиболее древний вид исполнительства, существовавший задолго до возникновения письменности и opus-музыки, произведений res facta, то есть записанных автором для последующего исполнения. Таким образом, именно исполнение является первичной обязательной формой существования мобильных видов искусства, вне которой невозможно их общественное бытие. Исполнительство как сфера интонационной актуализации музыкальных произведений — важнейшая ипостась музыкального бытия. Именно здесь находит варианты своего интонационного воплощения текстовый потенциал произведения при участии музыкального опыта и внемузыкальных ассоциаций исполнителя.
Исполнительский интонационный фонд базируется на интонациях первичных жанров, именно они составляют тот алфавит, с помощью которого излагается любой музыкальный текст. Степень уместности использования жанровых интонаций влияет на убедительность, доступность, коммуникативность интерпретации.
Специфическими особенностями исполнительства как вида творческой деятельности во всех мобильных видах искусства являются интонационность, через которую проявляется индивидуальное отношение исполнителя к исполняемому, и вариативность, принципиальная множественность трактовок исполняемых произведений.
Инвариант исполнительских отражений в музыкальном искусстве. В качестве инварианта бесконечного множества исполнительских трактовок музыкального произведения большинство исследователей рассматривают его графический текст, нотную запись, отмечая при этом, что запись лишь отчасти регламентирует образно-смысловую интерпретацию. Это обусловлено тем, что ковенциональность музыкальной семантики исторична, она всегда ориентирована на ту часть общества, для которой данная музыка предназначалась.
Следует отметить, что нотный текст, сочетающий свойства инварианта и, одновременно, в той или иной степени, авторского варианта интерпретации, не является собственно музыкальным произведением, а только семиотической системой, с помощью которой композитор в наиболее полной для его времени форме фиксирует свои художественные идеи. При всей своей схематичности, неполноте и неточности именно нотный текст позволяет исполнителям воспроизводить собственно музыкальное произведение. Он является единственной материальной основой исполнительской интерпретации. Грамзапись даже авторского исполнения не может служить основой интерпретации, так как в этом случае будет иметь место имитация, подражание одному из вариантов, а не творческое осмысление первоосновы множественности исполнений.
Нотный текст является не только фиксацией музыкального произведения в его «потенциальной форме», но и способом закрепления авторской (и редакторской) интерпретации его. Исходя из этого, казалось бы целесообразным «очистить текст» от авторских исполнительских указаний и строить свою интерпретацию независимо от них. Однако, если идти в этом направлении до логического конца и исключить все компоненты текста, которые могут нести черты авторской интерпретации, мы вынуждены будем отбросить все, кроме метроритма и звуковысотности. В реальной исполнительской практике подобный «принципиальный» подход выглядит абсурдом. Отбрасывая все авторские указания, связанные с характером исполнения, мы лишились бы единственных достоверных ориентиров, позволяющих приблизиться к осмыслению авторской образной драматургии произведения. Для понимания ее важны все элементы авторского текста. Для создания собственной интерпретации исполнитель должен с возможно большей степенью приближения попытаться пройти авторским путем, сжиться с авторской композиционно-драматургической логикой, чтобы затем на основе ее, но не обязательно в рамках ее, реализовать свое прочтение произведения.
Разумеется, в процессе исполнения произведения невозможно точно выполнить все авторские текстовые знаки и указания, даже самому автору это не под силу. Это заметно, например, при сравнении записи исполнения А.Н. Скрябиным собственных произведений с нотным текстом. Исполнитель, даже используя психологические методы самоотождествления с автором и исполняемым произведением, не сможет достичь здесь полной идентичности. Подобная заведомо неисполнимая задача и не ставиться. Однако обязательным является осмысление всех компонентов авторского текста, разделяя в нем знаки, относящиеся к объективно-композиционной и субъективно-интерпретаторской сферам. По мнению Е. Я. Либермана, «при всей содержательности, важности авторских интерпретационных знаков, они все же не принадлежат собственно сочинению и поэтому способны к изменению уже в авторском тексте» [116, с. 192 ]. Нотный текст - графическое отражение временного процесса развертывания музыкального произведения, и задача исполнителя - не просто определить его структуру, а, прежде всего, постичь его процессуальную логику во всей ее органичности. Именно в этом плане можно говорить об исполнении как «втором творении». Громадное значение имеет жанр произведения. При анализе текста следует обратить внимание на то, что часто заявленный в названии жанр не вполне соответствует его конкретному воплощению. Особенно важно увидеть совмещение жанровых признаков в сочинении, так как очень часто именно в нем - суть художественного открытия, выделяющего произведение из ряда ему подобных. Текст произведения - не набор, а система координат. Изменение любого элемента или даже повышенное внимание к какому-либо из них может привести к переосмыслению эстетического целого, к смысловой переакцентировке, радикально меняющей художественный результат. Вариативность исполнения любого произведения неисчерпаема, но не безгранична. Этой границей являются жанр произведения, его определяющий образный строй и стиль.
Танцевальная жанровая интонация и инвариант ее музыкально-исполнительского отражения
Особенности исполнительского отражения жанровой интонации танцевальной opus-музыки обусловлены ее изначальной синтетичностью. Однако именно эта синтетичность, гносеологические корни которой лежат в ранней синкретической стадии формирования временных искусств, в процессе эмансипации музыкального искусства как самостоятельного его вида, во все большей степени игнорировалась исполнителями. Причина невнимания к данной сфере интонационности, причем весьма сложной, специфической и жанрово разнообразной, в том, что с момента возникновения и до середины XX века все инструментальное исполнительство в той или иной степени сохраняло личную непосредственную связь с танцем. Инструментальное исполнительство, сформировавшись, прежде всего, для сопровождения танцев, в лице музыкантов-исполнителей сохраняло свою обслуживающую функцию вплоть до «эры магнитофона». Функции музыкального сопровождения танцев входили в круг профессиональных обязанностей музыканта-инструменталиста любого уровня в быту и по долгу службы. Эта личная уния с бытовой, бальной хореографией была естественна и самоочевидна: это было то, чему не надо учить, скорее, таперские навыки стремились преодолеть, расширяя жанрово-интонационный словарь исполнителя в сторону певучести, вокальности.
Следует вспомнить, что на протяжении всей истории музыкального исполнительства практически все выдающиеся музыканты-исполнители и педагоги всячески пропагандировали певучую манеру игры на инструментах, призывали учиться у хороших певцов, вводили пение как обязательный предмет для музыкантов всех специальностей в консерваториях, хотя пение в быту до последнего времени было распространено повсеместно. Но никто не призывал музыкантов учиться танцевать. Единственным исключением здесь является высказывание И.Ф.Стравинского в «Диалогах», написанных уже в середине XX века, упрекнувшего дирижера - исполнителя одной из симфоний Моцарта за то, что он «постоянно просит оркестр «петь» и никогда не напоминает ему, что надо «танцевать» [206,с.172].
Ранее данная проблема не возникала, так как хотя отдельные танцы уходили из обихода, но традиция танца в быту и сопровождения его исполнения музыкантами существовала всегда. Музыкант-исполнитель танцевал, «пропускал через мышцы» различные типы движений - шаг, прыжок, вращение и экстраполировал пластику знакомых движений на танцы малоизвестные или вовсе неизвестные, так как жанровый комплекс -ритмоформула, темп, мелодика служили для него достаточной информацией для интонационного осмысления пластических жанровых особенностей танцевального произведения. В любом случае танцевальность не подменялась маршевостью или декламационностью. Сужение «дыхательной» интонационности до декламационности, и «движенческой» - до маршевости и моторности лишает музыкальное исполнение интонационного многообразия и, тем самым, привлекательности для слушателя. Но если вокальность исполнитель может «почерпнуть» из жизненного и музыкального опыта, то танцевальность, интонационные истоки которой лежат в сфере другого вида искусства, остается вне сферы его тезауруса.
Обрыв функциональной связи инструментального исполнительства с искусством танца привел к постепенной деградации данной сферы жанровой интонационности в современной концертной практике. Для исполнительства — это второй переломный этап, по значению равный появлению нотаций. Тогда стал не нужен учитель для передачи традиции исполнения, теперь -звукозапись прервала связи инструменталистов с пением и танцем. Интонационное обеднение исполнительства в данном случае служит угрозой его отмирания.
Общая тенденция развития академического музыкального искусства в сторону рефлективности в сфере исполнительства привела к преобладанию медитативно-декламационного образно-интонационного комплекса в сочетании с маршевостью и моторностью. Акциональное воздействие музыкального исполнения на слушателя сужается вследствие ограниченности жанрово-интонационной палитры исполнителя, так как из арсенала его интонационных средств выразительности выпадает целый громадный (и изначально ведущий для инструментальной музыки) пласт танцевальной интонационности. Современные исполнители в большинстве случаев, с точки зрения жанровой интонационности, не возвышают, очищают, облагораживают вокальностью, не освобождают, веселят танцевальностью, а насаждают декламационность, сгоняют публику воедино маршевостью, или загоняют ее моторностью. Подобная переориентация неизбежно отразилась в «интонационных предпочтениях», которые имеют явную тенденцию к гипертрофии декламационности и моторности, к чрезмерным темпам. Повышенное внимание к техническому (то есть фоническому) качеству исполнения ограничивает «зону риска», то есть «зону игры», и тем самым -интонационности, то есть саму сферу искусства. При этом внутреннее пространство игры, преимущественно связанное с жанрово-ингонационной сферой танцевальности как сущностным отражением карнавальности, подменяется внешними формами шоу.
Публика ждет от игры — игры, и ей «дают» - но «не ту» игру, не «игру освобожденного сознания», отвергающую в танцевальной интонационности «духов тяжести», а внешнюю «игровую упаковку», переключая внимание с внутреннего интонационного процесса, на внешние аксессуары. Карнавальность покинула сферу интонационности и ищет опору во внешних, «организационных» формах. Как тенденция это не может не настораживать: fin de siecle, - «конец века»как эпоха кризиса всегда «уходил в карнавал», но не в эстетику танцплощадки без танца.
Жанр, как отмечает В.Н.Холопова, - источник номер один в формировании музыкальной семантики. Действительно, жанровые интонации обладают весьма точными лексическими свойствами, указывающими на типизированное содержание. По типу жизненных истоков они дифференцируются в музыке на интонации с опорой на дыхание (пение, декламация) и с опорой на жест, моторику (шаг, бег, танец).