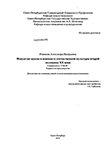Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Джексон Поллок. От живописи к живописи действия 89
Глава 2 Ив Кляйн. От картины к отпечатку и событию 152
Глава 3 Вещь в искусстве XX века 181
Глава 4 Клэс Ольденбург: «Искусство объекта» от 1960-х к 1990-м годам 222
Глава 5 Творчество Энди Уорхола как пример нетрадиционного концептуализма 243
Глава 6 Искусство, основанное на фотографии 283
Глава 7 Синди Шерман: «Бытие в пустоте глагола «быть» 312
Глава 8 Видеоискусство от 1960-х к 2000-м годам 338
Глава 9 Проблемы фигуративной живописи 1970 — 1990-х годов 371
Заключение 398
Библиография... 425
- Джексон Поллок. От живописи к живописи действия
- Вещь в искусстве XX века
- Творчество Энди Уорхола как пример нетрадиционного концептуализма
- Синди Шерман: «Бытие в пустоте глагола «быть»
Введение к работе
Актуальность исследования и его предмет
Данная работа посвящена систематическому исследованию развития актуального искусства второй половины XX столетия. Актуальный (от латинского actualis — деятельный) значит выразивший настоящее время сразу и целиком, задающий чувство времени и тем самым воздействующий на действительность. Однако работы об актуальном искусстве, особенно же о художниках второй половины прошлого века, редки в российской историографии, тем более, если речь идет как об отечественной, так и о западной культуре.
Предмет исследования ограничен во времени второй половиной XX века, когда искусство модернизма, со второй попытки, осуществленной в США, полностью реализует себя и переходит в середине — второй половине 1960-х годов в новую фазу — фазу постмодернизма, который к концу 1990-х также осознается исчерпанным. Такие временные рамки позволяют проследить динамику эволюции актуального искусства от его начал до современного состояния, показать сумму его предыстории, основные события новейшей художественной практики и возможные направления развития.
Изучение проблемы эволюции актуального искусства здесь основано на рассмотрении смены видов репрезентации или конвенциональных способов представления визуального художественного образа, которые были распространены в практике конца 1940 — 1990-х годов. К искусству первой половины XX века мы обращаемся в тех случаях, когда виды представления образа, которые рассматриваются в данной работе, проходят первый цикл жизни в 1910 — 1920-х годах, как, например, абстракция и объект.
Понятие репрезентации в теории актуального искусства наделено двуединым смыслом: оно одновременно отвечает и за визуальное представление образа художественными средствами, и за его интерпретацию. Оно характеризует и организацию экспозиционных пространств: музеев и галерей. Эволюционный ряд видов представления мира в актуальном искусстве XX века настолько нов и разнообразен, что в теории искусства из употребления фактически выходят понятия стиля и жанра. Радикально меняющийся предмет исследования требует обновления понятийного инструментария. Актуальность темы исследования связана с поиском таких объединяющих
типологических формальных и смысловых идей, без которых затруднено создание теории искусства XX века.
Изучение истории самопознания актуального искусства XX века, выбирающего своей проблемой собственно явление репрезентации образа, позволяет предложить в качестве инструментальных идеи «ничто» и «всё». Эти идеи описывают и формальные практики (распредмечивание / опредмечивание художественной формы), и изменения смысловых, символических задач, изменения представлений о непредставимом, возвышенном, если воспользоваться категорией И. Канта, которое свидетельствует о безграничности и всеобщности человеческого опыта. Кроме того, ничтожаще-всёческая репрезентация напрямую связана с социо-культурным контекстом авангарда, который выдвигает условием появления нового революционное ничтожение старого.
Идея ничто соединяет воедино начало и конец развития, запуская механизм эволюции. Интерес к этой идее в искусстве авангарда был подготовлен ходом развития европейской мысли, которое О. Шпенглер определил как тяготение к бесконечности. Проблематизация идеи ничто составила основу работ многих авторитетных философов, повлиявших на художественную мысль модернизма и постмодернизма (Гегеля, Маркса, Ницше, Хайдеггера, Сартра, Деррида, Бодрийяра и др.) и культурологов (Шпенглера, Ротмана). Два самых свежих примера исторических и философских исследований на данную тему: выставка и симпозиум в Баден-Бадене «Big Nothing. Противоположные подобия человека» (2001) и монография Брайана Ротмана «Означая ничто: семиотика нуля», несколько раз переизданная в 1990-х. Ферментная ничтожащая работа европейской мысли ведет к формированию в искусстве богатой субъективности пластических компонент.
Возможность альтернативной по отношению к ничтожащей (в частности распредмечивающей), а именно — всёческой репрезентации была открыта именно отечественной художественной практикой: в 1913 году, когда идея ничто обретает новый актуальный пластический символ в сценографии К. Малевича к опере «Победа над Солнцем», М. Ф. Ларионов и И. Зданевич предлагают плюралистическую или «всёческую» концепцию авангардного творчества. Обновленная идея искусства возникает и манифестирует себя в новых предметных формах. Один из аспектов «всёчества» позволяет рассматривать его как инверсию «ничтожения»: «всёки» признают все, и в том числе взаимоисключающие высказывания, потому что это — кратчайший путь к отрицанию. Всё, помысленное на фоне молчаливого присутствия ничто как итоговая,
желаемая форма развития или как тень, след ничтожения создает разнообразные и часто взаимно исключающие оттенки смысла: от пустого нигилизма до знака средостения бытия. Всё и ничто на протяжении XX века нераздельны: произведение символизирует всё и ничто не через бинарную оппозицию, а в ритме осцилляции, мерцания обоих значений в одном «теле» или на одном «месте», как это делают «Черный квадрат» Малевича или «Фонтан» Дюшана.
Рассмотрение искусства XX века через смысловую призму универсальных идей ничто и всё позволяет строить и общую картину культуры прошедшего столетия, и демонстрировать особенности этой культуры, отличающие ее от предшествовавшего исторического периода. Преимущество идей ничто и всё в качестве опорных, по сравнению с категориями формы / бесформия, которые Р. Краусс положила в основу искусствоведческой теории модернизма и постмодернизма, заключается в расширении рамок формальной проблематики. В сравнении же с такими влиятельными идеями модернизма, как витальность или прогресс технологий, которые использованы в работах А. Боровского и А. Якимовича, преимущество н.ичто и всё в том, что они глубже укоренены в историко-культурном дискурсе, их инструментальные возможности богаче и обеспечивают включение искусства в ситуации меняющейся современности, по мере того, как искусство движется от понимания к изменению и расширению себя.
Проблема репрезентации - это гносеологическая проблема, позволяющая исследовать как возможно знание; проблема ничто относится к области онтологии, отвечая на вопрос, «почему есть нечто, а не ничто». Сферой пересечения этих двух модальностей возможного и действительного является «субъективная всеобщность» (И. Кант), территория, формируемая эстетическим опытом, чувственно-сверхчувственными объектами искусства. Художественная практика XX века актуализирует именно точку схода бытия и возможности знания о нем, на что как раз и указывает ничтожаще-всёческая репрезентация авангарда, которая запускает энергетическую цепь «включений» бытия в предельно субъективных, «всёческих» и при этом стремящихся к несубстанциальности, к метафизике художественныхобразах.
Итак, проблема репрезентации в искусстве XX века исследуется на путях смысловой динамики идей всё и ничто, которые методически избраны в качестве структурообразующих.
Метод исследовании позволяет рассматривать актуальное искусство как особенный философский, эстетический и социальный взгляд на мир. Занимаясь
исследованием мировоззрения и мировидения, искусство становится философскоподобным, образуя единое проблемное поле. Элементы историографического, формального, социо-культурного и психоанализа соединены с рассмотрением философской проблематики, поскольку сам художественный материал развивается к метамедиалыюсти, и традиционные для второй половины XX века способы его научного описания являются междисциплинарными. Принципиальным является сопоставление философских и искусствоведческих вопросов, которые ставили перед собой в одно и тоже время историки искусства, как, например, Э. Гомбрих, философы, как М. Фуко, психоаналитики, как Ж. Лакан. Сопоставление данных из разных областей науки о человеке и обществе, полученных учеными, которые, возможно, и не думали соотносить результаты своих работ, способно произвести впечатление экстравагантного набора имен и сведений. Однако именно такая «съемка с нескольких камер» наиболее полно проявляет точки сборки, узлы, в которых формируется образ мысли данного времени. Именно соединение трех историй XX века: истории художественной практики, истории искусствоведческой теории, истории изучения искусства через призму новейшей философии — позволяет представить избранную нами проблему и метод ее исследования как историческую реальность второй половины прошлого столетия.
Цель исследования — реконструировать на основе изучения актуального искусства как способа миропонимания «объективные мыслительные формы» (К. Маркс) 1950 — 1990-х годов. На пути к исполнению этой цели, надлежит решить несколько задач:
избрав смысловые доминанты культуры, выделить основные виды репрезентации образа на каждом отрезке исторического развития;
исходя из общепринятой музейной «табели о рангах», предложить художника (или произведение), чье творчество наилучшим образом'реализует смысловую и формальную энергию в каждом виде репрезентации;
проанализировать массив интерпретаций и оценок этого творчества, представляя, как оно становится актуальным и почему свою актуальность утрачивает;
рассмотреть динамику радикальной смены видов репрезентации в искусстве 1950 — 1990-х годов и внутренние изменения в пределах каждого из них;
рассмотреть вопрос о том, сформированы ли искусством второй половины XX века общезначимые культурные (этические, эстетические и познавательные) ценности и каковы они.
Новизна исследования состоит в том, что в отечественной историографии в первый раз поставлена и достигнута двуединая цель представить общую картину развития искусства XX века с фокусом на его второй половине, исходя как из философской проблематики, из главных вопросов мировоззрения эпохи, так и из основных отличительных особенностей художественной практики, исходя из развития видов репрезентации образа. В настоящей работе впервые в отечественном искусствознании выстроена последовательность сменяющих друг друга инновационных форм представления образа: от абстрактной живописи 1950-х к искусству объекта 1960-х, к преобладанию фотографических форм в 1970-х, инсталляций и видеоинсталляций в 1980 — 1990-х годах. Впервые в отечественной истории искусства монографически исследуются целые отрасли художественной практики (объект, видеоарт) и творчество наиболее значительных художников второй половины прошлого столетия, а также подробно рассматриваются структурообразующие выставки актуального искусства.
Теоретическая и практическая ценность работы заключается в том, что материалы диссертации служат основой лекционных курсов по истории и теории искусства второй половины XX века, позволяют совершенствовать искусствоведческий анализ и критику в области новейшего искусства и его историографии. В научный оборот вводится обширный исторический, теоретический и критический материал.
Апробация работы. Материалы диссертации использовались как основа лекций, прочитанных и читающихся автором в Институте Pro Arte (1997 — 2001), Европейском университете (1999) и Смольном колледже свободных искусств и наук, филиале филологического факультета СПбГУ (2001 — по настоящее время). В свою очередь на основе лекций в сотрудничестве с Институтом Pro Arte в 1999 — 2000 годах были подготовлены учебные телепередачи в программе «Демо» и в издательстве Ивана Лимбаха опубликована монография «Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века», получившая более десяти положительных рецензий (см., например: Новый мир искусства. - 2003. - № 6. С. 56 - 57; Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре . - 2004. - № 2 (34). С. 131 - 133; Искусство. - 2004. - № 2. С. 111; Книжное обозрение. - 2004. - № 16 ,19 апреля. С. 5; Независимая газета. - 2004. -10 июня. С. 6; Критическая масса. - 2004. - № 3. С. 33 - 39). Отдельные положения диссертации также были представлены в докладах на конференциях: Тендерные проблемы (Остранение. Баухауз, Дессау, 8 — 12 ноября 1995 года), Творчество Тимура Новикова. К десятилетию неоакадемизма (Академизм сегодня. Брюссель, Музей современного
искусства в Остенде и галерея «Арт Киоск», 6 марта 1998 года),Третья техническая революция и авангардное искусство 1990-х годов (Искусство XX века. Итоги столетия. Государственный Эрмитаж, 4 декабря 1999 года), Энди Уорхол и коммерция (Энди Уорхол симпозиум. Государственный Эрмитаж, 30 октября 2000 года), Абстракция после 1960-х годов: Формы жизни (Абстракция в России. Пути и судьбы. Государственный Русский музей, 20 марта 2002 года), Радикальные идеи в искусстве Санкт-Петербурга (Искусство, средства массовой информации и политика в России, Национальный музей современного искусства, Осло, 28 мая 2004 года).
Джексон Поллок. От живописи к живописи действия
Одни из первых исторических оценок современного искусства были даны в книгах Г. Рида «Образ и идея» (1955), «Краткая история современной живописи» (1959), «Современная скульптура. Краткая история» (1964), Г. Зедльмайра «Революция современного искусства» (1955), Э. Гомбриха «Искусство и иллюзия: Исследование психологии живописной репрезентации» (1960), «Размышления об игрушечной лошадке» (1964) и В. Хофмана «Основы современного искусства. Произведение и его символические формы» (1965).
«Сущность любого произведения искусства [заключается] в реализации и манифестации. Подлежащее манифестации — это образ, в цвете, в словах, в звуках. Все прочее — это то, что Витгенштейн назвал "языковыми играми", не имеет ничего общего с искусством. Главная необходимость — чтобы художник создавал образы, не будь их, не будет и идей, и тогда цивилизация медленно, но неизбежно угаснет»55, — писал Г. Рид в эпоху зарождения концептуализма и дематериализации художественного произведения. Приверженность живописному образу как основе изобразительного искусства сближала Рида с позицией искусствоведения первой половины XX века, занимавшего ли академические позиции или допускавшего модернистскую живопись, но не перешагнувшего барьер превращения картины в вещь, барьер концептуализации живописи. Рид придерживался модернистской и, можно сказать, расовой идеи высокого художественного качества. Качество отнюдь не напрямую зависит от сделанности картины (качество как сделанность — признак салонного, кичевого искусства), но может быть достигнуто только в установлении связи с высоким смыслом и только при условии серьезного духовного настроя художника. Рид видел в искусстве второй половины XX века определенный культурный регресс и объяснял его влиянием технократического общества, усугубленным распространением массовой культуры. Как полагал Рид, «массы повсюду влекутся не к великому искусству, но к тому, что для искусства внутренне губительно — а именно к развлечениям»56. В другой его книге говорится: «Когда культура подвергается популяризации, "адаптации" для масс, она с необходимостью бывает разбавлена, подвергается кастрации и де-формации (в том именно смысле, в котором форма, заданная художником, разрушается, чтобы удовлетворить технологическим требованиям средств, будь то фильм или радио) ...Образы дотехнологического времени утрачивают свою силу»57. Упадок религиозного чувства — другое неизбежное следствие рационализма современной науки, которая узурпирует функцию искусства открывать истину. Таким образом, рационализм разрушает одновременно и понятие о святости, и понятие о красоте, и понятие об истине, которую только искусство делает видимой.
Позиция Рида в этом отношении близка взглядам Г. Зедльмайра, который распознавал в авангарде «ничтожное ничто» . К ничтожению искусства, по мысли Зедльмайра, приводят стремление подменить религию эстетизмом («святое искусство», появившееся в эпоху Просвещения, заканчивается фикцией автономии искусства и эстетикой безобразного, вторичного, насаждаемой ироническим негативизмом) а также обожествление вещи (идолопоклонство). К ничтожению искусства ведет и желание воспринять функции науки, удовлетворять идее прогресса. Технократия осуществляет безумный план строительства на земле небесного Иерусалима и подменяет духовный акт конструированием, распадом искусства как целого на материалистические, формальные элементы. Современное искусство, по мнению Зедльмайра, бессмысленно или наделено смыслом отрицательного примера и не способно породить общезначимый формальный синтаксис, в нем господствует случайность, как в мире материалистической ереси, хаотическом, лишенном духовного центра и твердой почвы . В работе «Проблема истины. Проблема времени» Зедльмайр называет футуризм и сюрреализм «ложными и демоническими», «упустившими возможность открыться истинному времени», попавшими во власть хронофагии или безвременья «кажущегося времени» . Он, следовательно, во многих пунктах предвосхищает таких критиков проекта современности, как Ж. Бодрийяр, автор теории симулякров, или Г. Дебор, первооткрыватель «общества спектакля», которые вслед за X. Ортегой-и-Гассетом описали культуру второй половины XX века как суррогатную, как плод делокализованного времени (П. Вирилио), хотя и не предполагая, в отличие от Зедльмайра, возможности возврата в какую-то истинную или эталонную культурную ситуацию.
В отличие от Зедльмайра, более открытый современности и непосредственно вовлеченный в практику сюрреализма Рид отождествил с истинным искусством своего времени три революционных направления: экспрессионизм, сюрреализм и абстракционизм, которые он противопоставил буржуазно-академическому реализму (соцреализму) и мертворожденному функционализму. Рид считал, что «искусство — внутренне неспокойно и всегда революционно. Потому, что художник, в меру своего величия, всегда готов к встрече с неведомым, и он приносит из этих своих столкновений новые символы, новое видение жизни, другой образ внутреннего мира»61. Ничтожное ничто в его картине мира обступает этот остров революционного творчества, надвигаясь сзади, из исторического прошлого европейского салона; и спереди — из пришедшего после второй мировой войны будущего: американского абстрактного экспрессионизма и поп-арта. Если бы не последнее обстоятельство, теории Рида, в той их части, где он пропагандирует индивидуалистический формализм, были бы весьма близки идеологу американской живописи 1940 — 1950-х годов Клименту Гринбергу, который, как и Рид, разделил искусство современности на авангард (модернизм) и ничтожное все вокруг него, то есть кич, куда включил и Дюшана. Рид, однако же, отказывает американскому абстрактному экспрессионизму в его претензиях на статус эсхатологической живописи: это — «поток... энергий, мускульных напряжений, которые если и наделены каким-то стилем, то только в том смысле, в каком им может быть наделен боксер или укротитель быков». Точно также — как скольжение к упрощенному массовому вкусу, сделавшему из интеллектуального сюрреализма приключения Джеймса Бонда, Рид оценивает и последующие американские новации: «Что касается "поп-арта" и "оп-арта", они имеют значение только как явления второго сорта, как попытки "десублимировать" искусство и, таким образом, поставить его на уровень одномерного общества, поп-арт стремится к этому путем разрушения границ между искусством и образами массовой коммуникации (рекламой и комиксами), оп-арт разрушает границы между искусством и научными "знаками"»62. Наряду с десублимацией, Рид упоминает и ее смысловую сестру — дегуманизацию искусства. Это — власть «неорганической формы» в культуре новейшего урбанизма, которая отбрасывает общество назад, на стадию «духовного неолита». Художник-будущник (в этой роли Рид видит Г. Арпа) должен преодолеть разобщение неорганической и органической формы, перенося свое творчество в среду (Рид употребляет ставшее в будущем термином слово «инвайронмент»),
«Именно искусство, а не наука придает значение жизни, не только путем преодоления отчуждения (от природы, от общества, от самого себя), но в смысле примирения человека с его судьбой, то есть со смертью. И не только со смертью в физическом плане, но с индифферентностью как формой смерти , с духовной случайностью. В этом отношении искусство обречено быть иллюзией, и величайшая иллюзия — требование смысла и ясности онтологического мифа о парадоксальном бытии»64. Примирение со смертью — это пульсирующее в очагах метафизической вечности всё, романтическая пустыня, внемлющая Богу, это искусство как величавая сень над мимолетностью человеческой жизни. Это, по словам самого Рида, готическая безбрежность, или «ничто, окутывающее всё». Рациональность такой системы — негатив алогизма, что облегчает Риду переход к иррациональному смыслообразованию в наиболее близком ему сюрреалистическом духе.
Вещь в искусстве XX века
Чувство современности, в том числе современное искусство, начинается с нового отношения к вещам. По крайней мере, так было в середине XIX века, когда в 1851 году Карл Маркс, посетив Всемирную ярмарку в Лондоне, поразился роскоши экспонирования промышленных товаров и задумался о явлении товарного фетишизма. Если в 1851 году промышленные товары впервые экспонировались с пафосом, как особо ценные вещи, то во второй половине века они уже участвуют в выставках наравне с произведениями искусства, то есть разделы промышленных товаров соседствуют с разделами живописи и скульптуры1. Теперь восхищение эпохи модернизма вещами зафиксировано даже экспозицией берлинской Новой национальной галереи: рядом с картинами де Кирико в витрине расставлены вдохновлявшие сюрреалистов шляпные болванки, деревянные формы для перчаток, железные распорки для обуви и другие заместители частей тела, произведенные промышленным способом.
Сами понятия «современное искусство» и «стиль модерн» связаны прежде всего с революцией в дизайне вещей, с проектом создания тотальной художественной среды, с выходом изобразительного искусства за пределы живописи или скульптуры в новую область творчества, пользуясь современным выражением — в область «инвайронментов».
Развивался и встречный процесс: внедрение вещи в сферу сюжетов и художественных средств высокого искусства. В демократической эстетике середины XIX века реальная вещь выразительнее, правдивее и сильнее в качестве сюжета для картины, чем какие-нибудь римляне времен упадка. Именно реалистическая эстетика обеспечила обыденной, простой вещи функцию выражения истинной ценности, которой раньше наделялись лишь предметы культа или произведения искусства. Известный спор о том, какую правду несут изображенные Ван Гогом стоптанные башмаки, который заочно вспыхнул между Мартином Хайдеггером и Мейером Шапиро, — Хайдеггер писал о башмаках крестьянки, а Шапиро доказывал, что изображены сапоги самого художника, и обвинял Хайдеггера в пропаганде «крови и почвы» — мог возникнуть только в такой эстетической ситуации, где истина и вещь уже отождествились на почве онтологии и телеологии.
Как показывает архетипический пример с башмаками Ван Гога, авангардисты приняли от демократов-жанристов эстафету продвижения «голой» вещи в искусство. Илья Зданевич (Ильязд) пользовался лакированным американским ботинком как аргументом в споре о художественном еще в январе 1912 года. На диспуте о новом искусстве, устроенном «Союзом молодежи», Зданевич говорил: «Искусство должно отражать современность. Иначе — оно не искусство! И, по-моему, пара ботинок, да, обыкновенная пара ботинок — современных — дороже, и выше, и полезней всех Леонардо да Винчи, вместе взятых. Джоконда — к черту Джоконду! Или возьмем современный автомобиль? Я предпочту автомобиль Веласкесам, Рембрандтам и Рафаэлям всего мира»4. На диспуте «Мишени» в марте 1913 года Зданевич снова использовал образ башмака, «подошвой отделяющего нас от ненавистной Земли»; он предъявлял публике ботинок и изображение Венеры Милосской на экране, утверждая, что ботинок прекраснее, «потому что чувство красоты башмака у нас автономно, тогда как о красоте Венеры Милосской мы судим под чужим, навеянным влиянием»5. И хотя Зданевич закончил свой доклад за здравие Азии и Золотой Орды и призвал к патриотизму и разрыву с Западом, его речь, безусловно, была инспирирована Маринетти, который отдавал предпочтение автомобилю перед статуей Ники Самофракийской.
Во втором высказывании Зданевича заметно новое, футуристическое содержание образа вещи: вещь мыслится уже как самоценный эстетический объект, утративший качество истинности-как-полезности; вещь готова «вылупиться» из демократических ограничений утилитарности, отлететь от Земли. И это радикально меняет понимание функции вещи в культуре, упраздняя демократические предрассудки прошлого, XIX века об общей пользе и заменяя их верой в вещь как аккумулятор чистой творческой энергии, как воплощение художественной воли. Эту содержательную эволюцию точно сформулировал Макс Дворжак в сравнении философских моделей искусства XIX и XX веков. В его известных схемах XIX столетие представлено окружностью, в центре которой — человек, а на периферии — Бог; причем имеется в виду, что человек познает из центра все мироздание, «опредмечивая» свои знания. Искусство начала XX века схематически отличается перемещением человека на периферию окружности, центр которой теперь занимают предметы. Но эти предметы как раз освободились от утилитарно-технической обусловленности XIX века и воплощают свободные космические энергии . Отсюда уже один только шаг до помещения картины о крестьянской вещи к истоку художественного творения, один шаг к тому, чтобы прозревать в вещи ее телеологию, ее причастность бытию. Но отсюда и один шаг к «человеку — биологической вещи» (И. И. Иоффе).
В истории XX века искусство объекта начинается не с прямолинейных футуристических деклараций Маринетти — Зданевича и не с возвышенного образа «вещи-сердца-мира», а с произведения, способного поставить в тупик, рассчитанного на то, чтобы ставить в тупик и — главное — оставлять в тупике. Хотя «Фонтан» Марселя Дюшана появился в 1917 году, четырьмя годами позднее велосипедного колеса и тремя годами позднее сушилки для бутылок, именно его история — история попытки провокационного внедрения одной серийной вещи в пространство художественной выставки — позволяет поставить вопрос о том, что означает появление «искусства объекта» в художественной культуре и как с появлением «искусства объекта» различать искусство и не-искусство.
Как известно, Дюшан, находясь в компании своих друзей и покровителей Уолтера Аренсберга и Джозефа Стелла и обдумывая, что бы послать на выставку в Салон независимых, посетил магазин Дж. Л. Мотта и выбрал там фарфоровый писсуар модели «Бедфордшир». У себя в мастерской Дюшан подписал эту вещь, перевернув ее сверху внизу, вымышленным именем Р. Матт, поставил дату «1917» и за два дня до открытия Салона отправил ее на рассмотрение выставочного комитета, приложив вымышленный адрес в Филадельфии, вступительный взнос в шесть долларов и этикетку с названием «Фонтан». Надо сказать, что Дюшан предварительно осмотрел готовящуюся к открытию выставку — «более чем две мили искусства», по его словам, где соседствовали две тысячи сто двадцать пять произведений более чем одной тысячи двухсот авторов; в их числе были гигантская гранитная статуя, представляющая христоподобного юношу, и абстрактный портрет принцессы Бонапарт работы К. Бранкузи, бронзовый бюст, многим посетителям напоминавший мужские гениталии. Развеска осуществлялась по алфавиту, соответственно, кубистические натюрморты висели рядом с академическими пейзажами, любительскими фотографиями, а также композициями из искусственных цветов. У входа располагалась картина Беатрис Вуд, представляющая голую женщину в ванне с куском мыла, приклеенным, по предложению Дюшана, на причинное место. За рамой этой картины некоторые посетители оставляли свои визитные карточки. Выставочный комитет этого «нового Вавилона» отказался принять «Фонтан», и он был снят перед публичным открытием.
Творчество Энди Уорхола как пример нетрадиционного концептуализма
По мере того как развивается история искусства второй половины XX века, формируется и пантеон абсолютных знаменитостей, главных художников эпохи. Среди первых имен в этом пантеоне — Марсель Дюшан и Энди Уорхол. Оба они поставили под сомнение критерий абсолютной ценности произведения искусства, понятие шедевра. Их собственные шедевры («Фонтан» 1917 года и «210 бутылок кока-колы» 1962 года) были инспирированы индустриальной эпохой. Оба они придавали исключительное значение основному продукту современного общества — информации. Дюшан говорил, что «если некий гений живет в самом сердце Африки и пишет удивительные картины, но их никто не видит, то он как бы и не существует»1. Однако на этом сходство между Уорхолом и Дюшапом заканчивается. И заканчивается оно вообще-то, не успев начаться, так как на самом деле трудно найти более непохожих персонажей в истории искусства XX века. Дюшан строил биографию гения в неоромантическом духе. Каждый его поступок и все его произведения исполнены загадочности и до сих пор плохо поддаются расшифровке. Не случайно Дюшана привлекала криптография, и он пародировал «Кодекс» Леонардо в «Записках из зеленого ящика»2. Пафос современности и массовой культуры как жизненная творческая программа был, в сущности, чужд Дюшану. Автобиография Уорхола, наоборот, отличается простотой, а его жизнь — абсолютной открытостью и публичностью, не говоря уже о том, что он никогда не превращал свои произведения в мистические ловушки для зрителей.
Единственное, что в Уорхоле было необычного и странного — это болезнь, которая обрушилась на него еще в детстве: в возрасте восьми, девяти и десяти лет он испытал три приступа «пляски святого Вита» (из-за этого его волосы и кожа потеряли пигментацию). Все эти приступы начинались в первый день летних каникул. Лето Уорхол проводил в постели, слушая радио или приключения Дика Трэйси, которые мама читала ему с сильным чешским акцентом, таким сильным, что он, по собственному признанию, почти ничего не понимал.
Уорхол родился 6 августа 1928 года в семье чешских эмигрантов. Время и место были бедными. Отец почти всегда отсутствовал, он работал в какой-то должности на угольных шахтах; единственное отчетливое детское воспоминание — длинная дорога в школу через чешское гетто. Дело происходит в городке Мак-Киспорт, штат Пенсильвания. Позднее Уорхол отметил, что «городским человеком», который неуютно ощущает себя на природе, его сделал именно этот Мак-Киспорт, потому что в больших городах есть хотя бы парки и сады, прирученная, но природа, а в Мак-Киспорте ни природы, ни культуры не было вообще. Предметом вожделения был шоколадный батончик «Херши», который давала ему мама всякий раз, когда он заканчивал страницу в книжке-раскраске.
Отучившись в школе, в возрасте семнадцати лет Уорхол поступил в Институт технологии в Питсбурге, названный в честь Карнеги, и оттуда в 1949 году перебрался в Нью-Йорк. В начале пятидесятых Уорхол жил в Нью-Йорке в коммуне студентов-художников, которая разместилась в подвале дома на углу 103-ей улицы и Манхэттен-авеню, — всего их было в этом подвале семнадцать человек. «Днями я кружил по городу в поисках заказов, и затем возвращался домой, чтобы всю ночь напролет работать. Такова была моя жизнь в 1950-х: поздравительные карточки и акварели, то там, то тут поэтические чтения в кафе. Что я больше всего запомнил из этих дней, если не считать длинных часов, проведенных за работой, — так это тараканы. Все квартиры, в которых я жил, были наводнены ими. Никогда не забуду унижения, которое я почувствовал, когда принес показать портфолио в офис Кармель Сноу в "Харперс Базар" и только лишь открыл его, как матерый тараканище выполз наружу и ловко спустился по ножке стола. Кармель Сноу прониклась ко мне таким сочувствием, что тут же взяла меня на работу» . С этого трагикомического (в передаче самого автора) эпизода начинается восхождение Энди Уорхола по профессиональной лестнице. К 1953 году он становится одним из ведущих рекламных художников в Нью-Йорке, а для души рисует иллюстрации к рассказам своего кумира Трумэна Капоте (в 1952 году эти иллюстрации были показаны в нью-йоркской галерее Хьюго). Но настоящая творческая биография Уорхола начинается в 1960 году.
В это время Уорхол делает картины по мотивам старых американских комиксов и популярных детективов, в частности «портрет» Дика Трэйси, о котором ему читала мама. В 1962 году он оставляет карьеру коммерческого художника ради авангардного искусства и занимает место в ряду основателей поп-арта, нарисовав банки томатного супа «Кэмпбелл» (портреты отдельных банок и картину «Сто банок супа "Кэмпбелл"»), «210 бутылок кока-колы», доллары, Мэрилин Монро и Элвиса Пресли. В том же 1962 году проходят его первые поп-артовские персональные выставки в галереях Ирвинга Блума в Лос-Анджелесе и «Стэйбл» в Нью-Йорке. В галерее «Стэйбл» он показывает так называемые «Танцевальные диаграммы» — копии самоучителей модных танцев (схемы шагов), размещенные на полу4. Кроме того, он становится участником важнейшей групповой выставки 1962 года «Новые реалисты» вместе с И. Кляйном, Арманом, Д. Споерри, Кристо, Ж. Тингели. В 1963 году Уорхол начинает заниматься шелкографией и осваивает киносъемку, сначала на 16-ти миллиметровой пленке, потом, со следующего года, — на 35-ти миллиметровой. Он делает фильмы «Сон» (шесть часов), «Поцелуй», «Еда», которые по типу больше всего напоминают видеоискусство, развившееся именно в 1960-е, но чуть позднее. Это «скучная», «бессмысленная» документация, бесконечные записи ежедневных событий самой обычной богемной жизни. В 1964 году он снимает свой самый знаменитый фильм «Эмпайр» (восемь часов неподвижного изображения верхних этажей Эмпайр Стэйт Билдинг) а также на второй персональной выставке в галерее «Стэйбл» показывает искусственно сделанные рэди-мэйды, совпадающие со своими прототипами один в один.
Такого рода искажения традиции дадаистских первоисточников вызывали отрицательные отзывы Марселя Дюшана, который как революционер и диссидент «снижал» пафос высокого искусства, экспонируя в галерее писсуар с мнимым автографом мастера на боку. Уорхол, подписывая искусную имитацию упаковки мыла, наоборот удостоверял этим жестом факт ее красоты, факт художественной ценности вещи, которая избрана быть искусством, просто потому, что понравилась. Об этом же говорит и сам процесс тщательной перерисовки этикеток консервных банок, — ведь каким еще способом художник выражает любовь к своему предмету, если не воссоздает его облик кистью или карандашом5.
За первые пять лет своего существования поп-арт стал очень модным явлением. Картины поп-артистов продавались дорого, и сами художники превратились в настоящих знаменитостей. Замечательная история случилась в 1965 году на открытии выставки Уорхола в Институте современного искусства в Филадельфии. Эта выставка была в каком-то смысле итоговой и для Уорхола, и для всего движения — она стала пиком поп-арта как современного искусства и началом преобразования его в историю. Уорхол пишет: «Там было четыре тысячи студентов, набившихся в две комнаты. Пришлось снять со стен все мои картины — мою "ретроспективу" — потому что их бы просто разнесли. Зрелище было удивительное — открытие художественной выставки при отсутствии заявленных произведений. Музыку включили на полную громкость, и все ребята подпевали "Теперь все кончилось" и "Ты меня по-настоящему заводишь".
Синди Шерман: «Бытие в пустоте глагола «быть»
Синди Шерман — актуальная художница, попавшая в американский рейтинг десяти известнейших художников мира1. Артур Данто упоминает ее как единственную современную звезду, которую знают все, как все знали Энди Уорхола . Ее творчество — теперь уже исторический феномен, оно насчитывает ровно четверть века. Все эти годы Шерман занималась исключительно постановочной фотографией; можно сказать, что в значительной степени благодаря Шерман постановочная фотография к середине 1980-х годов приобщается к музейному искусству. Все эти годы Шерман была и автором и собственной моделью. Одна из основных статей о ее искусстве, написанная Лорой Малвей, называется «Фантасмагория женского тела: Творчество Синди Шерман» . Название указывает на способность Шерман как модели быть призрачно изменчивой, фантасмагоричной. Но кроме того, сама произведенная в этом названии подмена слов — вместо «лица» Малвей пишет «тело» — говорит о конечном эффекте этой призрачности: об исчезновении лица, хотя оно-то, как правило, и есть главный инструмент фантасмагорий Шерман. Название говорит об иллюзии отсутствия субъекта в этом творчестве. Множество лиц здесь влечет за собой невозможность уловить главное из них. Почему Шерман предпочитает работать именно на такой эффект? Стала ли она именно в этом смысле звездой своего времени, постмодерна, отмеченного, по словам Ф.Джеймисона «смертью субъекта» или «концом индивидуализма как такового» .
Желание входить в разные роли было свойственно Шерман с юности, которую она проводила в кинозалах, учась в Государственном Университетском колледже в Баффало, в Нью-Йорке. Первоначально ей пришлось учиться живописи, поскольку она не смогла сразу поступить на отделение фотографии. Родилась Шерман невдалеке от Нью-Йорка в провинциальном штате Ныо-Джерси в 1954 году. Колледж она заканчивает в 1976, а за год до окончания делает серию «Без названия. А — Е» из пяти клоунских черно-белых фотографий самой себя — сладкой дамочки в вязаной шляпке, пария в кепке, насупленной девушки, девочки-подростка и надменной дамы в той же вязаной шляпке. Страсть к изменению своей внешности, к актерской «ирреализации себя в персонажах» (Ж.-П. Сартр) приводит ее в магазины «для бережливых», где продается старая одежда и аксессуары, которые сами подсказывают тот или иной образ. В этих найденных «образах нарядах» она появляется в публичных местах, выходит на открытия выставок в Баффало. Однако перформансами эти выходы она не считает, так как главным в них было не создание какого-то образа, но всего лишь переодевание, смена масок. Одна из исследовательниц искусства Шерман, Аманда Круз считает, что художница наследует феминистскому перформансу начала 1970-х годов, а именно работам концептуальных фотографов Адриан Пайпер и Элеаноры Энтин. Пайпер фотографировалась в сильно и (или) плохо пахнущей одежде в публичных местах Нью-Йорка; например, ходила по улице в футболке с надписью «Свежая краска». Энтин также фиксировала перформансы на фотопленке: она представляла разных вызывающих персонажей и тоже в публичных ситуациях, например, будучи миловидной женщиной, изображала грязного бородатого бродягу. В интервью Жанне Зигель, которое было записано в 1987 году, когда карьера Шерман достигла зенита — ретроспективы в Музее американского искусства Уитни, — она настойчиво повторяет, что всегда чуждалась искусства как иллюстрации теорий, в частности, феминистской теории и к созданию произведений подходила интуитивно. Влияние Адриан Пайпер она называет мистическим, так как только лишь слышала об этой художнице. Тем не менее, жесткая и агрессивная форма художественного поведения и самосознания Пайпер достаточно близка тому, как стала в 1980-е работать Шерман. Пайпер сделала лейтмотивом своего творчества расовую и тендерную самоидентификацию: вероятно, для нее самой, негритянки с белой кожей, диссонанс афроамериканской культуры, проходящий через душу и тело, является личным делом. Пайпер, как и многие другие герои радикального телесного перформанса, изменяла не только внешность, но и пол, осуществляя претензию художника-авангардиста быть божественной силой, задавать человеку судьбу. В 1975 году она представляла неизвестного юношу из третьего мира, который «слоняется в толпе... враждебный и выключенный из присутствия других»5.
Все художники, которых в этом интервью перечисляет Шерман, говоря, что они произвели на нее в молодости сильное впечатление, отличаются, во-первых, интересом к телесному перформансу, то есть к пограничным формам допустимого в обществе искусства, и, во-вторых, жесткими, а подчас и беспредельными способами обращения со своим телом и личностью. Это — Элеанор Энтин, Линда Бенглис, Роберт Моррис, Крис Бёрден, Ханна Уилки и Вито Аккончи. Шерман привлекает то, как они «используют самих себя в качестве потребительной стоимости, чтобы высмеять и эту потребительную стоимость... и «хип артмира». «Особенно, — говорит Шерман, — Аккончи повлиял как человек, который высмеял все — себя, артмир, сексуальность и свои занятия перформансом. ... Мне попался в руки каталог с серией картинок, изображающих места, куда можно спрятать пенис, и одним из них оказался рот его ассистента. Ничего себе, подумала я, на что людям приходится идти ради искусства. Однако когда он приехал в Баффало, я поняла, что он издевался над такими зажатыми людьми, как я. Видя, какой он мягкий и застенчивый человек, я поняла, как смешно все, что он делал»6.
Понимание того, что такое «хип» артмира, приходит к Шерман в результате общения со своими сверстниками и соучениками. В интервью Жанне Зигель Шерман рассказывает о том, в каких обстоятельствах она придумала произведение, которое сделало ее знаменитой — серию постановочных фотографий «Кадры из неизвестных фильмов». Желание создать кинематографический образ, работая в одиночку, приводит к осознанию того, как свойственный кино эффект присутствия перенести в фотокомпозицию: образ на фотографии должен выглядеть так, как будто он реагирует на что-то, находящееся вне рамы, тогда зритель автоматически будет ощущать чье-то соседство рядом с собой, отсутствие барьера между картиной и реальностью. Эта идея осенила ее совершенно случайно, когда она ждала окончания разговора об искусстве между двумя своими друзьями, соучениками и в недалеком будущем модными художниками Дэвидом Салле и Робертом Лонго. К участию в разговоре ее как «просто девушку» не приглашали, и она разглядывала картинки для детективного журнала, которые тогда перерисовывал Салле. Эти иллюстрации и, главное, то, как она сама чувствовала себя вытесненной из сферы действия, словно бы находящейся в неосвещенном зале, и привели Шерман к мысли сделать «Кадры из неизвестных фильмов». Между тем, именно благодаря Роберту Лонго Шерман познакомилась с актуальными кураторами и критиками. После окончания Университета Шерман и Лонго в 1977 году переезжают в Нью-Йорк.
Тогда теоретик постмодернизма и куратор Дуглас Кримп пригласил Лонго участвовать в выставке под названием «Картины», которая была показана в альтернативном выставочном зале «Artists Space» и оказалась первым манифестом американского постмодернизма. Статья Кримпа с одноименным названием «Картины», опубликованная весной 1979 года в журнале «October», стала одним из основополагающих постмодернистских текстов. В этой статье, которая была закончена уже после выставки, фотосерии Шерман «Кадры из неизвестных фильмов» отведено не меньше места, чем основным участникам экспозиции Джеку Гольдштейну, Роберту Лонго и Шерри Ливайн. Так, Кримп ретроспективно включил Шерман в число первых американских постмодернистов, а сама она в интервью 1987 года описывала какое-то свое оставшееся совершенно неизвестным произведение, сделанное для «Картин», — историю убийства из своих собственных изображений, вырезанных, как бумажные куклы.