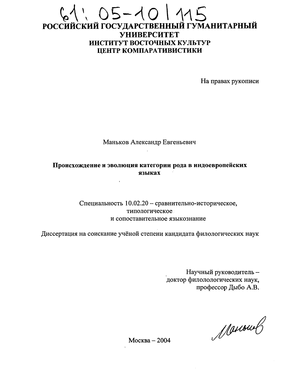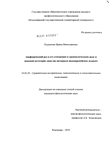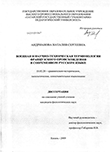Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Происхождение категории рода в индоевропейских языках - стр.9
Глава 2. Эволюция категории рода в индоевропейских языках — стр.36
1 Именные классы и семантически мотивированные парадигмы - стр.36
2 Германские именные классы в диахронии - стр.56
Заключение - стр. 113
Приложение 1. Новоисландская лексика активного класса - стр. 117
Приложение 2. Тематические группы новоисландской лексики активного класса — стр.146
Литература - стр. 165
- Происхождение категории рода в индоевропейских языках
- Именные классы и семантически мотивированные парадигмы
- Германские именные классы в диахронии
Введение к работе
В данной работе исследуется диахроническая структура индоевропейских именных классифицирующих категорий: даётся анализ категории рода (Глава I) и рассматривается развитие классификационных противопоставлений в историческую эпоху (Глава II). Особое внимание уделяется наименее изученному вопросу -возникновению новых форм классификации, заменяющих десемантизированную классификацию по родам.
Актуальность исследования
Происхождение индоевропейской категории рода - один из главных и наиболее трудных вопросов, стоящих перед сравнительно-историческим языкознанием. Трудность заключается прежде всего в том, что в большей части случаев не виден принцип отнесения существительных к тому или иному роду: уже в самый ранний период засвидетельствованной истории всех индоевропейских языков род является не только полностью сложившейся, но и десемантизированной категорией. Соответствия между засвидетельствованными формами говорят лишь о праиндоевропейском характере категории рода, но мало проясняют её диахроническую структуру. Актуальность проведённого исследования обусловлена тем, что несмотря на многочисленные работы, история трёхчленной системы родовых противопоставлений, которая представлена в индоевропейских языках, остаётся неясной. Кроме того, необходимо отметить полную неизученность проблемы новых форм именной классификации, возникающих в индоевропейских языках после десемантизации классификации по родам.
Цели и задачи исследования
Главными целями исследования являются следующие:
Рассмотреть этимологию формантов, связанных с именной классификацией.
Реконструировать эволюцию плана содержания классифицирующих категорий и установить факторы, определяющие направление этой эволюции.
Выяснить, есть ли в индоевропейских языках случаи возникновения новых способов именной классификации, заменяющих древнюю классификацию по родам или существующих наряду с нею.
В соответствии с этими целями были поставлены и решены следующие наиболее важные задачи:
Анализ функций формантов, выражавших именную классификацию на разных этапах развития индоевропейской морфологии. В связи с этим была дана относительная хронология тех реконструированных явлений, последовательность которых составляет предысторию трёхчленной категории рода исторических индоевропейских языков.
Анализ объективных предпосылок классифицирующей категории. Эволюция её плана содержания была поставлена в связь с развитием определённых аспектов мировосприятия.
Анализ системы существительного в исторических индоевропейских языках, направленный на выяснение вопроса о возможности развития; новой; классифицирующей категории. В результате была описана система новой именной классификации, возникшая в германских языках и заменившая десемантизированную классификацию по родам.
Научная новизна исследования
Новаторство проведённого исследования состоит прежде всего в использовании і материала внешнего сравнения в целях реконструкции истории категории рода. Новаторство работы также состоит в описании системы именных классов, возникших в германских языках и существующих наряду с десемантизированной классификацией по родам.
Изучение системы родовых противопоставлений должно ответить на вопрос, как складываются элементы этой системы, как они приобретают своё засвидетельствованное, историческое качество. Очевидно, что формирование категории рода целиком относится к праиндоевропейскому периоду и потому может изучаться только путём анализа реконструированных, а не засвидетельствованных форм. Из этого анализа с необходимостью следует восстановление ряда этапов в развитии праиндоевропейской морфологии, находящихся в самой тесной связи с теми процессами, рефлексом которых является категория рода. Восстановление закономерностей развития морфологии путём анализа реконструированных праиндоевропейских форм (т.е. путём внутренней реконструкции) показывает, что многие из этих форм возникают не в праиндоевропейском языке, а восходят к его языку-предку и, следовательно, имеют отражения в тех языках, которые,. наряду с праиндоевропейским, являются результатами развития этого языка-предка. Это служит основанием для использования, наряду с внутренней реконструкцией, внешнего по отношению к индоевропейской семье материала. Кроме того, практически любая глубинная внутренняя реконструкция всегда остаётся лишь одной из возможных
диахронических интерпретаций засвидетельствованных фактов. Единственный способ её проверки - это обращение к данным внешней реконструкции. "Лишь внешнее сравнение обеспечивает соответствующий контроль и позволяет выбрать единственный максимально приближающийся к реальности вариант исторической реконструкции из многих принципиально возможных" [Иллич-Свитыч 1971: 2]. Приводимые нами данные внешнего сравнения основаны на ностратической реконструкции в её наиболее обоснованном и убедительном виде, а именно, на работах В.М.Иллич-Свитыча1.
Не следует считать, что обращение к внешнему, неиндоевропейскому, материалу в целях объяснения индоевропейских фактов является объяснением неизвестного через ещё более неизвестное. Скептическое отношение к: опытам внешнего сравнения связано, по-видимому, с недооценкой возможностей метода "ступенчатой (или поэтапной) реконструкции". Эта недооценка является следствием представления; о реконструированных праязыковых формах как об условной абстракции, при которой неизбежно отвлечение от языковой реальности и пренебрежение фактами; чем глубже реконструкция, тем выше степень "абстракции" и тем значительнее потеря информации.
Однако при последовательном применении сравнительно-исторического метода никакой потери информации нет; праязыковая реконструкция, основанная на сравнительно-историческом методе, - это единственный способ установления закономерностей в регулярных соответствиях между засвидетельствованными языками [Дыбо 1994: 46]. Только путём реконструкции праязыковой формы можно объяснить развитие засвидетельствованных форм. В этом смысле "реконструкция более содержательна и информативна, чем отдельный языковой факт" [Дыбо 2003: 75, 77]. Хронологическое углубление реконструкции при соблюдении сравнительно-исторического метода само по себе не ведёт к потере информации. "Потеря информации происходит в том случае, если какое-то слово, форма, грамматическая категория или фонологическое явление некоего языка не включены в компаративистскую процедуру. Это бывает тогда, когда в родственных, языках указанного феномена нет, или он претерпел такие изменения (фонетические, семантические и под.), что мы на нашем уровне знаний не можем его опознать, или какие-то родственные языки так плохо описаны, что в их описание это явление не попало, хотя в самих язьжах оно есть. Если у нас есть близкородственные языки, мы можем сравнить это явление с аналогичными явлениями в них и установить его
1 Все необходимые обоснования ностратической реконструкции даны в первом томе "Опыта сравнения ностратических языков" [Иллич-Свитыч 1971]; мы офаничимся лишь краткими общетеоретическими замечаниями.
вторичность и тот прототип, из которого оно развилось, у этого прототипа могут обнаружиться соответствия и в дальне родственных языках. Если у нас имеется хорошо описанное языковое окружение, мы можем сравнить это явление (слово, например) с соответствующими явлениями в окружении и обнаружить, что оно является заимствованием. В обоих случаях путём* включения указанного явления в компаративистскую; процедуру мы восполняем- потерю информации. Отсюда непреложно следует, что лингвистическая реконструкция; тем точнее, чем больше "ступеней" может пройти компаративистская процедура" [Дыбо 2003: 76].
Единственное препятствие, возникающее перед лингвистической реконструкцией - это невозможность обнаружить какие-либо допускающие соотнесение элементы: в этом случае нет материала для сравнения и реконструкции* [Иллич-Свитыч 1971:3]2.
Если- в начале XX в.. ещё можно было ограничивать»задачу исторического языкознания изучением "последовательного развития от общеиндоевропейского к каждому данному языку" [Мейе 1938: 78], то в 30-е годы осознаётся необходимость изучения предыстории самого праиндоевропейского языка [Бенвенист 1955: 25]: его следует рассматривать "не как собрание неизменных символических знаков, а как язык в его становлении, раскрывающий в своих формах такое же: разнообразие происхождения и хронологии, как и у любого исторически засвидетельствованного языка", как язык, "хотя и восстановленный, но допускающий, тем не менее, генетический анализ" [Бенвенист 1955: 26]. Очевидно, что речь идёт о перенесении метода внутренней реконструкции с засвидетельствованных языков на язык незасвидетельствованный, в. данном случае, праиндоевропейский. Реконструкция развития праязыка и установление в нём относительной хронологии возможно прежде всего потому, что в засвидетельствованных языках отражены явления разных периодов истории праязыка, в том числе самых ранних. Исследование этих явлений во многих случаях позволяет дать историческое объяснение праязыковым = фактам. Образцами таких исследований могут,, в частности, считаться работы Э.Бенвениста [Benveniste 1935; Бенвенист 1955] и Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванова [Гамкрелидзе, Иванов 1984].
Однако, проблема в том, что глубинная праязыковая реконструкция, как бы логично она ни была построена, требует проверки фактами. Ими в данном случае могут быть только данные внешнего сравнения. Так, путём внешнего сравнения удаётся,
Невозможность реконструкции праязыка в принципе не означает отсутствие генетической связи. Однако доказать родство языков без (или в обход) реконструкции праязыка нельзя.
наконец, объяснить возникновение гетероклизии в праиндоевропейском (см. Главу I данной работы) и подтвердить предположение, что "эта флексия не принадлежала индоевропейскому языку в собственном смысле слова" [Бенвенист 1955: 26].
Мысль о проверке внутренней индоевропейской (и любой другой) реконструкции путём внешнего сравнения не нова. А.Мейе указывает: "Исторически объяснять индоевропейский язык мы будем в состоянии только тогда, когда: будет доказано ' его родство с другими > языковыми семьями, когда таким; образом окажется возможным; установить системы соответствий и при их помощи составить себе представление о доиндоевропейском периоде" [Мейе 1938: 81].
Родство индоевропейских языков с пятью другими языковыми семьями; — семито-хамитской; (афроазийской), картвельской, алтайской, уральской, дравидийской - было доказано в 60-е годы В.М.Иллич-Свитычем.Сходство морфем в ряде наиболее устойчивых лексических, словообразовательных и; словоизменительных элементов в языках- этих: семей подтвердило предположение о генетическом тождестве: этих элементов. В результате: были; построены системы фонемных соответствий между шестью праязыками.
Теоретическая значимость исследования
Как известно, одной из общих задач сравнительно-исторического языкознания: является: внутренняя реконструкция .развития праязыка с одной стороны и проверка этой реконструкции данными внешнего сравнения с другой; Исследование категории рода, представленное в данной работе, проводилось с учётом названных задач. Это определяет теоретическую значимость работы, которая заключается в следующем:
Дальнейшее уточнение сравнительно-исторического метода, заключающееся в привлечении данных макрокомпаративистики для» верификации внутренней праязыковой реконструкции, в данном случае индоевропейской.
Изучение истории индоевропейской категории рода: существенно для диахронической типологии грамматических категорий.
Практическая значимость исследования
Произведён этимологический анализ ряда индоевропейских словообразовательных и словоизменительных аффиксов, который5 может быть учтён в дальнейших исследованиях по индоевропейской именной морфологии и при составлении курсов по индоевропейскому языкознанию.
Произведён диахронический анализ определённого количества германских существительных, позволяющий ответить на вопрос о причинах отнесения к тому или иному роду и классу. В этой связи предложена модель статьи: для
этимологического словаря группы языков. Предложен также ряд новых этимологии и уточнений к имеющимся этимологиям, что может рассматриваться как определённый задел для этимологического словаря германских языков.
Апробация исследования
Гипотезы, выдвинутые в работе, и её результаты апробировались: на международной научной конференции "Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы" (филологический факультет МГУ). М., 2003; на семинаре Центра компаративистики Института восточных культур РГГУ (2002-2003 гг.); на семинаре по германскому языкознанию кафедры германского языкознания филологического факультета МГУ (2002-2003 гг.).
Структура исследования
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и приложений.
В первой главе рассматривается эволюция морфем, связанных с категорией рода: устанавливаются их функции в разные эпохи, в связи с чем выделяется несколько этапов развития именной морфологии от праностратического к позднему праиндоевропейскому. Рассматривается также ряд взаимосвязанных вопросов индоевропейского словообразования и словоизменения. Вторая глава посвящена эволюции классификационных категорий в исторических индоевропейских языках. Внимание уделяется здесь наименее изученному вопросу - возникновению новых способов именной классификации, заменяющих классификацию по родам. Глава разделена на две части. В 1-ой части дано теоретическое обоснование для решения указанного вопроса и рассмотрены виды новых именных классификаций. Во 2-ой части подробно рассматривается именная классификация в германских языках. Даётся как синхронный, так и историко-этимологический анализ лексики, позволяющий проследить те процессы, которые привели к возникновению новой классифицирующей категории. В Заключении приводится относительная хронология явлений, связанных с категорией рода, и уточняются определения "рода" и "именного класса". В Приложениях даны списки слов, необходимые для анализа именной классификации в германских языках (Приложения относятся к Главе II). Далее даётся список цитированной литературы.
Происхождение категории рода в индоевропейских языках
Происхождение индоевропейской категории рода - один из главных и наиболее трудных вопросов, стоящих перед сравнительно-историческим языкознанием. Несмотря на многочисленные исследования, диахроническая структура той трёхчленной системы родовых противопоставлений, которая представлена (или была представлена) во всех индоевропейских языках, кроме анатолийских, тохарских и армянского, остаётся неясной. Хорошо известна гипотеза о двух праиндоевропейских именных классах.— активном (одушевлённом) и инактивном (неодушевлённом), — на основе которых образовались три рода — мужской (т), женский (f) и средний (п); эта гипотеза представляет собой "образчик почти несомненной І дальней реконструкции" [Тройский 2001: 459]. В качестве праиндоевропейского показателя одушевлённого субъекта восстанавливается формант -s, неодушевлённого субъекта - -т и -0. Сравнение значений именных форм на -s и на -т, образованных от одного и того же корня, указывает на семантическую доминанту имён на -т (образующих впоследствии п): это обозначения неодушевлённых предметов, т.е. предметов, неспособных к активной деятельности. В противоположность этому, имена на -s (образующие шиї), представляют собой обозначения предметов одушевлённых, т.е. наделённых этой способностью. Очевидно, однако, что эти семантические доминанты не следует приписывать историческим родам: предсказать, к какому роду должно принадлежать обозначение какого-либо предмета в таких языках, как русский или латинский, невозможно. Семантическое противопоставление ти f с одной стороны и п с другой может быть прослежено только при субстантивации: в случае m и f указывается на лицо, в случае п - на не-лицо [Мейе 1938: 206]. Согласно традиционной схеме развития. рода предполагается, что при позднейшей перестройке первоначальной именной классификации активный класс разделился на два рода, m и f, чему с формальной стороны способствовала дифференциация имён активного класса (первоначально имевших единый формант -s), и совпадение форманта новообразованной группы имён с формантом множественности инактивных имён -а. Вместо прежней двучленной, установилась трёхчленная система именных классификационных противопоставлений; впоследствии отношения между m и f перестали отличаться от отношений между тип или f и п. Изложенная теория основана, в частности, на классической работе [Schmidt 1889]; её развитием являются известные исследования [Lohrnann 1932; Royen 1929]. Общей теории и типологии классифицирующих противопоставлений посвящены работы [Ельмслев 1972; Карпинская 1964; Ревзина 1970; Плунгян/Романова 1990; Корбетт 1992; Плунгян 2003: 146-157; Fodor 1959; Hasan 1973; Greenberg 1978; Serzisko 1982; Claudi 1985; Craig (ed.) 1986; Corbett 1990]. Специально об индоевропейском роде см. [Иоффе 1973а; 19736; Копелиович 1995]. Наше исследование также строится на; основании теории, согласно которой в праиндоевропейском было два именных класса, следствием перестройки которых стала трёхчленная категория рода. Из отечественных работ, теория праиндоевропейской именной классификации наиболее последовательно разработана в книге Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванова [Гамкрелидзе, Иванов 1984], где показано огромное значение классификационной дихотомии при складывании индоевропейской морфологии, как именной, так и глагольной . В данной главе решаются следующие основные вопросы:
1) Какие качества определяли восприятие одних предметов как одушевлённых, других - как неодушевлённых? (Более или менее очевидные случаи типа лат. pomus, -Т ж. фруктовое дерево pomum, -Г с. древесный плод немногочисленны.)
2) Как складывается формальное противопоставление имён, отражающее это различие в восприятии?
3) Имеет ли разделение имён активного класса на m и f какую-либо семантическую мотивацию?
Для решения поставленных выше вопросов необходимо прежде всего выяснить, при каких условиях ив какой позиции возникают форманты предполагаемых праиндоевропейских именных классов.
Существенно, что показатель прямого объекта и одушевлённых, и неодушевлённых имён совпадает с показателем неодушевлённого субъекта -т. Это совпадение показывает, что признак активности реализуется только тогда, когда предмет является і субъектом. В случае, если он занимает положение объекта, его активность нейтрализована. Очевидно, что два случая, употребления форманта -т весьма различны. Дифференциация субъекта п объекта обусловлена различием положений предметов относительно друг друга (такую дифференциацию именных форм можно назвать относительной). Дифференциация субъектов обусловлена наличием / отсутствием у денотата некоторого признака или качества (т. е. является классификационной дифференциацией). Третий тип дифференциации -субстанциальная дифференциация - обусловлен различием: сущностей денотатов и выражается в несовпадении корневых морфем. То, что дифференциация по родам является именно классификационной, а не субстанциальной, следует из того, что к одному и тому же роду принадлежат слова с разными корневыми морфемами, обозначающими разные сущности.
По-видимому, отнесение имени к тому или иному классу не всегда входило в акт номинации. Различное именование предметов — это следствие субстанциальной дифференциации, тогда как различие в классной принадлежности вызвано классификационной дифференциацией. Второй вид дифференциации не мог возникнуть одновременно с первым: прежде чем классифицировать предмет, абстрагируя определённый признак, человек должен был осознанно вьщелять этот предмет как особую субстанцию. Только вследствие такого выделения, выражавшегося в появлении новых корней, стало возможным не только различать сущности, но; и объединять их по какому-либо признаку. Как будет показано далее, классификационная дифференциация (выражающаяся, прежде всего, в различном маркировании субъекта) возникает на сравнительно позднем этапе развития языка; следовательно, субстанциальная; и относительная дифференциации имён являются более древними, чем классификационная.
Поскольку реализация признаков активности (одушевлённости) инактивности (неодушевлённости) зависит от положения предмета при совершающемся действии, её морфологическое выражение может появиться только при сочетании имени с глаголом в предикативной синтагме. Противопоставление по данному признаку иррелевантно при непереходном действии, поэтому позиция субъекта при глаголах непереходного действия не может быть позицией первичного формального противопоставления актива и инактива. Единственная позиция реализации признака активности (одушевлённости) - это позиция субъекта переходного (точнее, активного) действия (о диахронической связи, глагольных категорий активности — инактивности и переходности непереходности см. ниже). Однако предмет, занимающий эту позицию, может быть обозначен только активным именем: инактивное имя здесь невозможно, т. к. инактивный предмет не может быть субъектом активного действия (относительно сочетания инактивных имён с глаголом ср. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 297]). Следовательно, и в этой позиции не может возникнуть классификационная дифференциация.
Именные классы и семантически мотивированные парадигмы
Как было установлено в Главе I, праиндоевропейский показатель неодушевлённости -т восходит к словообразовательному аффиксу неодушевлённых имён, имеющему ностратическую этимологию. Использование этого -т в качестве показателя прямого объекта у одушевлённых имён вторично и является выражением снятия признака одушевлённости в позиции прямого объекта.
Показатель одушевлённости -s возникает вследствие распространения форманта субъекта активного глагола (позиция, в которой проявляется одушевлённость и которую могут занимать только одушевлённые имена) на позицию нейтрализации признаков одушевлённости неодушевлённости (т.е. на субъект инактивного глагола, где могут быть и одушевлённые, и неодушевлённые имена). Именно эта независимость форманта -s от позиции свидетельствует о его превращении в классификатор (ранее он был только і показателем активного субъекта) и об установлении классификационной дифференциации имён. Из всего изложенного следует реконструкция трёх главных этапов в развитии праиндоевропейской именной морфологии:
I. На первом этапе маркирование субъекта активного глагола и прямого объекта отражает проявление resp. снятие признака одушевлённости. Однако "одушевлённость" зависит от позиции: аффикс -s возможен лишь в позиции субъекта активного (т.е. управляющего прямым дополнением) глагола.
И. На втором этапе маркирование субъекта инактивного глагола аффиксом -s отражает независимость признака одушевлённости от позиции. Вьщеляется два класса имён: 1) с аффиксом -s (и, позднее -а/-а) в субъекте и активного, и инактивного глагола, и с -т в прямом объекте; 2) с -т vmyi - Z и в субъекте, и в прямом объекте. Денотаты имён 1-го класса мыслятся одушевлёнными, 2-го — неодушевлёнными; имена 2-го класса не могут быть в позиции субъекта активного глагола. Критерием отнесения предмета к одному из классов является его способность vs. неспособность совершать переходное действие.
III. Именная классификация проходила по признаку способности неспособности занимать позицию субъекта активного глагола. В этой позиции могли быть только имена на, -s и на -а/-а, т.е. одушевлённые. То, что в индоевропейских языках в. субъекте глаголов, управляющих прямым дополнением (т.е. генетически активных) обычны и имена на -т и -0, свидетельствует об устранении семантической обусловленности именных классов. Таким образом, на третьем этапе аффиксы -s, -а/а, -т, -0 перестают быть классификаторами; и превращаются в. парадигматические элементы. Прежние именные классы, утратив семантическую обусловленность, продолжают, однако, противопоставляться формально, что и создаёт деление на исторические роды.
Поскольку различное маркирование имён в одних и тех же позициях (прежде всего, в субъекте), становится немотивированным, оно не может быты устойчивым. Отсюда многочисленные случаи колебания в роде по языкам и даже в пределах одного языка. Везде происходит выравнивание и разрушение парадигм, что может привести к исчезновению- самой І грамматической категории рода. Мы не будем здесь рассматривать эти более или менее очевидные и уже хорошо описанные явления. Нас интересует обратный процесс,- а именно, случаи возникновения: новой именной классификации в исторических индоевропейских языках.
Далее рассматриваются два взаимосвязанных вопроса: 1) формирование германского слабого склонения существительных как семантически мотивированной парадигмы; 2) возникновение новой системы классификационного противопоставления существительных, основанного на семантически мотивированном различии парадигм.
Так называемое слабое склонение существительных (склонение нал18) СЛОЖИЛОСЬ. на основании группы имён, образованных посредством аффикса -п- (о его значении и этимологии см. Главу І): в основании данного словоизменительного типа лежит словообразовательная; модель. Кроме случаев, указанных в Главе I, аффикс -п-используется в существительных, обозначающих предмет по тому качеству или действию,, которое является его характерной, постоянной принадлежностью (лат. aquilo, -onis м. северный ветер к aquilus тёмный [Walde / Hofmann 1938 I: 60], erro, -onis M. бродяга к errare блуждать ).
Как говорилось, словообразовательный! аффикс -п- генетически идентичен аффиксу -п- в косвенных падежах гетероклитических существительных; в обоих случаях пие. -п- восходит к праностратическому форманту косвенной формы имён и местоимений -п, отражённой, как правило, в качестве формы род. п. Употребление формы; род. п. для обозначения - лица или предмета как "принадлежащего чему-л." широко распространено в хеттском: ср. taiazilas вор , возмещение за кражу ("(тот) кражи", "(то) кражи") к taiazil кража . Подобные формы первоначально ничем не отличались от форм типа пие. g hemon "(тот) земли", "принадлежащий;земле", т.е. человек , к (dh)g hem- земля . Ср. также германские существительные на -«-: гот. garazna им сосед к razn с.а дом , др.-исл. landi им земляк к land с.а земля, страна , bragnar им доблестные мужи (мш ч., в ед. ч. - Bragi - только как имя собственное) к bragr u.i внешний вид, образ; образец; форма поэтического произведения . В германских языках суффикс -п- был продуктивен при образовании как отглагольных, так и отымённых существительных (примеры см. далее). В древнегерманских языках этот суффикс был главным: средством образования имён деятеля [Kluge 1926: 15]. Это, разумеется, не значит, что все производные «-основы были отглагольными. Так, в скандинавских языках преобладают отымённые «-основыІ типа др.-исл. landi: им: земляк к land с.а земля . Количество отглагольных основ ограниченно вследствие наличия других моделей имён деятеля: с суффиксом -а- (др.-исл. brjotr и.а тот, кто наделяет чем-л. к brjota 2 в значении разделять, распределять , nautr и.а товарищ к njota 2 пользоваться 19) и с суффиксом, восходящим к лат. -arius20. Велико также количество непроизводных «-основ, унаследованных от праиндоевропейского (например, гот., др.-англ. guma, др.-исл. gumi м.п человек ; в данном случае речь идёт о непроизводности на германском уровне). Таким «-основам могут соответствовать другие типы основ в индоевропейских языках (ср. гот. qino ж.п женщина, жена и рус. жена; см. об этом ниже). В целом, образование имён деятеля является лишь одной из функций! суффикса -«-, имеющего более широкое значение суффикса имён лица. Продуктивность этой модели в германских языках была столь велика, что многие индоевропейские имена лиц на -о- и -а присоединили этот суффикс к основе, откуда и произошло определённое количество основ на an ( -а-п) и on ( -о-«); см. [Kluge 1926: 17, 34-36; 54]. Первоначально -«- был суффиксом имён деятеля; (тип гот. nuta ловец ) и имён лица (тип гот. garazna сосед ). Существенно, что имена деятеля на -«- могут быть как одушевлёнными, так и неодушевлёнными. Ср. др.-англ. flota м.п (к jleotan, fleat, fluton, floten плавать ), употребляемое в значении моряк в контекстах типа fife lagon on дат campstede \ cyningas geonge .... unrTm herges, \ flotena and Scotta (The Battle of Brunanburh 5-9) пять полегло на том поле битвы вождей молодых ..., бесчисленное количество войска, моряков и скоттов , и в значении корабль в контекстах flota woes on у дит (Вео. 210) корабль был на волнах ; gewat pa flota famlheals (Вео. 217-218) отправился тогда корабль пенношеий . Таким образом, одушевлённость иррелевантна при образовании существительных с суффиксом -п-.
По своей многочисленности (особенно в исландском языке) и-основы могут быть противопоставлены только всем другим склонениям, взятым вместе.
Германские именные классы в диахронии
Синхронный анализ слабого склонения показывает, что принадлежность существительных к этому типу словооизменения зависит от их лексического значения. По семантике данные существительные объединяются признаком активности. Под активностью в этом случае понимается приписываемая денотатам способность быть непосредственным источником действия или состояния. Возникновение указанного признака обусловлено значением суффикса ставшего основообразующим элементом: этот суффикс был наиболее продуктивным средством образования имён деятеля и имён лица в германских языках. Формирование слабого склонения на основе словообразовательной модели (суффикс -п-) естественным образом привело к семантической мотивированности этого склонения. Однако превращение семантически мотивированной парадигмы в именной класс возможно лишь тогда, когда существительные с определёнными значениями принадлежат (или тяготеют) только к одной парадигме. Представленный в данном разделе анализ диахронической структуры германских именных классов был осуществлён на основе приведённых соображений. Были поставлены следующие задачи: 1) Выяснить для каждого конкретного случая соотношение словообразовательных моделей при образовании существительных активного и инактивного классов. Какие модели являются наиболее употребительными для активных и инактивньгх существительных? 2) Указать, является ли закономерной принадлежнотсь существительного той или иной словообразовательной модели к одному из именных классов и установить в каждом случае семантическую мотивацию этой принадлежности с объяснением исключений. 3) Выяснить, является ли отнесение существительного к определённому именному классу общегерманским, или происходит независимо в каждом языке?
Мы взяли несколько корней на букву Ъ (пие. bh) и рассмотрели их отражения в готском, исландском, шведском и древнеанглийском языках. Таким образом оказались представлены все три группы германских языков. Материал организован по принципам этимологического словаря группы языков. Статьи построены следующим образом (мы ориентировались на модель этимологической статьи, разработанную В.М.Иллич-Свитычем в "Опыте сравнения ностратических языков"): 1) Первая цифра в номере статьи является номером прагерманского корня. Вторая цифра является номером производного с этим корнем. Производными считаются не только аффиксальные производные, но и аблаутные варианты корня. В случае, если аблаутных вариантов несколько, они даются в следующем порядке: 1) нормальная ступень с огласовкой е; 2) нормальная ступень с огласовкой а; 3) нулевая ступень; 4) продлённая ступень. Этот порядок может нарушаться в случае германского смешения рядов аблаута, а также если какая-либо огласовка выглядит явно первичной (по внешнему сравнению). Аффиксальное производство может, естественно, сопровождаться аблаутом в корне. Особую проблему представляют собой дескриптивные слова. Чередование гласных в них является не фономорфологическим, а фонетическим, и, следовательно, не связано со словообразованием (подробнее об этом см. № 9). Тем не менее, варианты дескриптивного корня не следует, как нам кажется, выделять в отдельные статьи. 2) Прагерманские формы разделены дефисом на морфемы и набраны жирным курсивом. В большинстве случаев приводятся не корни, а цельные слова с указанием рода и типа склонения у существительных и типа спряжения у глаголов. Прагерманская; форма даётся и в тех случаях, когда слово засвидетельствовано только в одном языке34. Арабские цифры указывают на класс сильных глаголов. Классы слабых глаголов в этом случае не указываются, т.к. в реконструированных формах виден основообразующий элемент. 3) Пометы указывают на германский (а не индоевропейский) именной класс. 4) Слова каждого из сравниваемых языков даются с красной строки в следующем порядке: готский; исландский; шведский; английский. 5) Для каждого слова мы старались давать максимально подробную грамматическую характеристику. В готском, древнеисландском, древнеанглийском у существительных указывается род и тип основы, у глаголов - класс. Классы сильных глаголов обозначены арабскими цифрами, классы слабых глаголов — римскими цифрами.
В новоисландском у существительных указывается род и арабской цифрой тип склонения. Классификация новоисландских существительных по типам склонения даётся на основе грамматики С.Эйнарссона, [Einarsson]. К типу м.1 относятся существительные, изменяющиеся как hestur, hattur, тог, hver, akur, stoll," himinn, Iceknir, songur; M.2 - smidur, dalur, leikur, veggur; м.З - hlutur, stadur, fatnadur, sofnudur,kottur, fjordur, hattur, sponn, sonur; м.4 —fadir, brodir, fotur, fingur, vetur, тадиг; м.5 — timi, afi, vilji, domari, bakari; м.б - nemandi, bondi. К типу ж. 1 относятся kinn, kerling, lifur, Hildur, heidi, a, stod, skel; ж.2 - tid, gjof, verslun, pontun, alin; ж.З - steik, mork, bok, bru, kyr, тддіг; ж.4 - tunga, saga, lilja, amma; ж.5 - lygi, cefi, frcedi. К типу с. Г относятся ford, barn, куп, tre, hreidur, medal, sumar, kvcedi, riki; c.T—auga, hjarta. N.B. Существительные типов м.5 и ж.4 (т.е. слабое склонение) всегда оканчиваются в им. п. ед. ч. на -/и на -а соответственно.
В некоторых случаях (например, при варьировании окончаний) указываются; окончания род. п. ед. ч. и им. п. мн. ч.: например, новоисл. Ьедиг м.2 (-jar//-s, -ir), где -jar/f-s - варианты окончания род. п. ед. ч., -ir — окончание им. п. мн. ч.; bakstur м.1 {-urs, -гаг), где -urs — окончание род. п. ед. ч., -гаг — окончание им. п. мн. ч. Классы сильных глаголов обозначены арабскими цифрами (в новоисландском классы сильных глаголов те же, что в древних германских языках). Классы слабых глаголов обозначены римскими цифрами. В соответствии с Эйнарссоном, к классу I относятся глаголы типа telja, II - dcema, III - Ufa, IV - elska. В случаях нетривиального словоизмения приводятся окончания и словоформы. Новоисландские слова, их характеристики и значения даются по нормативному толковому словарю [Bo5varsson]. Во многих случаях значения уточнялись по словарям [Blondal], [Haraldsson], [Magnusson].
В шведском арабскими цифрами указываются типы склонения и спряжения. При сильных глаголах даются формы претерита и супина. Если существительное не имеет мн. ч., указывается определённый артикль, например, barr, -et//-en, где -et//-en -варианты определённого артикля. Случаи даже самых незначительных отклонений по возможности учитываются (например, у существительных тогда даётся целиком форма определённого артикля и мн. ч.) Шведские слова и их грамматические характеристики даются по SAOL11 и SAOL12. Значения и контексты даются по нормативному толковому словарю NSSO. Использовался также фразеологический словарь SH.