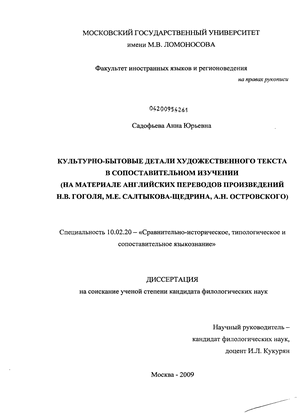Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Культурно обусловленные и культурно-бытовые детали и их тематическая классификация 14
1.1 Безэквивалентная лексика и ее классификация 15
1.2 Место культурно-бытовых деталей среди культурно обусловленных деталей текста 24
1.3 Тематическая классификация культурно-бытовых деталей 35
1.4 Функция культурно-бытовых деталей в художественном произведении 45
Выводы к главе 1 54
Глава 2. Использование культурно-бытовых деталей в произведениях русских классиков и способы их передачи на английский язык 57
2.1. Проблема переводимости/непереводимости культурно-бытовых деталей 58
2.2. Культурно-бытовые детали в повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 72
2.3. Культурно-бытовые детали в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина 87
2.4. Культурно-бытовые детали в пьесах А.Н. Островского 99
Выводы к главе 2 120
Глава 3. Трудности передачи культурно-бытовых деталей в переводе и способы их преодоления 123
3.1. Классификация трудностей, связанных с переводом культурно-бытовых деталей 124
3.2. Тип читателя и цель перевода 136
3.3. Рекомендации по преодолению трудностей при переводе культурно-бытовых деталей 142
Выводы к главе 3 154
Заключение 156
Библиография 166
- Безэквивалентная лексика и ее классификация
- Место культурно-бытовых деталей среди культурно обусловленных деталей текста
- Проблема переводимости/непереводимости культурно-бытовых деталей
- Классификация трудностей, связанных с переводом культурно-бытовых деталей
Введение к работе
Вопросы соотношения культуры и информации, заложенной, хранимой и сообщаемой в словах как элементах языка, давно привлекают внимание не только лингвистов, но и представителей других наук. Все особенности жизни определенного народа и его страны (такие, как природные условия, географическое положение, ход исторического развития, характер социального устройства, тенденции общественной мысли, науки, искусства, традиции, жизненный уклад, нравы) непременно находят отражение в языке. «Язык — это сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности — в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах поговорках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи» (Тер-Минасова 2000: 14). Можно утверждать, что язык представляет собой зеркало культуры какой-либо нации, он несет в себе национально-культурный код того или иного народа.
В каждом языке существуют слова, обозначающие предметы и явления, свойственные только данной культуре. Такие единицы языка называют реалиями. Согласно словарю О.С. Ахмановой реалии - это «1.В классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как государственное устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка с точки зрения их отражения в данном языке. 2.Предметы материальной культуры» (Ахманова, 1966, с.381). На современном этапе развития теории перевода под реалиями понимаются не только факты и явления культуры, но и слова, их называющие, и данная область переводоведения достаточно хорошо исследована. Существует большое количество работ, посвященных этой теме (Виноградов 2006: 105-122; Влахов, Флорин 2006; Федоров 2002: 199-215; Реформатский 1967: 139-145; Супрун 1958: 52-53). Например, СИ. Влахов И СП. Флорин отмечают, что «в переводоведении термином «реалия» большей частью
обозначают слова, называющие предметы, т.е. названия реалий» (Влахов, Флорин 2006: 20). А.В. Федоров указывает, что это «упрощенный и сокращенный способ выражения», рассчитывая, что термин будет понят правильно: «реалия — это слово (или словосочетание), а не объект (референт), названный им» Федоров 2002: 151). Но, кроме реалий, являющихся, несомненно, важной частью языка как средства отражения культуры, в текстах также встречаются слова, словосочетания, обороты речи и целые отрывки, в значении которых может быть выделена особая часть, отражающая связь языка и культуры, которая называется культурным компонентом семантики языковой единицы. О словах с культурным компонентом говорили Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в книге «Язык и культура», подразумевая под ними лексические единицы, «своеобразная семантика которых отражает своеобразие нашей культуры» (Верещагин, Костомаров 1976: 68). Помимо реалий в эту группу авторы включают слова с дополнительным фоновым или коннотативным значением. Эти понятия важны для теории перевода, так как акцентируют внимание на внелингвистической стороне значения слов, которая часто остается незамеченной переводчиком при работе над художественным произведением.
И.А. Стернин выделяет три основных макрокомпонента в лексическом значении слова: денотативный (понятие), коннотативный (дополнительный, включающий выражение эмоции, оценки и функционально-стилистические особенности слова) и эмпирический (обобщенное чувственное представление о предмете номинации). При этом ученый отмечает, что национально-культурное своеобразие может быть обнаружено во всех трех макрокомпонентах значения. «Национально-культурный компонент слова — это некоторая совокупность денотативных, коннотативных или эмпирических признаков, отличающих конкретное значение от его возможных переводных эквивалентов» (Стернин 1984: 144).
В работе «Непереводимое в переводе», посвященной, в основном, реалиям, СИ. Влахов и СП. Флорин вводят термин «ситуативная реалия». Под ситуативной реалией авторы понимают «элементы фона, которые передаются, с одной стороны, не отдельными лексическими и фразеологическими единицами, а описаниями, целыми кусками текста, и с другой, - содержащимися в отдельных словах намеками и аллюзиями» (Влахов, Флорин 2006: 202). Авторы отмечают, что термин неточен, так как охватывает довольно большой комплекс связанных с жизнью и культурой особенностей. Тем не менее, затронутая в книге тема открывает новую, малоисследованную область переводоведения, связанную с передачей фоновой информации и созданием колорита посредством не реалий, а других элементов текста.
Самым непосредственным образом культура отражается в художественной литературе, где слова даже широкой сферы употребления могут приобретать дополнительное значение. Автор может упомянуть какую-либо особенность жизненного уклада или национальную традицию, которая понятна представителю культуры языка оригинала, но останется незамеченной в переводе. Своеобразие описываемой культуры создается не только за счет слов-реалий как самых очевидных носителей национального колорита, а скорее, благодаря тем ассоциациям и образам, которые вызывают у читателя слова, обладающие дополнительной фоновой или коннотативной информацией, фразеологические обороты, описания нравов и обычаев. Все эти мелкие детали, которым иногда не придают большого значения при переводе, отражают особенности мышления представителей определенной культуры, часто формируют характер и объясняют поступки героев произведения, а также помогают автору достичь поставленной цели. Читатели с разным культурным фоном по-разному будут воспринимать один и тот же текст и трактовать действия героев, в их воображении будут создаваться разные образы.
Область внеязыковой действительности является мало исследованной в современной теории перевода. Труды по переводоведческому страноведению,
конечно, существуют, но их не так много (Швейцер 1973), и в основном это лингвострановедческие словари (Денисова 1978; Фелицина, Прохоров 1979; Трмахин 2000, Гузик 2004). На современном этапе развития межкультурной коммуникации необходимы исследования, которые будут привносить достижения МКК в теорию перевода. В последние десятилетия проблема сохранения национального колорита все чаще привлекает внимание исследователей. Изменились методы и способы перевода художественной литературы. В то же время, практика межкультурной коммуникации, в частности практика художественного перевода, продолжает предоставлять все новые и новые факты неточностей и искажений, обусловленных внеязыковой межкультурной асимметрией. Недостаточная изученность явления, лежащего в основе коммуникативных неудач, с одной стороны, и достаточно частая повторяемость этих неудач в практике межкультурного общения, в частности в практике художественного перевода, с другой, обуславливают актуальность настоящего исследования. В наше время существует необходимость наиболее точного отражения культуры языка оригинала при передаче текста на другой язык, а это невозможно без точной передачи внеязыковой действительности.
Актуальность данной темы состоит и в том, что в настоящее время возрос интерес именно к культуре России, и все чаще иностранцы обращаются к русской классической литературе. Существуют экранизации классических произведений русской литературы («Война и мир» режиссер Питер Йейтс, (1956), «Евгений Онегин» режиссер Марта Файнз (1998), «Анна Каренина» Жульен Дювивье (1948), «Доктор Живаго» режиссер Дэвид Лин (1965), режисер Джакомо Кампиотти (2002)), сделанные зарубежными режиссерами, которые часто становились объектом критики. Аудитория перевода на данный момент существенно изменилась по сравнению со второй половиной 20 века, когда было сделано большинство переводов русской классики: теперь представители культуры языка оригинала, знающие иностранные языки, также читают переводы русской классической литературы. Поэтому стало очевидно,
что необходимы новые переводы, нацеленные на новую аудиторию с новыми фоновыми знаниями. ,
Научная новизна исследования состоит в том, что анализу подвергаются не только реалии, которые чаще всего становятся объектом исследования, но - таюке и дополнительное значение', коннотация и фоновое значение, которые-при переводе остаются главным образом незамеченными. Данное диссертационное исследование связано с выявлением культурно обусловленных деталей (КОД) в тексте и предлагает некоторые рекомендации по работе с такими элементами художественного произведения при переводе его. на иностранный язык. Данный термин введен в настоящем диссертационном исследовании и под культурно обусловленными деталями понимаются слова, словосочетания и отрезки текста, называющие и описывающие предметы, явления, понятия, особенности жизненного уклада, традиции и нравы определенного народа, обладающие функциональной значимостью в тексте. Особую группу культурно обусловленных деталей составляют детали художественного произведения, затрагивающие сферу быта и отражающие особенности жизненного уклада народа, которые мы предлагаем назвать культурно-бытовыми деталями
ОВД-
Следует заметить, что культурно обусловленные и культурно-бытовые детали имеют статус динамических явлении. Определенная культурно-бытовая деталь может играть существенную роль в произведении в момент его написания, характеризовать героя и его жизненный уклад, сообщать читателю какую-либо дополнительную информацию не прямо, а лишь намеком. Часто в процессе исторического развития значимость таких деталей в произведении стирается, так как вместе с изменением исторической эпохи теряется определенный пласт знаний о ней. Для современного русского читателя таюке очень многое потеряно в произведениях русской классической литературы, и мы не воспринимаем всех ее граней, просто не замечаем большого количества
характеристик и намеков. Можно сказать, что даже для «своего» читателя в тексте можно выделить культурно-бытовые детали, которые имеют функциональную значимость, но остаются незамеченными.
Несмотря на яркий национальный, а иногда и временной колорит, такие детали поддаются переводу, однако трудности заключаются, во-первых, в их распознании, во-вторых, в умении подыскать наиболее лаконичную форму для объяснения или намекнуть на суть детали (например, как объяснить, зачем человек, зевая, крестит рот?). Работ, затрагивающих способы перевода таких деталей, практически нет, за исключением книги «Искусство перевода» (Левый 1974: 135-137). Данное исследование самым непосредственным образом связано с выявлением культурно-бытовых деталей, определением их функций и изучением способов их передачи.
Являясь элементами традиционного поведения определенного народа, отражающими его национальные черты, такие детали должны найти отражение и в переводе: если опустить, исказить или не разъяснить их, то читатель не получит верного представления о произведении или истолкует его для себя в свете своего национального менталитета.
Переводы русской классической литературы ставят множество проблем, связанных с качеством перевода и с тем, как воспринимаются произведения русской литературы читателями, не знакомыми с описываемой культурой. На протяжении всей истории теории перевода существовали взгляды, оспаривающие переводимость художественной литературы из-за невозможности передать культурную специфику. Решение данной проблемы может быть связано с выявлением тех деталей повествования, которые в определенной мере отвечают за создание культурной атмосферы, и изучением средств их передачи и факторов, влияющих на выбор этих средств. При правильной передаче этих деталей и толковании их значения у читателя другой культуры, возможно, возникнут чувства и образы подобные тем, которые старался пробудить автор.
Объектом исследования является довольно широкий спектр лексических единиц и иных элементов текста, которые в той или иной мере отражают особенности быта описываемой культуры. Культурно-бытовая деталь включает в себя реалии, зафиксированные в словарях; лексические единицы широкой сферы употребления, получившие в определенную историческую эпоху дополнительное коннотативное значение, не зафиксированное в словаре, но известное носителям языка; утерянные значения многозначных слов; устойчивые выражения, пословицы и поговорки, в состав которых входят слова, обозначающие явления и понятия, свойственные только данной культуре. Не следует также забывать, что в тексте литературного произведения могут присутствовать целые отрывки, посвященные описанию традиций и явлений культуры оригинала, или намеки и ссылки на определенные обычаи и порядки. Стоит подчеркнуть, что объектом исследования являются только те элементы текста художественного произведения, которые обладают функциональной значимостью, то есть которые играют важную для восприятия читателя роль в тексте, помогают сформировать представление об эпохе, персонаже, нравах. При игнорировании этих деталей образы будут неточными, часть содержания может быть не понята читателем, некоторые детали, объясняющие поведение героев, будут потеряны.
Предметом данного диссертационного исследования является изучение функционирования культурно-бытовой детали в тексте и способов ее передачи при переводе художественного произведения на иностранный язык. Несмотря на глобальные изменения в области межкультурной коммуникации, к сожалению, в настоящее время отсутствуют научные исследования современных тенденций в переводе вообще и в переводе художественной литературы в частности. Рассмотрение понятия «культурно-бытовая деталь», выявление функций и способов ее перевода потребовало анализа большого количества художественных произведений, а также трудов ученых в различных
областях, включая литературоведение, анализ текста, теорию перевода, стилистику и страноведение.
В качестве материала исследования выступают произведения Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»), А.Н. Островского (пьесы) и М.Е. Салтыкова-Щедрина (сказки) и их переводы на английский язык. Эти произведения были выбраны для анализа, так как в них отражен жизненный уклад различных исторических эпох и слоев общества, они наиболее ярко отражают культуру русского, а также украинского народа. Кроме того, эти произведения относятся к разным жанрам, что также очень важно при выборе способа перевода. На основании анализа способов перевода культурно-бытовой детали в произведениях данных авторов можно делать выводы, относящиеся к широкому спектру произведений художественной литературы.
Что касается повести Н.В. Гоголя, известны переводы Констанс Гарнетт (1923), Делано Эймса (1948), Дэвида Магаршака (1958), Р. Портновой (1943) и О. Горчакова (1950), то есть переводы, сделанные английскими, русскими переводчиками, а также русскими эмигрантами. В качестве основы нашей работы был выбран перевод Констанс Гарнетт, чтобы наиболее явно показать разницу в восприятии русской культуры представителем другой страны. Среди известных переводов пьес А.Н. Островского есть работы Джорджа Рапала Нойеса (1917) (его перевод был использован в данном исследовании) и Штефена Мульрине (1987). Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина были переведены на английский язык Дорианом Роттенбергом с дополнениями Джона Гиббонса (1951) и А.Р. Мак-Эндрю (1961).
Целями данного исследования являются:
определение термина культурно-бытовая деталь;
составление тематической классификации культурно обусловленных и культурно-бытовых деталей;
выявление функций культурно-бытовой детали в тексте художественного произведения;
выявление способов передачи культурно-бытовой детали;
определение критериев, влияющих на выбор способа перевода;
составление рекомендаций по переводу культурно-бытовых деталей. Методологической базой исследования являются труды, посвященные
проблемам перевода слов-реалий, безэквивалентной лексики, а также труды по литературоведению и лингвистике. Методы исследования:
метод наблюдения, т.е. выделения из текста тех или иных интересующих фактов и включения их в нужную категорию;
метод контекстуального анализа, т.е. изучение контекстуального взаимодействия элементов различных языковых уровней (синтаксических структур, контекстуальных значений слов, графических средств и др.) и их роли в выражении определенного содержания в тексте.
контекстологический метод, т.е. любое выделение и толкование значений слов в словарях различного типа;
энциклопедический метод, т.е. изучение значения слова в тесной связи с предметами и явлениями, которые они обозначают:
сравнительно-типологический метод, т.е. изучение сходства и различия языков, лексики этих языков;
метод сравнительно-сопоставительного анализа оригинала и перевода художественного произведения на иностранный язык.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что делается попытка дополнить общую теорию перевода новым понятием "культурно-: бытовая деталь", что позволяет иначе взглянуть на проблемы сохранения национального колорита при переводе и межъязыковой эквивалентности, устанавливаемой между текстами оригинала и перевода. Положения работы могут быть использованы для дальнейших исследований в области художественного перевода с целью максимального соответствия перевода оригиналу.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы для улучшения качества перевода художественной литературы. Кроме того, выводы и примеры могут быть использованы на занятиях по теории перевода, сравнительной культурологии и по страноведению. Подготовка специалистов по переводу не должна ограничиваться теоретическими вопросами. Необходимо также знакомить их с существующими переводами художественной литературы и на этих примерах изучать способы передачи и сохранения культурного фона.
Структура работы сформирована в соответствии с поставленными задачами. Текст диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии.
Безэквивалентная лексика и ее классификация
Понятие «безэквивалентная лексика», которое появилось во второй половине 20-го века в связи с сопоставлением языков, встречается в работах многих авторов (Г. В. Чернов, Я. И. Рецкер, В. Н. Комиссаров, А. Д. Швейцер, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, Л. С. Бархударов, СИ. Влахов и СП. Флорин и др.). К безэквивалентной лексике относятся различные группы лексических единиц, обозначающие явления и понятия, непосредственно характеризующие культуру и не имеющие эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат. В результате анализа работ, большинство из которых посвящено таким проблемам как, например, проблемы переводимости, проблемы межкультурной коммуникации, перевода реалий, безэквивалентной лексики, лексики, содержащей фоновую информацию, сохранения национального своеобразия подлинника и т.д., стало очевидно, что на современном этапе развития переводоведения не существует единой классификации безэквивалентной лексики. Чаще всего в работах лингвистов встречаются термины «экзотическая лексика» (Виноградов 2006: 114), «варваризмы» (Реформатский 1967: 137-139), «локализмы» (Финкель 1962: 112), «этнокультурная лексика» (Шейман 1982: 167), «культурно-коннотативная лексика» (Денисова 1998: 13), «фоновые слова», «слова с культурным компонентом» (Верещагин, Костомаров 1976: 68), «пробелы» (Ревзин, Розенцвейг 1964: 184), «(случайные) лакуны» (Бархударов 1975: 95) и др. К группе безэквивалентной лексики некоторые исследователи также относят фразеологические единицы, архаизмы, историзмы и неологизмы.
Термин «безэквнвалентная лексика» (далее - БЭЛ) встречается у многих авторов и чаще всего трактуется шире или уже как синоним понятия «реалия». Под реалиями подразумевают слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому. Так, В.Н. Комиссаров называет безэквивалентными «единицы исходного языка, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода» (Комиссаров 1990: 147). Болгарские лингвисты С. Влахов и С. Флорин дают свою дефиницию БЭЛ: «БЭЛ - лексические единицы, которые не имеют переводческих эквивалентов в ПЯ» (Влахов, Флорин 2005: 56-57). Я.И. Рецкер под «безэквивалентной» лексикой подразумевает «прежде всего, обозначение реалий, характерных для страны ИЯ и чуждых другому языку и иной действительности» (Рецкер 1974: 58).
Наиболее точным представляется определение Л.С. Бархударова. Под безэквивалентной лексикой он подразумевает «лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка (Бархударов 1975: 93). В данном параграфе перечислены все группы безэквивалентной лексики, выделяемые авторами, и составлена их классификация.
Л.С. Бархударов предлагает следующую классификацию безэквивалентной лексики: 1. Имена собственные, названия учреждений, организаций, газет, не имеющие постоянных соответствий в лексиконе другого языка. Например, русские фамилии: Карпиков, Пушнова, Цыкунов; или названия населенных пунктов: Алексеевка, Гаврипово-Посад и пр. — естественно, что никаких эквивалентов этим словам в английском языке нет, в отличие от таких фамилий как Пушкин, Достоевский или таких географических названий как Москва, Крым, которые уже давно получили устойчивые эквиваленты в словаре английского языка: Pushkin, Dostoevski, Moscow, the Crimea. He всегда можно провести четкую разграничительную черту между безэквивалентными именами собственными и теми, которые имеют в словаре другого языка постоянные соответствия, - то или иное имя собственное или географическое наименование, вначале не имевшее эквивалента в другом языке, может затем получить такое соответствие, причем точно установить время, когда окказиональный эквивалент перешел в устойчивый, не всегда возможно. Однако в целом можно считать, что к числу безэквивалентной лексики относятся имена собственные и названия малоизвестные для носителей другого языка (учитывая, конечно, что понятие «малоизвестный» является относительным и недостаточно строгим).
2. Так называемые реалии, то есть «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке» (Бархударов 1975: 95) . Сюда относятся слова, обозначающие разного рода предметы материальной и духовной культуры, свойственные только одному народу или группе близких народов: щи, рассольник, квас, сарафан, частушки, гопак, дом культуры, drugstore, drive-in, brain drain.
3. Лексические единицы, которые можно назвать случайными лакунами. Здесь имеются в виду те единицы словаря одного из языков, которым по каким-то причинам нет соответствий в лексическом составе (в виде слов ила устойчивых словосочетаний) другого языка. В словаре английского языка нет единицы, соответствующей по значению русскому слову сутки, так что данное понятие приходится передавать на английском языке описательно, либо путем. указания на количество часов, например, «I shall come back in twenty-four hours». Подобным образом в английском языке отсутствуют словарные соответствия русским существительным кипяток, погорелец, пооїсарище. С другой стороны, в русском языке отсутствуют лексические соответствия английским словам glimpse, fortnight, floorer, exposure (в значении «подверженность воздействию сил природы: дождя, солнца, ветра, холода») (Бархударов 1975: 94-96).
Классификация, предложенная Г. Д. Томахиным (1988: 32-38), вполне содержательна и приемлема, но не является самой полной, так как ученый приравнивает термин безэквивалентной лексики к понятию реалии, сужая тем самым круг БЭЛ. Г.Д. Томахин выделяет следующие группы реалий: топонимы, антропонимы, исторические факты и события в жизни страны, названия государственных и общественных учреждении, географические термины слова, относящиеся к общественно-политической э/сизни страны, системе образования, быту, обычаям, традициям и другие. С другой стороны, следует заметить, что классификация Г. Д. Томахина построена по предметно-тематическому принципу. Целесообразность группировки реалий по тематическому принципу основывается на традиции общей лексикографии, практике составления различного рода разговорников, учебных тематических словарей и словарных разработок (вокабуляров) по отдельным темам.
Представляется очевидным, что статус реалии и безэквивалентной лексики различен. СИ. Влахов и СП. Флорин также предлагают более четко отграничить БЭЛ от реалий. По их мнению, наиболее широким по своему содержанию является понятие БЭЛ. Реалии же входят в круг БЭЛ как самостоятельный круг слов. Отчасти покрывают круг реалий, но, вместе с тем, отчасти выходят за пределы БЭЛ термины, междометия и звукоподражания, экзотизмы, аббревиатуры, обращения, отступления от литературной нормы; с реалиями соприкасаются имена собственные (с множеством оговорок). Реалии входят в круг безэквивалентной лексики и составляют ее наибольшую и наиважнейшую часть. Кроме того, если какое-либо слово является реалией, то оно будет реалией независимо от языка, а безэквивалентность устанавливается в рамках данной пары языков. Это доказывается тем фактом, что разные пары языков имеют для каждого языка разные словари безэквивалентной лексики. Лакуны же, являясь единицами, не имеющими по каким-то причинам соответствий в лексическом составе другого языка, представляют собой отдельный пласт безэквивалентной лексики ("сутки" - "twenty-four hours"; "кипяток" - "boiling water").
Место культурно-бытовых деталей среди культурно обусловленных деталей текста
Культурно обусловленные детали, обозначающие явления и понятия, непосредственно характеризующие культуру, несут определенный компонент национального значения, олицетворяющий взаимосвязь языка и культуры. Исследователи по-разному трактуют понятие культурного компонента. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров культурным компонентом значения слова называют экстралингвистическое содержание слова, которое прямо и непосредственно отражает обслуживаемую языком национальную культуру (Верещагин, Костомаров 1976: 68). Национально-культурная специфика слова отдельно в словарях, как правило, не отражается и присутствует имплицитно потому, что с каждым словом связано огромное количество ассоциаций. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, даже слова, имеющие «эквиваленты» в других языках, не совпадают полностыо во всех своих значениях, что выявляет их культурную обусловленность (ср. дом и home/house) (Тер-Минасова 2000: 56-57).
Как отмечено выше, в работах, посвященных культурно обусловленной лексике, используются следующие термины: «безэквивалентная лексика», «экзотическая лексика», «варваризмы», «локализмы», «этнографизмы», «этнолексемы», «этнокультурная лексика» или «этнокультуроведческая лексика», «культурно-коннотативная лексика», «страноведческая лексика», «алиенизмы», «фоновые слова», «коннотативные слова», «слова с культурным компонентом», «пробелы», «(случайные) лакуны», «слова с нулевым эквивалентом» и др. Эти понятия роднит национальная, историческая, местная, бытовая окраска, отсутствие соответствий (эквивалентов) в языке перевода, а в отношении некоторых - и иноязычное происхождение. Необходимо определить соотношение этих терминов с понятием «культурно обусловленная деталь» и «культурно-бытовая деталь» и дать определение этих понятий. Прежде всего, следует провести границу между понятиями «реалия», «культурно обусловленная деталь», с одной стороны, и «культурно-бытовая деталь», с другой. Стоит отметить, что понятия «культурно обусловленная деталь» и «культурно-бытовая деталь» несколько шире, чем понятие «реалия», так как включают в себя не только слова и словосочетания, но и отрезки текста, а также слова, содержащие дополнительную фоновую информацию, не зафиксированную в словаре. В свою очередь, понятие «культурно-бытовая деталь» несколько уже, чем «реалия» в тематическом плане, так как касается только деталей, связанных непосредственно с бытом. Кроме этого, оба введенных нами понятия касаются только деталей текста, выполняющих важные художественные функции, в то время как реалии являются словарными единицами и остаются ими и вне контекста.
Употребление термина «локализм» в качестве синонима культурно обусловленной детали, с одной стороны, приближает ее к таким понятиям как «диалектизмы», «областная лексика», а с другой, сильно сужает представление о действительном содержании понятия; его можно было бы отнести лишь к незначительной группе культурно обусловленных деталей, обозначающих «местные предметы», но лишенные национального и/или исторического колорита. То же касается и присвоения культурно обусловленной детали названия «бытовое слово», т.к. к культурно обусловленным и культурно-бытовым деталям относятся не только слова, но и словосочетания и отрезки текста.
Термины «этнокультуроведческая лексика», «этнокультурная лексика», «этнолексемы» - «...словарь, характеризующий систему знаний о специфической культуре определенного народа как историко-этнической общности людей...» (Шейман 1982: 167), - во многом соответствуют развиваемому в данной диссертации представлению о культурно обусловленной детали, может быть, за исключением привнесения этнографического и культуроведческого компонента (так как для диссертации характерен, главным образом, переводоведческий подход). Однако преимуществом этих терминов является принятие культурно обусловленной детали как системы.
И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг, цитируя А. Мальблана, обращают внимание на употребляемое им понятие «пробел» (lacune) по отношению к случаям, «когда ситуации, обычные для культуры одного народа, не наблюдаются в другой культуре» («пробел», видимо, в смысле отсутствия соответствии в другом языке) (Ревзин, Розенцвейг 1964: 184). С точки зрения теории перевода «пробел» не может быть ни синонимом, ни признаком культурно обусловленной детали.
«Слова с культурным компонентом» обозначают в лингвострановедении лексические единицы, «своеобразная семантика которых отражает своеобразие нашей культуры» (Верещагин, Костомаров 1976: 68). С точки зрения теории перевода эти понятия интересны потому, что, во-первых, они серьезно и целенаправленно сосредоточивают внимание переводчика на внелингвистической стороне значения многих слов, которой часто пренебрегают, и, во-вторых, многие из этих слов либо представляют собой истинные культурно обусловленные детали, либо обладают некоторыми чертами, общими с ними.
Термин «варваризм» (Реформатский 1967: 137-139), а у некоторых авторов и «экзотизм», связан с культурно обусловленной деталью, так как большинство дефиниций включают и «описание чужеземных обычаев, особенностей жизни и быта (реалии)», «создание местного колорита» и др. Все это, по существу, прямое перечисление характерных для культурно обусловленной детали признаков. По-видимому, «варваризм» следует считать термином только лексикологии (и стилистики), не имеющим соответствий в переводоведении. Культурно обусловленные детали, в отличие от варваризмов, 1) могут быть и исконными, не заимствованными, 2) не обязательно чужды языку по свой структуре и 3) не имеют, как правило, слов-двойников, равноценных по смыслу, а, следовательно, не могут быть легко переведены; кроме того, 4) многие из них фигурируют в словарях, в том числе и толковых. Так что культурно обусловленная деталь может быть варваризмом только как исключение.
Таким образом, многие из авторов, говорящих о безэквивалентной лексике, не затрагивают такое широкое поле для исследований, как культурно обусловленная деталь. Они дают приблизительные, неполные определения, отмечая лишь те или иные признаки, освещая ту или иную сторону, употребляя неодинаковые термины для их обозначения. Значительно ближе к использующемуся в диссертации толкованию понятия «культурно обусловленная деталь» определение реалии Л.Н. Соболева, где «термином „реалия" обозначаются бытовые и специфически национальные слова и обороты, не имеющие эквивалентов в быту, а, следовательно, и в языках других стран» и «...слова и словосочетания из национального быта, которых нет в других языках, потому что нет этих предметов и явлений в других странах» (Соболев 1955: 290).
Для того чтобы дать наиболее полное и точное определение культурно обусловленной детали, необходимо уточнить все ее признаки. В плане содержания отличительной чертой культурно обусловленных деталей является характер их предметного содержания, то есть тесная связь обозначаемого или описываемого предмета, процесса, понятия, явления с народом или страной с одной стороны и историческим отрезком времени - с другой. Следовательно, данным деталям присущ соответствующий национальный или исторический колорит.
Проблема переводимости/непереводимости культурно-бытовых деталей
Рассмотрение вопроса об использовании культурно-бытовой детали для создания национального колорита вплотную подводит к другому вопросу, также важному при переводе художественной литературы. Это вопрос о возможности передать национальное своеобразие оригинала, выраженное в культурно-бытовых деталях, в той мере, в какой оно связано с его языком, что в свою очередь затрагивает проблему переводимости/непереводимости.
Проблема переводимости/непереводимости является, как известно, одной из центральных проблем перевода вообще, и художественного перевода, в частности. В эпоху Возрождения Данте писал о том, что ничто из того, к чему прикоснулись музы, не может быть перенесено с одного языка на другой без утраты своей прелести и гармоничности (Тюленев 2004: 18). Можно привести много таких высказываний. Но следует обратиться к концептуальным позициям, в которых предпринимаются попытки не просто высказаться против перевода, но каким-то образом объяснить феномен непереводимости или ограниченной переводимости.
Еще В. Гумбольдт отстаивал идею о невозможности перевода: «Всякий перевод представляется мне, безусловно, попыткой разрешить невыполнимую задачу, ибо каждый переводчик должен разбиться об один из двух подводных камней — слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет языка подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только труднодостижимо, но и просто невозможно» (Федоров 2002: 42).
Обычно эта цитата расценивалась как мысль, непосредственно вытекающая из лингвистических и философских воззрений Гумбольдта, недоверия к переводу, но на это можно посмотреть и по-другому. Конечно, здесь можно было бы поспорить с классиком, сославшись на эмпирическую переводимость, т. е. на блестящее подтверждение переводимости, которое опирается на опыт переводческой практики. Но то, что писал Гумбольдт, метафорически говоря о подводных камнях, великолепно отражает сущность любого перевода, и в первую очередь перевода художественного. Именно в этом и заключается один из основных парадоксов перевода, который выражается в противоречивых требованиях, предъявляемых к переводу, когда говорят о том, что он должен ориентироваться на культуру языка реципиента, на нормы языка реципиента и в то же время быть верным оригиналу, быть верным его духу, его культуре, традициям и т. д. В этом отношении Гумбольдт очень четко отразил сложность и многогранность переводческого процесса, которую не следует упрощать. Но все же полностью отрицать возможность перевода не имеет смысла.
На русской почве идеи В. Гумбольдта развивал А.А. Потебня. Он подчеркивал, что языки ассиметричны, что проявляется в лексико-грамматических и эмоционально-стилистических структурах. Слово одного языка не совпадает со словом другого. Еще менее вероятно совпадение сочетаний слов. В итоге, по мнению Потебни, непереводимы многие остроты, фразеологизмы, не совпадают мысли оригинала и его перевода.
В 1930-х гг. в США была разработана теория, согласно которой структура языка определяет структуру мышления и тот способ, каким человек, говорящий на данном языке, познает окружающий мир. Авторы этой теории, иначе называющейся гипотезой лингвистической относительности, - Э. Сепир и Б.Л. Уорф. Гипотеза Сепира-Уорфа долгое время воспринималась как прямое доказательство невозможности перевода в силу различия природы языков, их структуры и мышления людей. Однако не следует отождествлять гипотезу Сепира-Уорфа с теорией непереводимости: это является заблуждением - ни Э. Сепир, ни Б.Л. Уорф в своих работах не говорили о невозможности перевода с одного языка на другой, они лишь утверждали различие мировоззрений у людей, владеющих разными языками: «Мы видим, слышим или иным образом воспринимаем действительность так или иначе, потому что языковые нормы нашего общества предрасполагают к определенному набору интерпретаций» (Звегинцев 1965: 233). Они не отрицали возможность владения двумя языковыми системами и, соответственно, вхождение в две разные культуры -по крайней мере, ни в одной из их работ такой мысли не содержится.
Причиной такого распространенного заблуждения, как приписывание Э. Сепиру и Б.Л. Уорфу идей о невозможности перевода, является смешение понятий «перевод» и «понимание». Сам Сепир замечает: «Поскольку у каждого языка есть свои различительные особенности, постольку и присущие данной литературе формальные ограничения и возможности никогда не совпадают вполне с таковыми же любой другой литературы. Литература, отлитая по форме и субстанции данного языка, отвечает свойству и строению своей матрицы. Писатель может вовсе не осознавать, в какой мере он ограничивается или стимулируется или вообще зависит от этой матрицы, но как только ставится вопрос о переводе его произведения на другой язык, природа оригинальной матрицы сразу дает себя почувствовать» (Сепир 1934: 174). Это наблюдение кажется вполне справедливым, и именно от него отталкиваются сторонники теории непереводимости. Действительно, сам Э. Сепир замечает: «Кроше совершенно прав, утверждая, что художественное литературное произведение непереводимо» [Ссылка Э.Сепира на «Эстетику» Бенедетто Кроше]. Однако это лишь одна часть его умозаключения, тут же Сепир продолжает: «И вместе с тем, литературные произведения все Dice переводятся, иногда даоїсе с поразительной адекватностью» (Сепир 1934: 174).
Конечно, при переводе могут возникать замены, так как культуры отличаются друг от друга. Можно проследить, к каким изменениям прибег переводчик при работе со следующим диалогом из пьесы Б. Шоу «Пигмалион» (Shaw 2005: 48). Liza. How do you do, Mrs. Higgins? Mr. Higgins told me I might come. Mrs. Higgins. Quite right: I m very glad indeed to see you. Pickering. How do you do, Miss Doolittle? Liza. Colonel Pickering, is it not? Mrs. Eynsford Hill. I feel sure we have met before, Miss Doolittle, I remember your eyes. Liza. How do you do? Mrs. Eynsford Hill. My daughter Clara. Liza. How do you do? Clara. How do you do? Данный диалог характеризует этикетную формулу. При переводе дословная передача диалога нарушит этикет принимающей культуры. Формальный вопрос «How do you do?» не требует ответа и заменяет приветствие. Поэтому при переводе Е. Калашникова прибегает к следующим изменениям: Элиза. Здравствуйте, миссис Хиггинс. Мистер Хиггинс сказал, что я могу навестить Вас. Миссис Хиггинс. Конечно, конечно! Я очень рада Вас видеть. Пикеринг. Здравствуйте, мисс Дулиттл. Элиза. Полковник Пикеринг, если я не ошибаюсь? Миссис Эйнсфорд Хилл. Я уверена, что мы с Вами уже встречались, мисс Дулиттл. Мне знакомы Ваши глаза. Элиза. Очень приятно. Миссис Эйнсфорд Хилл. Моя дочь Клара. Элиза. Очень приятно. Клара. Очень приятно.
Классификация трудностей, связанных с переводом культурно-бытовых деталей
Вопрос о переводе культурно-бытовой детали сводится не к тому, можно или нельзя ее перевести (так как перевести ее необходимо), а к тому, как ее переводить. Трудности, возникающие при переводе культурно-бытовой детали, многообразны и зависят от конкретного оригинального текста и языка перевода. В рамках данного диссертационного исследования выделены лишь наиболее распространенные сложности, которые, в целом, обусловлены двумя причинами: 1) в языке перевода нет эквивалента из-за того, что в принимающей культуре отсутствует сам предмет, понятие или явление, обозначаемое культурно-бытовой деталью; 2) помимо семантического значения культурно-бытовой детали необходимо передать колорит и коннотативное значение, если оно имеется.
Итак, в данной работе выделяются следующие связанные с переводом культурно-бытовой детали трудности.
1. Незнание действительности описываемой культуры. Можно с уверенностыо утверждать, что возможность правильно передать обозначения предметов, о которых идет речь в подлиннике, и образов, связанных с ними, предполагает знание действительности, изображенной в переводимом произведении. Переводчики, не знакомые с культурой языка произведения, могут делать значительные ошибки. Например, в тексте «Дворянского гнезда» Тургенева встречается такое предложение: «...все осталось по-старому, только оброк кое-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу» (Тургенев 1979: 106). Перевод, предложенный Н.П. Чепель, звучит следующим образом: "...everything remained as before; only the rent in some places raised, the mistress was more strict, and the peasants were forbidden to apply direct to Ivan Petrovich".
Как видно из примера, ошибка переводчика заключалась в неправильной интерпретации слова «барщина». Незнание культуры, таким образом, нарушило смысл переводимого произведения, и, возможно, вызовет некоторое замешательство у читателей, встретивших новый персонаж, о котором ранее не шла речь.
Теперь можно перейти к трудностям, связанным со значением культурно-бытовой детали. 2. Наличие временной фоновой информации. Следует отметить, что культурно-бытовая деталь всегда несет некую фоновую информацию. Эта информация известна всем носителям языка, передается из поколения в поколение и отражается в слове. Однако существуют случаи, когда культурно-бытовая деталь недавно вошла в употребление, после чего она может либо закрепиться в языке, либо исчезнуть, так и не войдя в его словарный состав. Речь идет о так называемых культурно-бытовых деталях с «временной фоновой информацией» (часто они встречаются в художественной литературе). Актуальная и историческая временная фоновая информация - один из источников переводческих трудностей. Еще труднее интерпретировать временную фоновую информацию, отраженную в произведения прошлых веков. Переводчику с русского будет сложно передать такие содержащие временную фоновую информацию лексические единицы, как «рюмочная» (забегаловка, где подавали рюмку водки и бутерброд) или «Солнцедар» (плохое крепленое вино) и т.д. Еще большие трудности возникают, когда переводчик сталкивается с аллюзиями, опорными компонентами которых являются обычные слова и обороты, содержащие временную фоновую информацию.
В рассказе Дэвида Герберта Лоуренса «Запах хризантем» встречается следующий отрывок: «As they went towards the house he tore at the ragged wisps of chrysanthemums and dropped the petals in handfuls along the path.
Don t do that - it does look nasty, said his mother. He refrained, and she, suddenly pitiful, broke off a twig with three or four wan flowers and held them against her face. When the mother and son reached the yard her hand hesitated, and instead of laying the flower aside, she pushed it in her apron-band» (Lawrence 1987: 6).
В этом отрывке культурно-бытовая деталь выступает в роли символа. Хризантемы упоминаются в тексте рассказа в первый раз, и эта деталь может остаться незамечена читателем, хотя она очень существенна. Дело в том, что среди английских шахтеров существует традиция укладывать в изголовье погибшему в расцвете сил в забое шахтеру желтые осенние хризантемы. В этом рассказе деталь, упомянутая вскользь, может служить сигналом, что случилось что-то трагическое. Именно поэтому, данную деталь следует объяснить в комментарии как особенность чужой культуры
3. Переоценка фоновых знаний читателя. Часто фоновые знания читателя переоцениваются авторами литературных произведений, которые вводят в текст культурно-бытовые детали, не объясняя их. Это в особенности касается авторов исторических произведений и тех, кто описывает малоизученную культуру. В качестве примера можно привести следующий отрывок из романа Э. Хемингуэя «Зеленые холмы Африки»: "I dropped two (guineas) that thumped hard when they fell and as they lay, wings beating, Abdullah cut their heads off so they would be legal eating" (Hemingway 2001: 185). В переводе В.А. Хинкиса это предложение включает пояснение и звучит следующим образом: «Я выстрелил раз-другой, и две птицы тяжело плюхнулись на землю. Они еще отчаянно трепыхались, но тут подоспел Абдулла и по мусульманскому обычаю отрезал им головы, чтобы мясо можно было есть правоверным». В романе автор часто просто «констатирует» некоторые культурно-бытовые детали, не поясняя их. В приведенном примере мусульманский религиозный обычай особым образом убивать животных, чтобы они были пригодны в пищу, автор не объясняет. В тексте есть только намек на эту традицию, и поэтому данное предложение без знания описанного в переводе мусульманского обычая понять трудно.
4. Отсутствие объяснения детали чужой культуры в связи с ее распространенностью и надежда на ее осмысление благодаря контексту. Культурно-бытовая деталь другой страны, актуальная в данный момент, может использоваться автором без пояснений с надеждой на ее «расшифровку» благодаря контексту: «...когда гитарист...узнав, что в его ресторанчике, остужая острую пишу мексиканской текилой, сидят два сшигос из России, грянул «Эй, ухнем!», нам в первомайский вечер стало весело в Лос-Анджелесе» (Кондрашев 1999: 11). Из контекста понятно, что текила - это алкогольный напиток, должно быть, вино. Но какое вино, крепкое или легкое, белое или красное, читатель, не знакомый с этим национальным напитком, не поймет. По всей вероятности, трудности может вызвать и слово «сшигос», так как не все знают иностранные языки или слышали это обращение. Тем не менее, автор считает, что сказанного достаточно для создания необходимой атмосферы, а подробности просто не важны. Все же, эти лексические единицы другой культуры в словаре отсутствуют и могут быть непонятны читателям, тем более, если ими станут представители другой, отличной от описываемой, эпохи.