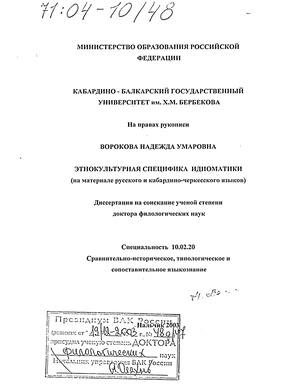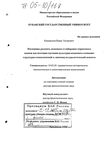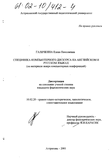Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Краткий обзор теоретических основ лингвокультурологии
1.1. Предпосылки развития лингвокультурологии у В. Гумбольдта, А.А.Потебни, И. А. Бодуэна де Куртене ... 11
1.2.Американская этнолингвистика 18
1.3.Взаимодействие языка и культуры в трудах неогумбол ьдтианцев 31
1.4 Формирование лингвокультурологии как самостоятельной области исследования 47
Глава 2. Культурная информация и национальный менталитет в идиоматике
2.1. Семантика фразеологических единиц в лингвокультурологическом аспекте 54
2.2. Отражение национальной культуры во внутренних формах фразеологических единиц 79
2.3. Лингвокультурологический анализ фразеологических единиц со значением «Свойства и качества человека» Преданность, привязанность, обожание 88
Алчность, жадность 91
Неопытность, доверчивость 92
Хитрость, коварство, жестокость 94
Глупость, болтливость 97
2.4.Лингвокультурологический анализ фразеологических единиц со значением «Эмоции человека» Испуг, ужас 103
Раздражение, досада 105
Насмешка, пренебрежение 107
Негодование, гнев 111
2.5.Лингвокультурологический анализ фразеологических единиц со зачением «Характеристика явлений и ситуаций» Предостережение, угроза 116
Неудача, трудное положение 117
Цена, оценка 121
Смерть, разрушение 124
Целиком, полностью, до предела 125
Успех, удача, победа 129
2.6. Лингвокультурологический анализ фразеологических единиц, содержащих сравнение 132
2.7. Культурные символы, стереотипы и эталоны в идиоматике 136
Культурные символы, стереотипы и эталоны, совпадающие по своему выражению в идиоматике русского и кабардино-черкесского языков 138
Культурные символы, стереотипы и эталоны, не совпадающие по своему выражению в идиоматике русского и кабардино-черкесского языков 143
Глава 3. Культурно - маркированные компоненты семантики фразеологических единиц русского и кабардино-черкесского языков
3.1. Образное основание и коннотативные компоненты семантики идиом 164
3.2. Культурно - маркированные компоненты в семантике фразеологических единиц со значением «Неудача, трудное положение» 176
3.3. Культурно - маркированные компоненты в семантике фразеологических единиц со значением «Раздражение, досада» 198
3.4. Культурно - маркированные компоненты в семантике фразеологических единиц со значением «Алчность, жадность» 204
3.5.Культурно - маркированные компоненты в семантике фразеологических единиц со значением «Преданность, привязанность, обожание» 209
3.6.Культурно - маркированные компоненты в семантике фразеологических единиц со значением «Хитрость, коварство, жестокость» 218
Заключение 233
Библиография 242
- Предпосылки развития лингвокультурологии у В. Гумбольдта, А.А.Потебни, И. А. Бодуэна де Куртене
- Семантика фразеологических единиц в лингвокультурологическом аспекте
- Лингвокультурологический анализ фразеологических единиц, содержащих сравнение
- Культурно - маркированные компоненты в семантике фразеологических единиц со значением «Неудача, трудное положение»
Введение к работе
Предметом данного исследования является этнокультурная специфика идиоматики двух неродственных языков - русского и кабардино-черкесского. Интерес ученых к фразеологическому уровню современных языков не случаен: ученые (лингвисты, психологи, философы, этнографы) стремятся через постижение глубинных свойств идиоматики приблизиться к открытию тайны человеческого сознания и мышления, к объяснению причин преломления одних и тех же смыслов в разных языках в виде различных, а порой уникальных языковых форм.
Неослабевающий интерес лингвистов и филологов к идиомам, имеющим прозрачную внутреннюю форму, вполне закономерен. Такие идиомы чрезвычайно содержательны и в плане культурной информации, которая стоит за ними, и в плане проявления национального менталитета в них, и в плане проявления во внутренних формах фразеологических единиц (в дальнейшем ФЕ) ассоциативно - образного строя мышления носителей данного языка. Именно указанными обстоятельствами обусловлена актуальность темы данной работы.
Теоретической базой исследования стали фундаментальные достижения последних лет в области фразеологии, этносемантики, лингвокультурологии, а также исследования лингвокультурной сущности фразеологических единиц.
Научная новизна работы обусловлена
1) особым углом зрения, под которым рассматривается идиоматика. Несмотря на большое количество работ, этнокультурная специфика идиоматики еще не представлена в пределах тематических групп (полей) неродственных языков. В общетеоретических работах по фразеологии последних лет высказывается настоятельная необходимость изучения идиоматики в этом плане (В.Н.Телия, В.З. Черданцева и др.).
2) тем, что в диссертации впервые системно исследуется идиоматика с точки зрения этнокультурной семантики (на материале русского и кабардинского языков). Идиомы распределены в тематические группы и проанализированы с точки зрения этнокультурной семантики.
тем, что через внутренние формы идиом русского и кабардино-черкесского языков определяются данные о национальном менталитете и культурная информация, характерные для народов-носителей языка.
В работе впервые определены этнокультурные символы, эталоны и стереотипы, выделенные на основе исследования как русской, так и кабардино-черкесской идиоматики.
В диссертации впервые анализируются образные основания ФЕ 5-ти тематических групп, определяются виды тропов, используемых в том и другом языке. Семантическая структура ФЕ русского и кабардино-черкесского языков в данной работе впервые подвергается компонентному анализу, наблюдению и описанию в пределах определенных тематических групп с целью определения и характеристики культурно маркированных компонентов. Определена и доказана приоритетная роль одних компонентов семантики ФЕ перед другими, доказана культурная маркированность определенных компонентов семантики привлеченных для анализа ФЕ.
Материал для исследования извлечен из таких словарей, как «Фразеологический словарь русского языка» [под ред. А.И.Молоткова 1986], «Русская фразеология. Словарь-справочник» [сост. Р.И.Яранцев 1997], Н. М. Шанский и др. «Опыт этимологического словаря русской фразеологии» [1987], «Словарь фразеологических синонимов русского языка» [под ред. В.П.Жукова 1987], Н. Н. Кохтев, Д. Э. Розенталь «Русская фразеология» [1990], «Кабардинско-русский фразеологический словарь» [под ред. Б. М. Карданова 1968], «Словарь кабардино-черкесского языка» [под ред. П. М. Багова 1999], «Адыгэбзэ фразео-логизмэхэм я псалъалъэ» [сост. Б. Ч. Бербеков и др. 2001], а также собран поле-
вым методом. Всего в работе проанализировано около 400 русских и около 400 кабардинских ФЕ.
При анализе семантики фразеологических единиц были использованы такие методы, как метод наблюдения, описательный, таксономический, количественный, контрастивный, сравнительно-сопоставительный, а также метод компонетного анализа семантики ФЕ .
Теоретическая и практическая значимость видятся 1) в возможности применить отработанную методику и к другим уровням языка (словообразовательному, лексическому), в пределах которых функционируют единицы, также имеющие этнокультурный компонет семантики;
2) в выявлении этнокультурных символов, стереотипов, эталонов на основе указанных уровней языка, а также продолжение работы в плане определения этнокультурных категорий на материале идиоматики;
3) в применении результатов исследования в спецкурсах по лингвокульту-рологии, русской и кабардино-черкесской фразеологии, в курсе «Общее языкознание».
Конечной целью работы является выявить и представить этнокультурную специфику идиоматики на материале русского и кабардино-черкесского языков, являющихся неродственными и разносистемными.
В ходе исследования решались следующие основные задачи:
проанализировать и установить, в какой мере внутренняя форма фра-, зеологических единиц несет этнологическую информацию о культуре и национальном менталитете, особенностях жизни и быта народов - носителей исследуемых языков;
определить национальные символы, стереотипы, эталоны, нашедшие свое выражение в идиоматике двух указанных языков;
3) выявить особенности национально-образного мышления русских и кабардинцев путем анализа образных оснований семантически эквивалентных или аналогичных фразеологизмов указанных языков;
найти общее и особенное фразеологической семантики русского и кабардино-черкесского языков в плане лингвокультурологии.
выявить культурно-маркированные компоненты семантики ФЕ, входящих в состав анализируемых тематических групп.
Положения, выносимые на защиту:
1 .Фразеологизмы с прозрачной внутренней формой (по В.Л.Виноградову - единства) и многие образные фразеологические сочетания содержат культурную информацию, объясняющую многие стороны психологии и мировоззрения нации, ее менталитет.
2.В большинстве случаев в идиоматике неродственных языков сходные смыслы передаются через различные внутренние формы. Полное совпадение лексического наполнения ФЕ со сходным значением наблюдается лишь в некоторых случаях.
З.Идиоматика кабардино-черкесского и русского языков использует материал одних и тех же пластов лексики: соматическая лексика, названия диких и домашних животных, названия объектов живой и неживой природы, названия предметов сельского быта, глаголы с определенной семантикой. Редко используются слова с отвлеченным, абстрактным значением. В некоторых случаях имеет место безэквивалентная лексика.
4.ФЕ с прозрачной внутренней формой дают возможность выявить в своем составе этнокультурные символы, эталоны и стереотипы, свойственные народу-носителю. Потенциально каждая ФЕ может стать носителем указанных категорий, однако существуют определенные условия для этого. Необходимы яркая образность, компактность, активная употребляемость всеми членами языкового коллектива той ФЕ, на основе которой рождается этнокультурный символ, стереотип или эталон.
5. Структура языкового знака обусловливает появление различных внутренних форм производных номинативных единиц, мотивировка которых тесно связана с различными языковыми картинами мира ( в дальнейшем ЯКМ).
При этом ассоциативный образ вторичной номинации, стоящий между денотатом и планом выражения, играет важнейшую роль, что находит яркое подтверждение в идиоматике.
б.Тропеизация (метафоризация, метонимизация, гиперболизация, олицетворение, гротеск) словосочетания-прототипа, лежащего в основе фразеологической единицы, « работает» в соответствии с ассоциативным образом вторичной номинации, характерным для народа-носителя.
7.Структурный анализ семантики ФЕ дает возможность определить важнейшую роль образного основания в ней и особую роль коннотативных компонентов: аксиологического и эмотивного. В результате семантического анализа именно названные аспекты структуры семантики ФЕ (образное основание и коннотации) определены нами как культурно маркированные, т.е. мотивированные ассоциативно-образным мышлением народа-носителя и оценкой содержания сигнификативно-денотативного аспекта ФЕ.
8. Аксиологический компонент семантики ФЕ играет решающую, доминирующую роль во всей семантической структуре ФЕ.
Апробация работы. По теме исследования опубликовано 14 работ, в том числе монография «Национальная культура в идиоматике» (Нальчик, Поли-графсервис и Т, 2003, 140 стр.). О результатах научных поисков на разных этапах исследования было доложено на конференциях различных уровней: внут-ривузовской научной конференции, посвященной 80-летию проф. Б.Х.Балкарова (Нальчик, 1997); III Республиканской научной конференции «Проблемы развития государственных языков Кабардино-Балкарии» (Нальчик, 1998); Ежегодной Республиканской конференции «Славянские чтения» (Нальчик, 2001); Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы общей и адыгской филологии» (Майкоп, 2001); Международной научно-практической конференции «Русский язык и языки народов России: функциональное и практическое взаимодействие» (Владикавказ, 2001).
Структура работы
Работа состоит из Введения, 3-х глав , Заключения, библиографии.
В 1-й главе « Краткий обзор теоретических основ лингвокультурологии» рассматриваются предпосылки развития лингвокультурологии в трудах В.Гумбольдта, А, Потебни, И.А.Бодуэна де Куртеие, Э.Сепира, Л. Вайсгербсра и др., а также рассматривается период оформления лингвокультурологии как самостоятельной области исследования.
2-я глава « Культурная информация и национальный менталитет в идиоматике» посвящена непосредственному анализу русской и кабардино-черкесской идиоматики. Она содержит парафаф 2.1, посвященный анализу теоретических основ лингвокультурологического описания фразеологических единиц, параграф 2.2, в котором обсуждается поблема отражения национальной культуры во внутренних формах ФЕ, а также основную часть, в которой анализируются 16 семантический фразеологических групп русского и кабардино-черкесского языков и на их основе определяются культурные символы, стереотипы и эталоны.
3-я глава «Культурно - маркированные компоненты семантики фразеологических единиц русского и кабардино-черкесского языков», помимо теоретического введения, включает структурно-семантический анализ фразеологических единиц 5-ти семантических групп двух названных языков.
Заключение содержит выводы обобщающего характера.
Библиографический список включает около 250 названий на русском и других языках.
Предпосылки развития лингвокультурологии у В. Гумбольдта, А.А.Потебни, И. А. Бодуэна де Куртене
Как американская, так и европейская этнолингвистика (неогумбольдтиан-ство) восходит к лингвистической системе В.Гумбольдта, опирающейся на триаду: язык — народ - дух (мировоззрение, культура). Ядром этой концепции является мистическое, точно не определяемое понятие "дух народа", сопоставимое с абсолютной идеей Гегеля. "Язык есть как бы внешнее проявление духа народа: язык народа есть его дух, а дух народа есть его язык" [Гумбольдт 1984: 68] Поскольку язык зависит от духовной силы народа, "строение языков человеческого рода различно потому, что различными являются духовные особенности наций" [Гумбольдт:там же].
По В. Гумбольдту, язык является "великим средством преобразования с субъективного в объективное, индивидуального во всеобщее". Но так как к объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное, "каждую человеческую индивидуальность... можно считать особой позицией в видении мира", а "в каждом языке заложено самобытное миросозерцание" [Гумбольдт 1984: 80]. С концепцией В. Гумбольдта тесно связаны ставшие во второй половине XX века чрезвычайно актуальными понятия "картина мира" (Weltbild) и "видение мира", взгляд на мир (Welttansicht).
Более продуктивной категорией, чем дух, является у В.Гумбольдта понимание языка как деятельности духа, "энергейное" представление о языке. Он стремился раскрыть возможности обратного воздействия со стороны языка на духовную, культурную деятельность человека. Он понимал, что, "отразившись в человеке, мир становится языком, который, встав между обоими, связывает мир с человеком и позволяет человеку плодотворно воздействовать на мир" [Гумбольдт 1984:198].
В. Гумбольдт считал взаимосвязь между языком и мышлением настолько глубокой и органичной, что практически отождествлял не только эти два понятия, но и весь духовный мир человека вместе с ними. Он, в частности, утверждал: "Если мы и разграничиваем интеллектуальную деятельность и язык, то в действительности такого разделения нет... Язык народа есть его дух, а дух народа есть его язык - трудно представить себе что-либо более тождественное" [Гумбольдт 1984:72]. Именно вера в определяющее воздействие языка на духовное развитие народа лежала в основе философии языка В.Гумбольдта. Изучая язык испанских басков, резко отличный от языков индоевропейской семьи, Гумбольдт пришел к мысли о том, что разные языки - это не просто разные оболочки общечеловеческого сознания, но различные видения мира; по его мнению, язык относится к тем основным силам, которые строят всемирную историю. Он считает, "в каждом языке заложено самобытное миросозерцание.... Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне"[Гумбольдт 1984: 80].
В русле европейской философии языка, основанной на идеях Гумбольдта, харьковский профессор А.А.Потебня развивал концепцию психологического направления в языкознании. Его фундаментальный труд "Из записок по русской грамматике" до сих пор остается во многом недосягаемой вершиной языковедческого анализа [Потебня 1958].
А. А. Потебня подчеркивал органическое участие национального (этнического) языка не только в формировании народного мировосприятия, но и в самом развертывании мысли. В работе « Мысль и язык» он отмечает: "Человек, говорящий на двух языках, переходя от одного к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли, притом так, что усилие его воли лишь изменяет колею его мысли, а на дальнейшее течение ее влияет лишь опосредованно..."[Потебня 1993 (1862): 205]. Потебня подчеркивал общечеловеческую ценность каждого этнического языка — в качестве еще одной, запечатленной именно в этом языке, картины мира: "Если бы объединение человечества по языку и вообще по народности было возможно, оно было бы гибельно для общечеловеческой мысли, как замена многих чувств одним... " [Потебня: там же].
По мнению А.А.Потебни, "отношение понятия к слову сводится к следующему: слово есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самой природой человека и незаменимая, характеризующая понятие ясность (раздельность признаков), отношение субстанции к атрибуту, необходимость в их соединении, стремление понятия занять место в системе - все это первоначально достигается в слове и преобразуется им так, как рука преобразует всевозможные машины" [Потебня 1958(1874): 48]. Как видно из приведенной цитаты, А.А.Потебня именно язык считает определяющим в отношениях мышления, культуры и языка.
В учении о семантике слова он пошел значительно дальше В. Гумбольдта: конкретизировал теорию внутренней формы слова, разработал концепцию ближайшего и дальнейшего значения слова, а также на большом фактическом материале вскрыл роль слова в познании человеком мира.
Вполне соответственно с концепцией Гумбольдта ученый различает язык и дух языка. Дух для А. А. Потебни - это отнюдь не вся психическая деятельность человека, не противоположность материи, а лишь "сознательная умственная деятельность", предполагающая понятия и соответственно слова, т.е. это вербализированная внутренняя речь. Затем в его концепции, кроме звука и духа, появляется и третий компонент —душа.
А. А. Потебня в своей работе "Мысль и язык" пишет: "Язык и дух, взятые в смысле последовательности проявлений душевной жизни, мы можем вместе выводить из "глубины индивидуальности", т.е. души как начала, производящего эти явления и обуславливающего их своей сокровенной сущностью" [Потебня 1993(1862): 186].
Четвертым компонентом концепции А. А. Потебни является мысль, которая, в его понимании, соположена, равноположена духу, отличаясь от последнего степенью связи с языком.Если "дух без языка невозможен", то "область языка далеко не совпадает с областью мысли". А. А. Потебня многократно подчеркивал нетождественность языка и мысли.
Ученый тщательно собрал и систематизировал аргументы, согласно которым каждый человек сополагает с внешней формой слова свое собственное восприятие. Он пишет, что "никто не понимает слово именно так, как другой". Слова возбуждают в сознании говорящих, по мнению ученого, "соответствующие, но не те же понятия"[ Потебня 1958 (1874): 50].
Одновременное признание субъективности и объективности, индивидуальности и социальности семантики слова особенно ярко выступает в известном учении Потебни о ближайшем и дальнейшем значениях слова: "Под значением слова разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую ведению языкознания, называют ближайшим, другую, составляющую предмет других наук, - дальнейшим значением слова" [Потебня 1958 (1874): 51].
Только одно ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова. Ближайшее значение слов вместе с представлением создает возможность понимания друг другом говорящего и слушающего.
Семантика фразеологических единиц в лингвокультурологическом аспекте
Изучение идиоматики в лингвокультурологическом аспекте началось сравнительно недавно, примерно последние 10 лет. Это происходит в рамках изучения языка в целом как антропологического феномена. Изучение идиоматики не самой по себе, а как проявления языковой, а через нее - духовной культуры человека и человечества - вот каковы предпосылки изучения этнокультурной специфики фразеологизмов. По мнению В.И.Постоваловой, в современном языкознании имеют место "попытки рассмотрения фразеологизмов в широком лингвокультурологическом аспекте — в аспекте участия языка в созидании духовной культуры и участия духовной культуры в формировании языка" [Постовалова 1999: 25].
Известно, что язык - зеркало культуры, он участвует во всех актах культурного творчества, он инструмент осмысления мира и его понимания. По мнению В.Н.Телия, фразеология наконец преодолела кризис структурно-таксономической парадигмы и приблизилась в настоящее время к антропологической парадигме и лингвокультурологическому анализу [Телия 1996: 270-271]. Некоторые лингвисты (М.А.Ковшова, В.И.Постовалова и др.) считают, что изучение фразеологии в парадигме современной науки предполагает не только лингвокультурологический анализ, но и анализ когнитивно-культурологический. Когнитивный аспект изучения идиоматики, пожалуй, является наиболее актуальным при изучении этнокультурной семантики идиом.
В работах многих лингвистов можно найти немало замечаний относительно этнокультурного содержания семантики идиом. В пределах таких направлений языкознания , как теория перевода и лингвострановедение, давно обсуждается вопрос о самобытности и непереводимости идиом, вводится понятие фразеологического фона (работы Е.М.Верещагина, В.Г.Костомарова).
В теории перевода основным критерием фразеологичности того или иного выражения традиционно является критерий непереводимости или невозможности точного перевода на другие языки. "Идиоматические словосочетания, -пишет Л.А.Булаховский, - это своеобразные выражения определенных языков, являющиеся по своему употреблению цельными и едиными по смыслу, обыкновенно не поддающиеся точной передаче на другие языки" [Булаховский 1953: 33]. А.В.Федоров отмечает, что "устойчивые метафорические сочетания представляют разную степень мотивированности, прозрачности внутренней формы и национальной специфичности" [Федоров 1983: 150].
Авторы лингвострановедческого словаря "Русские фразеологизмы" В.П.Фелицына и В.М.Мокиенко во Введении к указанному изданию подчеркивают, что "лингвострановедческие словари... описывают национально-культурную семантику строевых единиц языка" [Фелицына, Мокиенко, 1990: 4]. По их мнению, лингвострановедческие словари способствуют изучению культуры страны, показывают место языковых единиц в культуре. Целый ряд фразеологизмов, считают авторы указанного словаря, "содержит в своей семантике национально-культурный компонент... Фразеологизмы отражают русскую национальную культуру своими прототипами, поскольку генетически свободные словосочетания описывали определенные обычаи, традиции, особенности быта и культуры, исторические события и многое другое" [Там же: 9]. В настоящее время в этой области работают такие ученые, как В.Н.Телия, В.В.Воробьев, В.М.Мокиенко, Р.Н.Попова, Т.З.Черданцева, Д.О.Добровольский, О.А.Черепанова, В.И.Коваль, Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров и их школа. Проблематика фразеологии повернулась в сторону человека и его места в культуре. Фразеология удерживается в языке веками, репрезентируя культуру народа-носителя. По мнению В.Н.Телия, "фразеологический состав языка - это зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание" [Телия 1999: 9]. Фразеологические единицы, как и слова, являются номинативными единицами языка. Интересно то, что в значении фразеологизмов важен не столько денотативно-сигнификативный аспект, сколько различного рода коннотации, оценки, эмоции, экспрессии и образы. Именно они отличают фразеологизмы от слов. По мнению Т.З.Черданцевой, "идиоматика любого языка- это ценнейшее лингвистическое наследие, в котором отражается видение мира, национальная культура, обычаи и верования, фантазия и история говорящего на нем народа" [Черданцева1996: 58]. Как отмечает тот же автор, идиомы отражают культурную информацию: культуру быта и общения, иерархии ценностей и человеческих отношений. По мнению Т.З. Черданцевой, разработка такого параметра в изучении идиом "представляет несомненный интерес, поскольку эти сведения могут не только расширить представления об идиоматике того или иного языка, но и внести определенный вклад в изучение цивилизации и культуры народов, отраженной в языке" [Там же: 67].
По мнению В.Г.Гака, основная информация, связанная с культурным компонентом значения, содержится во внутренней форме идиомы [Гак 1988: 72]. Понятие внутренней формы, впервые введенное в научный обиход русского языкознания А.А.Потебней, получило затем свое развитие в первой половине XX века в работах Г.О.Винокура и П.Н.Ларина. Анализ информации, заключенной во внутренних формах, помогает понять наивное представление о мире народа, говорящего на данном языке, и некоторые черты его национального характера. Безусловно, речь идет о фразеологизмах, внутренняя форма которых достаточно прозрачна. В.В.Виноградов дал подробную характеристику семантической структуры фразеологических словосочетаний и наметил основные принципы их классификации.
Лингвокультурологический анализ фразеологических единиц, содержащих сравнение
В данной семантической группе в силу своей образности бросаются в глаза такие кабардинские фразеологизмы, как пц1ащхэуэ уноу лъэлъээ/сащ/ (рассыпаюсь, как ласточкино гнездо) и русское рассыпалось как карточный домик. Кабардинский вариант ассоциируется с объектом природы (ласточкой и ее гнездом). Здесь основной смысловой компонент - непрочность, эфемерность. Этот же смысловой компонент в соответствующем русском фразеологизме выражен еще сильнее: карточный домик - еще более хрупкое и временное "строение". Исходя из внутренних форм данных фразеологизмов, можно сказать, что их значения не вполне адекватны. В кабардинской ФЕ присутствует сожаление, граничащее с грустью: ведь гнездо являлось домом для любимой в народе птицы. Русский вариант имеет дополнительный оттенок, это значение предопределенности. Карточный домик - нечто лишнее, ненужное.
В семантической параллели № 16, имеющей значение "красивый, аккуратный, приятный на вид", в каждом варианте присутствует свой смысловой оттенок. Русский фразеологизм дом как игрушка подразумевает привлекательность, яркость. Кабардинский фразеологизм пхъуэнтэм хуэдэщ (унэр)/ как сундучок (дом) подразумевает ладность, компактность, функциональность. Примечательно, что русское как игрушка употребляется не только относительно дома. Можно сказать по-русски "машина как игрушка", "холодильник как игрушка" и т.д. - о любой крупной вещи. По-кабардински это недопустимо, выражение пхъуэнтэм хуэдэщ можно употребить лишь в отношении дома.
Семантическая параллель № 25 (каб. кхьуэбанэ жылэу къинащ/ прицепился, как семя чертополоха, рус. пристал как банный лист) содержит фразеологизмы, внутренняя форма которых мотивирована особенными свойствами растений. Семантическая параллель имеет значение "вести себя бестактно, навязывая свое общество". У русских использован образ мокрого листа. Этот фразеологизм отражает старинный уклад жизни русских с баней и веником из веток. Само слово "банный" в сочетании "банный лист" является результатом метонимии. Кабардинский фразеологизм использует иной образ - колючее, цепкое семя. Само сравнение дает информацию для размышлений об образном строе национального мышления: одно и то же явление, одна и тот же объект сравниваются с разными реалиями.
Семантическая параллель № 1 (каб. хыв ят1э хэс хуэдэу/ словно буйвол в грязи, рус. словно рыба в воде) содержит фразеологизмы со значением "находиться в своей стихии", что у кабардинцев ассоциируется с буйволом в грязи, а у русских - с рыбой в воде.
В данной семантической группе полностью совпали по своим внутренним формам фразеологизмы в парах №№ 2, 3, 5, 15, 18, 21. В них использован один и тот же образ. Частично совпали по своим внутренним формам №№ 9, 19, 22. В № 9 кабардинскому ят 1эм хуэдэу, пщэрщ/ жирный, как грязь соответствует русское э/сирный как земля. Грязь и земля — понятия близкие, но не тождественные. В первом варианте чувствуется негативная оценка, в то время как в русском варианте присутствует положительный смысловой оттенок, включающий в себя значение "богатый по составу".
Семантическая параллель № 19 включает в себя частично совпавшие по внутренней форме фразеологизмы. Русскому как рыба, выброшенная на берег соответствует кабардинское ныджэм къытенащ бдзээ/сьейуэ (къэнащ)/ как рыба, оставленная на отмели. Русский фразеологизм подразумевает постороннее вмешательство, вынужденность данного трудного положения. Кабардинский вариант имеет в виду фатальность данной ситуации. Данные фразеологизмы явно он имеют древнее происхождение и мотивированы народным опытом.
В параллели № 22, имеющей значение "крепко спать", кабардинскому ліам хуэдэу мажеїі/ спит, как мертвый соответствует русское спит как убитый. Бросается в глаза явное смысловое отличие данных фразеологизмов, различие в них подводных течений.
Приведенный материал убеждает, что фразеология содержит в своей семантике национально-культурный компонент. Общее, номинативное значение фразеологизма входит в лексико-семантическую систему современного языка, а его внутренняя форма, сопряженная с семантикой словосочетания-прототипа, дает информацию об истории, психологии, образном мышлении народа.
Каждому сообществу свойствен свой набор культурных приоритетов, отраженных, помимо других форм выражения, и в языковых символах, стереотипах, эталонах. Безусловно, человечеству также свойствен набор культурных приоритетов, включающий универсальные культурные категории, что также находит отражение в языке.
Прежде чем переходить к анализу языкового материала, вспомним общефилософское определение вышеупомянутых понятий. Эталон — мерило, лучший образец чего- либо для кого-либо. Стереотип - общепринятый и общепризнанный образец чего-либо. Символ - конкретный знак (предмет), обозначение какого-либо понятия, чего-нибудь отвлеченного (КФС).
В последнее время в науке все чаще можно встретить термин "код культуры". Под этим термином следует понимать своего рода неписаный закон, выработанный в пределах того или иного культурного сообщества. Они известны всем говорящим на данном языке и соотносятся с семантикой языка во всех ее проявлениях. "Соотнесение языковых значений с тем или иным культурным кодом и составляет содержание культурно-национальной коннотации, которая придает культурно значимую маркированность не только значению фразеологизмов и слов, но и смыслу целых текстов" [Телия 1996: 219]. Культурно значимые единицы языка являются таковыми лишь в силу того, что прототипы, к которым они восходят, сами детерминированы фактами национальной культуры — материальной, социальной или духовной. На основе сопоставления двух неродственных языков наиболее зримо выявляется идиоэтническое различие в их фразеологических составах. Связь фразеологизмов с менталитетом народа состоит прежде всего в отражении во фразеологии совокупности языковых образов, которые и составляют "промежуточный мир" Лео Вайсгербера, стоящий между миром и человеком, миром и обществом. Мир образов того или иного народа представлен, как считают многие лингвисты, языковыми символами, эталонами и стереотипами. Они запечатлены в культурной памяти народа, поскольку язык является "хранилищем, транслятором и знаковым воплощением культуры" [В.Н.Телия 1996: там же]. Образы-эталоны запечатлены в устойчивых сравнениях, образы-стереотипы выражают особенности ассоциативного мышления данного культурного сообщества, характерные черты его психологии. Образы-символы, замещая отвлеченные понятия названиями конкретных предметов, явлений или действий, также выражают особенности психологии говорящего на данном языке народа. В роли культурно значимого языкового стереотипа выступает, как правило, компактно выраженный в составе ФЕ некий образец поведения, говорящий о том или ином качестве, признаке, свойстве и т.д. Если культурный эталон соотносит один объект действительности с другим путем сравнения, то стереотип описывает определенную ситуацию, жестко связанную в менталитете народа с определенным культурным кодом: рус. спрятаться в кусты — струсить, каб. взлететь на насест - струсить. Культурно значимый языковой символ, тесно связанный с национальным мировидением, очень ярко отражает систему образного мышления нации, ее приоритеты. Культурный символ выражен в составе ФЕ, представляя собой название конкретного денотата, замещающего абстрактное понятие: рус. чистое золото (о человеке) - символ уважения, поклонения; каб. круглое золото - символ уважения, поклонения.
Культурно - маркированные компоненты в семантике фразеологических единиц со значением «Неудача, трудное положение»
Д.О. Добровольский считает, что семантически релевантные особенности ментального образа проявляются на среднем уровне абстракции, ориентированном на "обыденные знания". Эти знания служат не только основой формирования актуального значения идиомы, но наследуются им и существуют как его часть, что и позволяет говорить об образной составляющей в семантике идиом. Образная составляющая выполняет функции модификатора соответствующего концепта [Добровольский 1996: 75].
Все вышесказанное убеждает в том, что фразеологический образ — явление этнокультурологическое. Образная составляющая, являясь модификатором соответствующего концепта, отражает особенности ассоциативно-образного мышления культурного сообщества, говорящего на данном языке. Так называемая ментальная модель, о которой уже говорилось, представляя, по выражению Добровольского, свернутую концептуальную структуру, находит свою манифестацию в полной мере при образовании ФЕ, выражая тем самым культурную специфику идиоматики. Без всякого сомнения, образную составляющую в семантике идиом можно отнести к культурно маркированным компонентам значения ФЕ.
По мнению В.Н.Телия, система образов, закрепленных во фразеологическом составе языка, служит своего рода "нишей" для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой общности, а потому может свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях [Телия 1996: 215].
Образно мотивированное основание ФЕ, взаимодействуя, соотносясь с элементами культуры и будучи интерпретированным в категориях духовной культуры, составляют содержание языковой коннотации. Как считает В.Н.Телия, владение коннотацией является своего рода "идиоматичной" частью культурно-языковой компетенции. Последняя, в свою очередь, состоит в способности соотносить языковые факты с той моделью макрокосма и микрокосма, которая лежит в основе миропонимания данной лингвокультурологической общности [Телия 1996: 236].
Моделью мира, складывающейся в данном обществе, человек руководствуется во всем своем поведении. Впечатления, идущие от внешнего мира, он преобразует в данные своего внутреннего опыта. На базе этих категорий вырабатываются универсальные, обязательные для всего общества понятия и представления. Эти категории составляют основной семантический инвентарь культуры, который неосознанно навязывается обществом членам языкового коллек-тиваи столь же неосознанно воспринимается, впитывается ими. Эти категории запечатлены в естественном языке, а также в языке искусства, науки, религии, этикета. Мыслить о мире, не пользуясь этими категориями, столь же невозможно, как нельзя мыслить вне категорий языка .
К числу базовых, категорий относятся выработанные в определенной лингвокультурной общности в процессе ее исторического развития представления о таких космических категориях, как пространство и время, причина, следствие, часть и целое, а также человек, судьба, жизнь, смерть и т.д. Собственно человеческий микрокосм включает такие базовые категории культуры, как личность, свобода, воля, совесть, труд, богатство (бедность, семья, дружба, родина и т.п.) [Телия 1996: 236]. Являясь образно мотивированным средством вторичной номинации, ФЕ, включая в свой состав знания, которые ассоциируются с ее буквальным прочтением, содержит культурно-национальные коннотации. Последние, в свою очередь, в процессе употребления ФЕ воспроизводят характерологические черты народного менталитета. ФЕ включает в состав своего значения два компонента: сигнификативно-денотативный и коннотативный, включающий в свой состав образную составляющую и коннотации — эмотивный и экспрессивный ее компоненты. Наличие оценочности выражаемого фразеологизмом понятия не подлежит сомнению. Семантические добавочные оценочные элементы значения, к сожалению, не всегда учитываются составителями фразеологических словарей. Впервые на необходимость учитывать добавочные оттенки (коннотации) в семантике ФЕ указал Б.А.Ларин. Внутренняя форма ФЕ добавляет к ее семантике, сравнительно с синонимичным словом, своеобразные признаки, смысловые и оценочно-стилистические, и это оправдывает сосуществование фразеологизмов в языке наряду с синонимичными им словами. В результате ФЕ приобретают в языке и речи особые функции. "Внутренняя форма во фразеологизме по сравнению со словом значительно важнее: она обусловливает направленность фразеологического словесного комплекса на понятие и передает оценку его говорящим, т.е. выражает фразеологическую модальность" [Федоров 1973: 19]. Существование фразеологизмов, по мнению Федорова, оправдано только потребностями экспрессивной характеристики, оценочности предмета мысли. Оценка, в свою очередь, дается в соответствии с ментилитетом народа-носителя. Таким образом, оценочные (аксиологические) компоненты коннотации в составе семантики ФЕ, безусловно, являются культурно маркированными.
Проанализировав семантику ФЕ русского и кабардинского языков, принадлежащих к одной семантической группе, с точки зрения особенностей кон-нотативных компонентов значения (оценочного и эмотивного) и особенностей образного основания, мы сможем полнее представить этнокультурную специфику идиоматики.
К анализу мы привлекли материал 5 семантических групп эквивалентных по значению ФЕ русского и кабардинского языков. Это группы, "Неудача, трудное положение" (27 ФЕ), "Раздражение, досада" (8 ФЕ), " Алчность, жадность" (7 ФЕ), "Преданность, привязанность, обожание" (13 ФЕ), "Хитрость, коварство, жестокость" (14 ФЕ). Таким образом, с точки зрения особенностей образного основания и коннотативных компонентов в составе семантически эквивалентных ФЕ русского и кабардинского языков нами проанализировано всего 138 ФЕ, или 69 семантических параллелей.