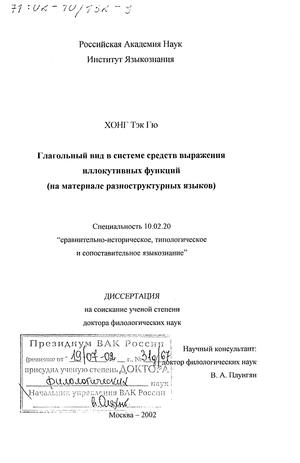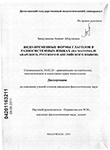Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. К теории глагольного вида: некоторые проблемы сопоставительного исследования 8
1. Трактовка глагольного вида: определение или описание? 8
2. Глагольный вид и время в их связи с дейксисом: проблема коммуникативных регистров 15
3. Глагольный вид и его связь с лексическим значением предиката: лексико-семантические моменты 27
4. "Композиционно-синтагматические" функции глагольного вида: дискурсивно-коммуникативные параметры 43
Глава 2. Глагольный вид на фоне иллокутивных актов 53
1. Речевые акты и специализированные иллокутивные показатели в корейском языке 53
2. "Иллокутивное самоубийство" и глагольный вид 61
2.1. Риторический/иронический вопрос 64
2.2. "Псевдо-директив" 76
2. "Дистанцированная", или "смягченная" ассерция и глагольный вид 78
Глава 3. Связь глагольного вида с косвенными речевыми актами 92
1. К методологии изучения косвенных речевых актов 92
2. Косвенный речевой акт и его формальные показатели 106
2.1. Отрицание в иллокутивной функции 109
2.2. Косвенные директивы 115
2.3. Псевдо-вопросы 126
3. "Лексические ограничения" в свете иллокутивной функции глагольного вида 147
Глава 4. Глагольный вид с точки зрения дискурсивной связности 159
1. "Косвенная коммуникация" 159
1.1. Дискурсивно-прагматический момент смягчения иллокутивной силы 159
1.2. "Предполагаемая известность" 165
1.3. "Косвенная коммуникация" и отношение дискурсивной связности 170
1.4. Абдуктивная стратегия 190
2. Глагольный вид как показатель информационного статуса высказывания 194
2.1. Информационный поток передаваемых сообщений 194
2.2. Референциальный подход или информационный подход? 201
3. Некоторые следствия информационного подхода 219
3.1. К вопросу о так называемом "осуществлении имплицируемого действия" речевых актов "непосредственного эффекта" 219
3.2. К вопросу о так называемом "возникновении новой интерпретации" 230
3.3. Дискурсивный топик и информационный статус дискурсивного фрагмента 235
3.4. К вопросу о так называемой "ожидаемости действия" 243
Глава 5. Глагольный вид и проблематика "вежливости": сопоставительное исследование корейского и русского языков 248
1. Некоторые принципы вежливости: на материале корейского языка 248
2. Анализ русских примеров 261
Заключение 279
Условные обозначения 290
Литература 291
- Глагольный вид и время в их связи с дейксисом: проблема коммуникативных регистров
- Речевые акты и специализированные иллокутивные показатели в корейском языке
- К методологии изучения косвенных речевых актов
- К вопросу о так называемом "осуществлении имплицируемого действия" речевых актов "непосредственного эффекта"
Введение к работе
Одной из самых проблематичных и, одновременно, привлекающих внимание исследователей сфер в русской аспектологии является, возможно, функционирование глагольного вида в дейктическом режиме интерпретации (по терминологии Е.В. Падучевой [1986; 1991а; 1996]), или в информативном регистре (по терминологии Г.А. Золотовой [1982; 1995]). Это явление традиционно описывается либо как "конкуренция видов", либо как противопоставление общефактического значения несовершенного вида конкретно-фактическому значению совершенного вида.
Трудность адекватной трактовки функционирования глагольного вида в дейктическо-информативном регистре восходит, как известно, к следующим двум главным положениям. С одной стороны, в одной видовой форме, т.е. в нашем случае в форме несовершенного вида сходятся общефактическое и процессное, или актуально-длительное (а также повторяющееся) значения. С другой стороны, часто вызывает затруднения то обстоятельство, что различие между формами совершенного и несовершенного видов в дейктическо-информативном регистре во многих случаях практически неуловимо.
В связи с этим, некоторые аспектологи старались изобрести аппарат
для анализа, который мог бы решить обе указанные проблемы
одновременно. Например, Н.Б. Телин [Thelin 1978; 1990], используя
введенный им признак '[-время]' (или 'темпоральная
нелокализованность'), пытается отличить общефактическое значение несовершенного вида, с одной стороны, от актуально-длительного значения несовершенного вида и, с другой стороны, от употребления совершенного вида в дейктическо-информативном регистре - обоим этим
значениям он приписывает признак '[+время]' (или 'темпоральная локализованность'). Впрочем, аспектологи этого направления интересовались скорее "глобальным" описанием функционирования глагольного вида, чем описанием критериев для выбора глагольного вида в более конкретных контекстах. В результате они (за немногими исключениями) практически не исследуют более частные признаки или факторы, связанные с более общим признаком указанного типа. Напротив, интерес большинства аспектологов (особенно в русистике) состоит в описании критериев для выбора несовершенного и совершенного видов в данной дискурсивной ситуации посредством изобретения достаточно специализированных признаков или факторов.
Однако, как будет ясно из дальнейшего, эти попытки далеко не всегда могут быть признаны успешными. Проблема состоит прежде всего в том, что в современной аспектологии - особенно в отношении критериев выбора глагольного вида в контексте "конкуренции видов" - широко распространен подход, который можно назвать "ассоциативным объяснением". Для него характерен такой анализ, который основан исключительно на механизме метафорического расширения "исходных", или "базовых" значений: например, многие примеры анализируются на основе традиционной схемы "процесс - результат", "неуникальная -уникальная ситуация" и др. (подробнее об этом см. раздел 2 Главы 1).
Тем самым, лингвистически и методологически последовательный анализ, который на основе нескольких главных факторов адекватно и систематически описывал бы функционирование глагольного вида в дейктическо-информативном регистре (причем не только в утвердительном и вопросительном, но и в императивном предложении) встречается достаточно редко.
В данной диссертации мы предлагаем иной путь. Прежде всего, мы считаем, что важным опорным моментом для решения указанного вопроса может стать типологически ориентированное описание категории глагольного вида русского языка в сопоставлении с такими языками, как корейский, английский и др., глагольные системы которых устроены принципиально иначе.
При этом мы исходим из того, что почти каждый язык имеет в своем распоряжении те или иные средства выражения иллокутивных функций, т.е., конкретнее говоря, функций усиления и смягчения иллокутивной силы данного речевого акта .
В частности, в корейском языке (а также в японском) приемы, выражающие специализированным образом усиление и смягчение иллокутивной силы речевого акта, развиты гораздо сильнее, чем в других языках. Например, как будет показано в Главе 2, если суффиксальные показатели типа -psita, -pnikka, -ptita , -psio и др. усиливают иллокутивную силу данного речевого акта, то показатели типа -ci(-yo), -ссит, -te-ntey-yo и др. ее смягчают.
Тем не менее, и в других языках эти механизмы также представлены (хотя и не всегда адекватно отражаются в существующих грамматических описаниях). Для удобства понимания приведем английский пример. Например, в английском высказывании вида Would you open the window?, благодаря использованию показателя сослагательного наклонения would, смягчена вопросительная иллокутивная сила по сравнению с высказыванием вида Will you open the window?, в котором вместо would употреблен вспомогательный глагол will, в результате чего первое высказывание может функционировать главным образом в качестве
1 Обычно в лингвистической литературе термин "иллокутивная функция" праісгичсскн отожествляется с термином "иллокутивная сила" (об этом, например, см. [Падучсва 1985] и [Кобозева 2000]). Однако в данной работе упомянутый термин понимается строго как функция, связанная со смягчением или усилением иллокутивной силы речевого акта.
иллокутивного акта просьбы, а не вопроса. Аналогичным образом, в болгарском языке представлены языковые приемы, выражающие различные степени ассертивной иллокутивной силы, хотя и посредством иного способа, с помощью категории эвиденциальности.
Что касается русского языка, то, на наш взгляд, и в нём в дейктическо-информативном регистре категория глагольного вида (при определенных условиях) выполняет функции, весьма сходные с иллокутивными функциями таких специализированных элементов. В наиболее общем виде это можно сформулировать так: совершенный вид глагола связан с усилением иллокутивной силы данного речевого акта, а несовершенный вид - со смягчением иллокутивной силы.
Таким образом, типологически ориентированное изучение категории русского глагольного вида - особенно на фоне корейского языка, в котором система средств выражения иллокутивных функций развита весьма тонко и систематично, в гораздо большей степени проливает свет на вышеупомянутые иллокутивные функции глагольного вида в дейктическо-информативном регистре.
Данное положение означает, что при определенных условиях глагольный вид выполняет не такую функцию, которая традиционно подводится под понятие аспектуальности, а определенную речеактовую функцию. На наш взгляд, предлагаемый "речеактовый" подход к глагольному виду, т.е. исследование иллокутивных функций русского глагольного вида может стать одной из интересных альтернатив широко распространенному в современной аспектологии "ассоциативному объяснению".
Как видим, наше изучение осуществляется в рамках речеактово-дискурсивного подхода. Например, как будет показано в Главе 2, можно с помощью механизма абдукции (по терминологии Ч.С. Пирса [1955/2000])
вывести указанные иллокутивные функции русского глагольного вида из
того факта, что в случаях типа риторического или иронического вопроса
(или, по нашей терминологии, псевдо-вопроса), когда говорящий для
успешного осуществления данного речевого акта должен избежать так
называемого "иллокутивного самоубийства", предпочитается
употребление несовершенного вида глагола. На этом основании нами будут описаны механизмы осуществления косвенных речевых актов (а также иллокутивных актов разного типа, например, "собственного" или "несобственного"), контроля дискурсивной связности и "положительной" и "отрицательной" вежливости (по терминологии П. Брауна и С. Левинсона [Brown/Levinson 1987]) с участием глагольного вида и выявлены их аналоги в виде суффиксальных иллокутивных показателей в корейском языке.
Таким образом, предлагаемый в данной диссертации (в свете типологического описания иллокутивных функций в разноструктурных языках) речеактово-дискурсивный подход, по нашему мнению, дает возможность достаточно последовательно и комплексно проанализировать мотивы выбора глагольного вида и те или иные его дискурсивно-коммуникативные функции в информативном регистре, независимо от типа предложений, т.е. утвердительного, вопросительного или императивного.
Кроме этого (и в связи с вкладом в общую теорию речевых актов) данная работа дает возможность существенно расширить наши представления о том, что называется "косвенным речевым актом", независимо от языка. Мы хотели бы показать, что в процессе осуществления косвенного речевого акта, помимо известных конвенциональных механизмов, выявленных Дж. Сёрлем [Searle 1969; 1975; 1989], и инференционных механизмов, описанных Г. Личем [Leech
1983], Д. Шпербером и Д. Уилсоном [Sperber/Wiison 1986], Д. Холдкрофтом [Holdcroft 1995], Р. Вертолетом [Bertolet 1995] и др., имеет значение также формально-языковая сторона. Это связано, на наш взгляд, с тем, что одни формально-языковые показатели более активно разрешают данному речевому акту осуществиться как косвенный, а другие - нет. Заметим, что и в английском языке, хотя и очень редко, формально-языковая сторона участвует в процессе осуществления косвенного речевого акта. Например, высказывание вида Are you able to pass the salt?, хотя и удовлетворяет так называемому "правилу 1" (generalization 1) Сёрля [Searle 1975] (т.е. одному из типов условий, позволяющих осуществление речевого акта "косвенного директива"), однако не используется в качестве косвенного речевого акта, в отличие от высказывания вида Can you pass the saltl
В типологическом плане наше исследование также может показать, что мотивы использования тех или иных средств выражения иллокутивных функции не ограничиваются одним контролем вежливости, которое до сих пор считалось почти единственной функцией корейских (возможно, и японских) суффиксальных иллокутивных показателей. Насколько нам известно, почти все исследователи (см„ например, [Clio 1982; Leech 1997]) излагают проблему усиления или смягчения иллокутивной силы в основном в связи с вежливостью. Однако, по нашему мнению, усиление или смягчение иллокутивной силы имеет гораздо более фундаментальный статус в речеактовом аспекте, а вежливость - это всего лишь одно из ее частных проявлений. Именно по этой причине, говорящий посредством тех или иных средств выражения иллокутивных функции может контролировать не только вежливость, но и дискурсивную связность текста в целом, а также осуществлять косвенный речевой акт того или иного типа. Указанное положение применимо, безусловно, независимо от
языка. Для удобства понимания еще раз обратимся к приведенным выше английским примерам. Высказывание типа Would you open the window?, благодаря использованию показателя смягчения иллокутивной силы would, в принципе, имеет возможность в большей степени (по сравнению с высказыванием вида Will you open the window?) функционировать не только в качестве более вежливого высказывания, но и в качестве косвенного речевого акта.
Глагольный вид и время в их связи с дейксисом: проблема коммуникативных регистров
Определение глагольного вида (в том числе в русском языке) как самостоятельной грамматической категории связано со значительными теоретическими трудностями, которые нередко недооценивают. Дело в том, что определение глагольного вида как грамматической категории, как правило, оказывается в значительной степени связано с поиском общего значения (или семантической доминанты) этой категории, а установление этого общего значения - отнюдь не тривиальная задача. Наиболее распространены два подхода: глагольный вид описывается либо исходя из понятия аспектуальности как семантической категории, либо в сопоставлении с категорией времени и с опорой на понятие дейксиса (подробнее об этом см. также раздел 2 данной главы). Например, согласно A.M. Пешковскому [1956: 105], категория вида указывает на то, как протекает во времени или как распределяется во времени тот процесс, который обозначен основой глагола, и это и есть общее значение категории вида. Однако приведенное определение в гораздо большей степени применимо, как это и признается во многих исследованиях [Бондарко 1971; 1983; 1987а; Ломов 1977: 17; Кравченко 1995; Черткова 1996], к аспектуальности как семантическому категориальному признаку, а не к глагольному виду как грамматической категории. Иными словами, признак "характер протекания и распределения действия во времени" оказывается слишком широким для того, чтобы служить критерием определения глагольного вида, поскольку в выражении этого "характера протекания" могут участвовать не только морфологические (грамматические) средства, но и средства словообразовательные, синтаксические или лексические. Получается, что для определения категории глагольного вида необходимо семантическое обобщение, относящееся к данной категории, а это обобщение, в свою очередь, невольно ведет к расширению объема понятия, к которому относится данная категория. В результате такие словообразовательные, синтаксические и лексические средства, связанные с выражением характера протекания и распределения действия во времени, как, например, способы глагольного действия и их группировки, разряды предельных и непредельных глаголов или семантические признаки, передаваемые обстоятельствами типа долго, медленно, постепенно, вдруг, внезапно и т.п., получают возможность претендовать на вхождение в категорию глагольного вида.
Таким образом, при определении категории глагольного вида, с одной стороны, необходимо опираться на аспектуальность как семантический категориальный признак, а с другой стороны, одновременно следует четко очертить понятийную область, к которой относится признак "аспектуальность", то есть указать те "родовые отличия", которые позволяют отделить глагольный вид от других языковых средств, связанных с выражением характера протекания и распределения действия во времени. (В данном случае мы имеем в виду, прежде всего, другие категории, связанные с аспектуальной семантической зоной, а не другие грамматические категории глагола.)
Тогда определение глагольного вида может принять, например, следующую, несколько тавтологическую, форму: "глагольный вид является одной из категорий, связанных с выражением аспектуальных отношений, а именно, такой, которая выражается с помощью грамматических средств". Если же речь идет об универсальном глагольном аспекте1, то определение может звучать так: "глагольный аспект является одной из аспектуальных категорий, которая выражает любые грамматические противопоставления из данной семантической (то есть, аспектуальной) зоны, независимо от того, к какому языку относится данная категория".
Замечание. Первое из предложенных выше определений построено в соответствии с классической схемой "определение [глагольный вид] = видовое отличие [грамматическая] + родовое понятие [аспектуальная категория]". Иными словами, как уже было отмечено, здесь мы имеем в виду, главным образом, отличие категории глагольного вида от других семантических аспектуальных категорий, а не от других грамматических категорий глагола. Однако практически нет разницы между предложенным выше определением и тем, которое обычно принимается в аспекто логической литературе: "глагольный вид является грамматической категорией, связанной с выражением аспектуальных отношений". Однако с точки зрения формальной логики, можно было бы сказать, что как раз это последнее ориентировано, главным образом, на отличие вида от других грамматических категорий глагола, поскольку оно кажется построенным в соответствии со схемой "определение [глагольный вид] = видовое отличие [аспектуальная] + родовое понятие [грамматическая категория]". Предложенное нами определение должно, по нашему замыслу, устранить это недоразумение.
Кроме того, пока здесь мы оставляем в стороне трудности, которые возникают в том случае, когда речь идет о русском глагольном виде. Иными словами, вышеупомянутое определение является в каком-то смысле неполным, поскольку не дает возможности установить, к какому конкретному аспектуальному признаку имеет отношение русский глагольный вид. Его необходимо дополнить признаками типа "целостность" [Бондарко/Буланин 1967: 31; Бондарко 1971: 10], "предельность" [Томмола 1984: 146], "ограниченность действия пределом и целостность" [Бондарко 1990: 9; 1996: 103; 2001: 115], "возникновение новой ситуации" [Бондарко 1993; 1996], "смена ситуаций" [Шатуновский 1996: 309-317], "секвентная связь" [Барентсен 1995; 1998], "смена интерпретации референтной ситуации" [Кошелев 1997; 1998], и т.п.
Речевые акты и специализированные иллокутивные показатели в корейском языке
В лингвистической литературе, в принципе, имеются указания на связь категории глагольного вида русского языка и речеактовой проблематики - преимущественно на материале употребления глагольного вида в императивных конструкциях (ср., например, [Храковский 1988; Lehmann 1989; Падучева 1992; Durst-Andersen 1992]). Эти исследователи интересовались, главным образом, тем, какую роль в определении таких типов иллокутивного акта, как просьба, совет, приказ, требование, предложение, и т. д., выполняет выбор глагольного вида в императивных конструкциях. Например, общепризнано, что для осуществления иллокутивных актов просьбы и совета употребляется совершенный вид, а для осуществления иллокутивного акта вежливого предложения -несовершенный вид.
Однако, с точки зрения практического языкового употребления, таких случаев, в которых невозможно явно определить, к какому типу иллокутивного акта принадлежит данный речевой акт, достаточно много. К тому же, в указанных исследованиях соотношение типа иллокутивного акта и выбора глагольного вида интерпретируется как результат действия таких семантических факторов, как компонент "обусловленность действия ситуацией" или "немедленно", а не в виде собственных речеактовых функций или характеристик, которые имеет глагольный вид русского языка.
Е. В. Падучева [1992: 47], например, утверждает: для того, чтобы данный речевой акт понимался как просьба, говорящий не может считать совершение этого действия, т.е. выполнение этой просьбы, само собой разумеющимся с его стороны, и по этой причине не может быть употреблен несовершенный вид, который имеет семантический компонент "обусловленность действия ситуацией". Она [там же: 48] также утверждает, что аналогичным образом для речевого акта совета употребление совершенного вида естественнее, чем употребление несовершенного вида, так как говорящий (советчик), в принципе, должен сообщить адресату неизвестную ему информацию, т.е. предложить ему некое новое действие, не вытекающее из ситуации с очевидностью.
Однако, как указал С. П. Хасман [Hassman 1986: 25], несмотря на то, что нижеследующие примеры (1-а) и (1-6) функционируют как иллокутивный акт просьбы, а (1-в) - как иллокутивный акт совета, в обоих случаях употребляется несовершенный вид:
В связи с этим, можно сказать, что до сих пор фактически не было такого подхода, который в полную силу применил бы речеактовую методологию к объяснению выбора глагольного вида. Кроме того, глагольный вид русского языка выполняет определенные иллокутивные функции не только в императивных конструкциях, в которых можно сравнительно легко распознать тип иллокутивного акта (в последнем случае он выполняет ограниченную функцию - только в связи с определением типа иллокутивного акта). Можно с уверенностью говорить о существовании у глагольного вида собственных, "внутренних" иллокутивных функций и в таких контекстах, как в случае прошедшего и настоящего-будущего времени изъявительного и повелительного наклонения.
М. Бирвиш [Bierwisch 1980] в качестве двух главных типов иллокутивного показателя (IFID; illocutionary force indicating device) представляет "перформатив" в форме настоящего времени первого лица единственного числа изъявительного наклонения и "наклонение", определяющее такие типы предложения, как повелительное и вопросительное предложения. Например, он указывает, что в следующем примере (2) не существует "языкового показателя", конкретно выражающего такие типы иллокутивного акта, как обещание, предположение и предупреждение, т.е. иллокутивного показателя, тогда как в примерах (3) и (4) выражения J promise yon to... и У request that..., и формы вопросительного и повелительного предложений функционируют как иллокутивный показатель:
Таким образом, Бирвиш интересуется, прежде всего, тем, имеет ли данное предложение "формальные" синтаксические показатели, выражающие определенный тип иллокутивного акта. Иными словами, он определяет иллокутивный показатель скорее с "формальной", грамматической точки зрения, чем с "функциональной". Однако, если подходить к этой проблеме с прагматической, речеактовой точки зрения, выходя за пределы "формального" подхода, показатель, выражающий иллокутивную силу речевого акта, не может ограничиться перформативом и наклонением, указанными М. Бирвишем; это становится особенно ясно при знакомстве с исследованиями синтетических языков с богатой морфологией. (О прагматических функциях разных морфем в синтетических языках см. [Brown & Levinson 1987].) В этом случае можно сказать, что иллокутивный показатель не только имеет отношение к определению иллокутивного типа речевого акта, но и выполняет важную роль в выражении "усиления/смягчения" иллокутивной силы.
Так например, если корейский язык, являющийся в большей степени синтетическим языком, чем английский, развил богатую систему иллокутивных показателей, выражающих "специализированным образом" усиление/смягчение иллокутивной силы1, то русский язык, на наш взгляд, (вместе с вспомогательными средствами ударения и интонации предложения) развил такой способ, который "неспециализированным образом" выражает усиление/смягчение иллокутивной силы с помощью категории глагольного вида.
К методологии изучения косвенных речевых актов
Данная глава содержит анализ механизмов осуществления косвенных речевых актов разных типов с участием глагольного вида. Исследование иллокутивной функции глагольного вида может значительно расширить наши представления о том, что называется "косвенным речевым актом". Косвенные речевые акты, на самом деле, представлены в повседневной коммуникации гораздо активнее, чем до сих пор считали исследователи.
Иными словами, исследование иллокутивной функции глагольного вида может показать, что в процессе осуществления косвенного речевого акта, помимо известных конвенциональных механизмов, выявленных Дж. Сёрлем [Searle 1969; 1975; 1989], и инференционных механизмов, описанных Г. Личем [Leech 1983], Д. Шпербером и Д. Уилсоном [Sperber/Wilson 1986], Д. Холдкрофтом [Holdcroft 1995], Р. Вертолетом [Bertolet 1995] и др., также имеет значение формально-языковая сторона, т.е. последовательное использование тех или иных особых языковых средств, которые позволяют данному речевому акту более успешно и эффективно функционировать именно как косвенный речевой акт.
Сначала будут проанализированы разные подходы к определению косвенного речевого акта, а затем мы покажем, что иллокутивная функция глагольного вида выполняет важную (и во многом недооцененную) роль в осуществлении косвенного речевого акта типа косвенного директива и псевдо-вопроса. Также особо рассматривается роль несовершенного вида, связанная с преодолением известных лексических ограничений, действующих при выборе вида в более стандартных контекстах.
Дж. Сёрль [Searle 1975] определяет косвенный речевой акт как высказывание, в котором говорящий выполняет одновременно два иллокутивных акта и который, тем самым, отличается от "обычного" высказывания, в котором говорящий осуществляет только один иллокутивный акт, когда он передает пропозициональное содержание. Другими словами, косвенный речевой акт представляет собой такой случай, когда один иллокутивный акт осуществляется опосредованно, путем осуществления другого.
Согласно его точке зрения, приведенные выше высказывания (1) и (2) могут классифицироваться как косвенные речевые акты, потому что когда говорящий осуществляет локутивныи акт, в котором он произносит пропозициональное содержание, он, помимо иллокутивного акга вопроса (в случае примера (1)) и ассерции (в случае примера (2)) (каждого в отдельности), осуществляет иллокутивный акт просьбы.
Хотя Дж. Сёрль [там же: 60-61] признает, что научный аппарат, необходимый для объяснения "косвенного" аспекта в косвенных речевых актах включает, помимо теории речевых актов, теорию кооперативного речевого общения, которая, в основном, рассматривается Г. П. Грайсом [Grice 1975], инференционную способность адресата, общие фоновые знания говорящего и адресата , его главный интерес заключается в том, чтобы найти "общность формы", позволяющую осуществлять косвенные речевые акты, то есть развивать "конвенциональную теорию речевого акта".
По этой причине, как отмечает и сам Сёрль [там же: 60], в ранее опубликованной книге [Searle 1969] он нашел причину, позволяющую осуществлять косвенный речевой акт, исходя из "речеактовой конвенциональности (conventionality)", то есть того факта, что "рассматриваемые предложения затрагивают условия успешности речевых актов, косвенно осуществляемых при употреблении этих предложений, -подготовительные условия, условия пропозиционального содержания и условия искренности", или того факта, что "употребление этих предложений для осуществления косвенных речевых актов состоит в указании на факт удовлетворения существенного условия посредством ассерции какого-либо одного из этих других условий или посредством вопроса о выполнении какого-либо одного из этих других условий".
Далее, в указанной статье 1975 года Сёрль, развивая подобную трактовку рассматриваемых явлений, конкретизирует тип конвенций, позволяющий осуществление косвенного директива следующим образом:
(3) Правило 1: говорящий S может осуществить косвенную просьбу (или другой директив) либо посредством вопроса о выполнении некоторого подготовительного условия, касающегося способности адресата Н сделать действие А, либо посредством утверждения о выполнении такого условия.
Правило 2: говорящий S может осуществить косвенный директив либо посредством вопроса о выполнении условия пропозиционального содержания, либо посредством утверждения о выполнении такого условия. Правило 3: говорящий S может осуществить косвенный директив посредством утверждения о выполнении условия искренности, но не посредством вопроса о выполнении такого условия.
Правило 4: говорящий S может осуществить косвенный директив либо посредством утверждения о существовании веских или даже более чем веских причин для осуществления действия А, либо посредством вопроса о существовании таких причин. Но исключается такой случай, когда причиной является потребность или желание адресата Н совершать действие А, поскольку в этом случае говорящий может лишь спросить, хочет ли, желает ли адресат Н совершать действие А.
К вопросу о так называемом "осуществлении имплицируемого действия" речевых актов "непосредственного эффекта"
П. Дурст-Андерсен [Durst-Andersen 1992: 139-140], считая высказывание говорящего Б-1 в примере (31-а) грамматически неправильным, утверждает, что невозможность употребления совершенного вида в данном высказывании может объясниться тем, что употребление совершенного вида в первом сочиненном предложении утверждает "g-пропозицию" (описывающую "состояние" (state content) вида В exists for him on the telephone line Б существует для него на телефонной линии , что, на самом деле, оказывается не согласовано с пропозициональным содержанием второго сочиненного предложения the line was engaged линия была занята .
Замечание. Специфическая терминология П. Дурст-Андерсена требует более подробного комментария. В работах [Durst-Andersen 1992; 1995; Дурст-Андерсен 1997] автор исходит из того, что к одной и то же пропозициональной рамке относятся две элементарные пропозиции (ground-propositions) и делит эти элементарные пропозиции на / -пропозицию, описывающую "содержание действия (activity content)" (или акциональную составляющую данной ситуации), и д-пропозицию, описывающую "содержание состояния (state content)" (или статальную составляющую данной ситуации).
На этом основании он постулирует, что высказывание с совершенным видом передает д-пропозицшо как пропозицию переднего плана, а р-пропозицию - как пропозицию фонового плана, т.е. его пресуппозицией является истинность пропозиции р по отношению к некоторой акциональнои ситуации, а его ассерцией - истинность пропозиции q по отношению к некоторой статальной ситуации; тем самым, данное положение дел представляется как событие.
Дурст-Андерсен также отмечает, что у глагола в несовершенном виде, наоборот, ассерцией является истинность пропозиции р по отношению к некоторой акциональной ситуации, а пропозиция q остается стандартной импликатурой (standard implicature) в смысле С.С. Левинсона [Levinson 1983] и Г.С. Раппапорта [Rappaport 1984]; тем самым, данное положение дел представляется как не-событие.
С другой стороны, уместность выбора несовершенного вида в высказывании говорящего Б-2 Дурст-Андерсен (исходя из своей гипотезы о связи выбора глагольного вида с содержанием пресуппозиции и утверждения пропозиций р и q) объясняет тем, что первое сочиненное предложение данного высказывания утверждает / пропозицию, описывающую "действие" (activity content) В did something with the telephone Б [с]делал нечто с телефоном , и, тем самым, оно может логически согласовываться с пропозициональным содержанием второго сочиненного предложения, the line was engaged липня была занята".
В действительности, однако, картина оказывается несколько сложнее по сравнению с описанием Дурст-Андерсена. Вопреки его мнению, высказывание говорящего Б-1 в примере (31-а) также является вполне возможным, а высказывание говорящего Б-2 лишь выглядит более естественным по сравнению с высказыванием говорящего Б-1, поскольку в общем случае употребляется в более нейтральных контекстах.
Высказывание Б-1 может, например, быть уместным тогда, когда говорящему по той или иной причине важно эксплицитно сообщить, что он выполнил соответствующее действие. В частности, говорящий может употребить такое высказывание, чтобы эксплицитно снять с себя ответственность в той дискурсивной ситуации, когда вопрос задает адресат иерархически более высокого статуса (прежде всего, социального, но также и возрастного), обычно недовольный отношением к работе говорящего иерархически более низкого статуса, предполагая (в раздраженном состоянии), что и на этот раз говорящий (Б-1) не выполнил данного ему поручения.
В связи с этим можно утверждать, что между первым и вторым сочиненными предложениями существует некоторая "информационная пауза" (хотя и незначительная). Иными словами, говорящий Б-1 в своем кратком высказывании имеет в виду передать две информационные единицы: я позвонил11 (т.е. я не виноват") и было занято". Такая ситуация возникает, очевидно, потому, что использование показателя усиленной иллокутивной силы тесно связано с выражением информационной независимости передаваемых глагольной предикацией сообщений.
С другой стороны, в более нейтральных контекстах в указанной стратегии, естественно, не возникает необходимость. К тому же, не следует забывать, что поскольку говорящий уже употребил частицу да, передающую сообщение типа я звонил , использование показателя (слишком) усиленной ассертивной иллокутивной силы может быть информационно избыточным. Таким образом, говорящий Б-2, используя глагол несовершенного вида звонил, придает своему сообщению статус одной информационной единицы.
Отметим здесь же, что в общем для участников диалога дискурсивном мире существует - и достаточно активизирован - когнитивно-психологический сценарий (script) типа звонил, но было занято"52 . В силу этого, в обыденном сценарии говорящего и адресата передаваемое глагольной предикацией звонил сообщение примыкает в качестве адъюнктивной информационной единицы ко второй части данного высказывания. Таким образом, в более или менее тривиальных ситуациях использование показателя смягченной ассертивной иллокутивной силы оказывается достаточно.