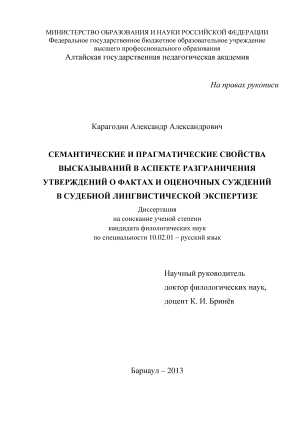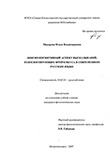Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Проблема разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений 14
1.1 Различие юридической и лингвистической оппозиций высказываний.. 14
1.2 Проблема квалификации спорного высказывания по выделенным признакам 20
1.3 Эпистемологическая теория знания и мнения в лингвистике и судебной лингвистической экспертизе 28
1.4 Теория знания и мнения как ментальных состояний сознания в судебной лингвистической экспертизе 37
1.5 Верифицируемость спорного высказывания 44
1.6 Истинность / ложность спорного высказывания 49
Выводы по первой главе 54
Глава 2 Квалификация высказываний разных видов в практике экспертного исследования 58
2.1 Квалификация оценочных высказываний 58
2.1.1 Оценочные высказывания: логика экспертного исследования 69
2.2 Квалификация высказываний, содержащих выводное знание 72
2.2.1 Проблема эвиденциальности в экспертной практике по делам о защите чести 72
2.2.2 Квалификация высказываний о внутреннем состоянии другого лица 75
2.2.3 Квалификация импликативных высказываний 83
2.2.4 Квалификация высказываний о будущих событиях 91
2.2.5 Высказывания, содержащие выводное знание:
логика экспертного исследования 99
2.3 Квалификация высказываний с модальными предикатами 104
2.3.1 Квалификация высказываний с предикатами долженствования 105
2.3.2 Квалификация высказываний с предикатами возможности 112
2.3.3 Высказывания с модальными предикатами: логика экспертного исследования 120
Выводы по второй главе 123
Глава 3 Анализ высказываний разных видов в практике экспертного исследования 127
3.1 Методика экспертного анализа спорного высказывания 127
3.2 Анализ оценочных высказываний 132
3.3 Анализ высказываний о внутреннем состоянии другого лица 148
3.4 Анализ импликативных высказываний 161
3.5 Анализ высказываний с предикатами долженствования 164
3.6 Анализ высказываний с предикатами возможности 176
Выводы по третьей главе 190
Заключение 194
Список литературы
- Проблема квалификации спорного высказывания по выделенным признакам
- Верифицируемость спорного высказывания
- Проблема эвиденциальности в экспертной практике по делам о защите чести
- Анализ импликативных высказываний
Введение к работе
Реферируемое исследование выполнено в рамках юридической лингвистики – новой отрасли русистики – и ее раздела – судебной лингвистической экспертизы – и посвящено изучению проблемы разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений.
Актуальность работы определяется, во-первых, обращением к изучению
юридического аспекта языка, являющегося предметом юридической лингвистики
и ее раздела – судебной лингвистической экспертизы; во-вторых, разработкой и
систематизацией теоретических оснований производства судебных
лингвистических экспертиз; в-третьих, возникшей потребностью в создании единой комплексной методики экспертной деятельности.
Степень изученности проблемы. Центральное место в судебной
лингвистической экспертизе по делам о защите чести, достоинства и деловой
репутации занимает задача разграничения утверждений о фактах и оценочных
суждений, мнений. Решение этой задачи вызывает серьезные трудности у
практикующих экспертов и порождает дискуссии среди исследователей в области
юрислингвистики (Л. А. Араева, В. Н. Базылев, А. Н. Баранов, Ю. А. Бельчиков,
К. И. Бринев, Н. Д. Голев, М. В. Горбаневский, Т. В. Губаева, С. В. Доронина,
Г. С. Иваненко, Е. С. Кара-Мурза, Д. С. Кондрашова, А. А. Леонтьев,
Н. В. Обелюнас, М. А. Осадчий, Ю. А. Сорокин, Т. В. Чернышова,
А. Л. Южанинова и др.). Появление проблемы разграничения обусловлено
объективным противоречием интересов лингвистики и юриспруденции.
Вследствие того что предметом экспертного исследования являются высказывания
на естественном языке, для которых характерны «бесконечная смысловая
валентность», «комплексное выражение объективного и субъективного начал»,
невозможно однозначно провести границу между утверждениями о фактах и
оценочными суждениями, что не согласуется с требованиями правовых органов
(Н. Д. Голев, О. Н. Матвеева, Г. С. Иваненко). Причиной длительного
существования указанной проблемы выступает то, что лингвистическая оппозиция дескриптивной и оценочной информации не может быть полностью отождествлена с юридической оппозицией утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений (К. И. Бринев).
Всеми учеными-лингвистами признается значимость проблемы
разграничения, однако среди них нет единства в ее понимании. Часть
исследователей говорит о проблеме определения языковых признаков
утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений (А. Н. Баранов,
Т. В. Губаева, С. В. Доронина). Другие исследователи видят проблему в поиске
критериев разграничения юридически значимых типов высказываний. На
сегодняшний день в экспертной практике по делам о защите чести обозначились
шесть основных критериев: лексико-грамматический, стилистический,
прагматический, онтологический (противопоставление субъективных и
объективных высказываний), критерий истинности / ложности, верификационный.
Не вызывает возражений у юрислингвистов использование лексико-
грамматического критерия, хотя очевидно то, что его недостаточно для решения поставленной задачи. Наиболее популярны и вместе с тем слабо изучены
онтологический и верификационный критерии. Несмотря на то, что
подчеркивается необходимость верификационного критерия в экспертном
исследовании (М. А. Осадчий), он в меньшей степени разработан в лингвистике и
судебной лингвистической экспертизе. Использование данного критерия
основывается на обыденном представлении экспертов о том, что может быть
проверено (К. И. Бринев). В представлении одних исследователей в основе
разделения высказываний на субъективные и объективные лежит
верифицируемость (авторы книги «Понятие чести, достоинства и деловой репутации», Г. С. Иваненко). Информация считается субъективной, если ее невозможно проверить на соответствие действительности; объективной является информация, которую можно проверить. В представлении других исследователей субъективные высказывания отличаются от объективных интерпретационностью – наличием в содержательной структуре одного или нескольких оценочных и модальных значений (С. В. Доронина).
На современном этапе развития судебной лингвистической экспертизы
решение названной проблемы не может ограничиться выбором оптимального
критерия разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений.
Необходимо критическое рассмотрение сложившихся теоретических презумпций,
на которых основывается экспертная квалификация спорных высказываний. В
этом направлении уже сделаны первые шаги. В трудах юрислингвистов ставится
под сомнение возможность использования для решения экспертной задачи
прагматического критерия (К. И. Бринев, М. А. Осадчий), онтологического
(К. И. Бринев), критерия истинности / ложности (Г. С. Иваненко),
верификационного (К. И. Бринев). Настоящее диссертационное исследование продолжает критическое осмысление стоящей перед лингвистом-экспертом задачи.
Для решения проблемы разграничения утверждений о фактах и оценочных
суждений, мнений в диссертации изучается семантика языковых средств,
передающих пропозициональное содержание высказываний. В работе также
исследуется прагматика языковых средств, которые маркируют
пропозициональное содержание на шкалах «утверждение / мнение,
предположение», «достоверно / вероятно», «необходимо / возможно». Изучение
высказываний современного русского языка в аспекте разграничения утверждений
о фактах и оценочных суждений вносит вклад в решение собственно
лингвистического вопроса, который касается характера соотношения
высказываний с действительностью. Данный вопрос неоднократно обсуждался в русском языкознании (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, М. А. Дмитровская, Анна А. Зализняк, Е. В. Падучева).
Несмотря на распространенность судебных разбирательств по делам о защите чести с назначением лингвистической экспертизы, несмотря на большое количество научных работ по проблеме разграничения, на сегодняшний день в судебной лингвистической экспертизе отсутствует единая методика экспертного анализа спорного высказывания. Это создает предпосылки для дальнейших исследований в данной области. К числу таких исследований относится наше диссертационное сочинение.
Объектом исследования выступают высказывания современного русского языка как результат целенаправленной речевой деятельности говорящего, предметом исследования являются семантические и прагматические свойства высказываний, значимые в аспекте разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений.
Цель работы – выявить прагматические и семантические свойства высказываний современного русского языка, значимые для решения задачи разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений.
Названная цель связана с выполнением следующих задач:
1) выявить и описать особенности традиционного подхода к решению задачи
разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений, раскрыть
причины его неудовлетворительности;
2) переформулировать задачу разграничения утверждений о фактах и
оценочных суждений, стоящую перед лингвистом-экспертом по делам о защите
чести;
3) разработать понятие истинности / ложности применительно к экспертному
исследованию по данной категории дел;
-
исследовать различные виды высказываний на шкале «утверждение о фактах / оценочное суждение, мнение» и предложить экспертную квалификацию данных высказываний;
-
разработать методику экспертного анализа спорного высказывания в рамках дел о защите чести и показать возможности ее применения при экспертном исследовании высказываний разных видов.
Материалом исследования послужили судебные лингвистические
заключения по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, в которых высказывание стало объектом исследования по вопросу о разграничении утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений. Общий объем составляет порядка 60 экспертных заключений. В качестве источников лингвистических экспертных заключений были использованы:
1. Архив судебного лингвиста-эксперта д.филол.н. К. И. Бринева.
2. Картотека Сибирской Ассоциации лингвистов-экспертов (г. Барнаул –
Кемерово – Новосибирск, URL: ).
3. Картотека Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис»
(г. Барнаул, URL: ).
4. Картотека Гильдии лингвистов-экспертов по информационным и
документационным спорам (г. Москва, URL: ).
5. Картотека Ассоциации лингвистов-экспертов «Аргумент» (г. Майкоп,
URL: ).
6. Материалы Центра содействия гражданским инициативам (г.
Димитровград, URL: ).
7. Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы:
для судей, следователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и
юрисконсультов. Раздел 7 / под ред. проф. М. В. Горбаневского. – М. : Медея,
2004. – 104 с.
8. Спорные тексты СМИ и судебные иски / под ред. проф.
М. В. Горбаневского. – М. : Престиж, 2005. – 200 с.
9. Тексты лингвистических экспертиз // Цена слова: из практики
лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести,
достоинства и деловой репутации / под ред. проф. М. В. Горбаневского. – М. :
Галерия, 2002. – 336 с.
10. Юрислингвистика-3: проблемы юрислингвистической экспертизы:
межвуз. сборник научных трудов. Часть 4 / под ред. Н. Д. Голева. – Барнаул : Изд-
во Алт. ун-та, 2002. – 263 с.
11. Юрислингвистика-5: юридические аспекты языка и лингвистические
аспекты права: межвуз. сборник научных трудов. Раздел 7 / под ред. Н. Д. Голева.
– Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 357 с.
-
Юрислингвистика-6: инвективное и манипулятивное функционирование языка: межвуз. сборник научных трудов. Раздел 3 / под ред. Н. Д. Голева. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. – 414 c.
-
Юрислингвистика-7: язык как феномен правовой коммуникации: межвуз. сборник научных трудов. Раздел 6 / под ред. Н. Д. Голева. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. – 400 с.
14. Юрислингвистика-8: русский язык и современное российское право:
межвуз. сборник научных трудов. Раздел 5 / под ред. Н. Д. Голева. – Кемерово –
Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2007. – 540 с.
-
Юрислингвистика-9: истина в языке и праве: межвуз. сборник научных трудов. Раздел 5 / под ред. Н. Д. Голева. – Кемерово – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 454 с.
-
Юрислингвистика-10: лингвоконфликтология и юриспруденция: межвуз. сборник научных трудов. Раздел 6 / под ред. Н. Д. Голева и Т. В. Чернышовой. – Кемерово – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2010. – 510 с.
-
Юрислингвистика-11: право как дискурс, текст и слово: межвуз. сборник научных трудов / под ред. Н. Д. Голева и К. И. Бринева. – Кемерово, 2011. – 600 с.
Научная новизна работы заключается в том, что в результате изучения существующих теоретических презумпций экспертной деятельности по делам о защите чести выделены особенности традиционного подхода к решению задачи разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений и показаны причины их неудовлетворительности. В диссертационном сочинении разработано понятие истинности / ложности применительно к экспертному исследованию по делам о защите чести; переформулирована стоящая перед лингвистом-экспертом задача разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений и в этой связи предложена экспертная квалификация высказываний разных видов; разработана методика анализа спорного высказывания в рамках рассматриваемой категории дел.
Теоретическая значимость результатов исследования определяется их вкладом в становление и развитие судебной лингвистической экспертизы как одного из разделов юридической лингвистики. Для решения задачи разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений применено понятие истинности / ложности, систематизированы накопленные теоретической лингвистикой и логикой знания о прагматических и семантических свойствах высказывания и спроецированы на высказывания современного русского языка, выделены значимые с точки зрения экспертного исследования виды высказываний.
Практическая ценность определяется тем, что результаты исследования могут применяться при производстве судебных лингвистических экспертиз по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, могут стать основой для разработки методических рекомендаций по выполнению лингвистических экспертиз по указанной категории дел. Полученные результаты могут использоваться в процессе преподавания курсов по юридической лингвистике, судебной лингвистической экспертизе.
Основными методами и приемами исследования являются метод описания, сравнительно-сопоставительный метод, элементы трансформационного анализа, пропозициональный анализ, разноуровневый семантический анализ, контекстный анализ.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Для решения задачи разграничения утверждений о фактах и оценочных
суждений, мнений на прагматическом уровне спорного высказывания имеет
значение готовность адресанта высказывания взять на себя ответственность за
истинность сообщаемой информации, а на семантическом уровне – возможность
информации быть истинной или ложной.
2. Решение экспертной задачи разграничения утверждений о фактах и
оценочных суждений предполагает установление формы сообщения информации
(утверждение, мнение, предположение), выяснение соотношения информации с
действительностью. Возможность верификации не может быть установлена
лингвистическими методами и поэтому не входит в компетенцию лингвиста-
эксперта. В результате анализа прагматических и семантических свойств спорного
высказывания устанавливается информация, которая обладает свойством
истинности и утверждается, и информация, которая либо не может быть истинной
и ложной, либо сообщается в форме мнения или предположения.
3. При квалификации высказываний с оценочными и эмоционально-
экспрессивными компонентами значения устанавливается в их содержательной
структуре наличие информации, которая обладает свойством истинности и
утверждается адресантом высказывания. Не имеет значения для экспертного
исследования разграничение высказываний по источнику получения информации,
поэтому содержащие выводное знание высказывания, которые имеют непрямой
личный доступ к информации, квалифицируются так же, как и высказывания с
прямым личным доступом. Информация о внутреннем состоянии другого лица
обладает свойством истинности. В ходе экспертного исследования определяется
форма, в которой она сообщается. При анализе импликативных высказываний
выявляется истинная или ложная информация, на которую не распространяется
сфера действия имплицитных пропозициональных установок знания, мнения или
предположения, а также модального значения долженствования. Информация о
будущих событиях выражается высказываниями, представляющими собой
сврнутые импликации. Данная информация обладает свойством истинности, но
не утверждается адресантом высказывания. При экспертном исследовании
высказываний с предикатами долженствования и возможности определяется
модальное значение предиката, от которого зависит наличие в содержательной
структуре высказывания утверждаемой истинной или ложной информации.
4. Методика экспертного анализа спорного высказывания в рамках дел о защите чести включает три этапа. На первом этапе результатом анализа является представление спорной информации в таком виде, чтобы, с одной стороны, можно было выявить свойство истинности, с другой стороны, чтобы данная информация была понятной для всех участников судебного разбирательства. Результатом второго этапа анализа является установление возможности информации соответствовать или не соответствовать действительности. Результатом третьего этапа выступает определение формы сообщения информации, обладающей свойством истинности (утверждение, мнение, предположение).
Теоретической основой исследования служат работы:
а) по судебной лингвистической экспертизе (В. Н. Базылев, А. Н. Баранов,
Ю. А. Бельчиков, К. И. Бринев, М. А. Венгранович, Е. И. Галяшина, Н. Д. Голев,
М. В. Горбаневский, С. В. Доронина, Г. С. Иваненко, Е. С. Кара-Мурза,
А. А. Леонтьев, Т. В. Чернышова, др.);
б) по лингвистической семантике (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова,
A. Н. Баранов, Е. М. Вольф, В. Г. Гак, В. Б. Касевич, И. М. Кобозева, Дж. Лайонз,
М. В. Никитин, Ю. С. Степанов, И. Б. Шатуновский, Т. В. Шмелева, др.);
в) по лингвистической теории модальности (Ш. Балли, В. В. Виноградов,
B. Г. Гак, М. В. Ляпон, В. З. Панфилов, др.);
г) по теории референции (Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева, А. Д. Шмелев,
др.);
д) по теории речевых актов (Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Дж. Остин,
Дж. Серль, др.);
е) проблемной группы «Логический анализ (естественного) языка» Института
языкознания РАН (Н. Д. Арутюнова, А. Д. Шмелев, Н. К. Рябцева, Т. Е. Янко,
И. Б. Шатуновский, др.);
ж) по философии языка (Л. Витгенштейн, Г. Х. фон Вригт, Р. Карнап,
Н. Малкольм, Дж. Мур, К. Поппер, Х. Причард, Б. Рассел, А. Тарский, Г. Фреге,
др.).
Достоверность полученных результатов обеспечивается количеством проанализированных судебных лингвистических заключений по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации (порядка 60 заключений); отражается в опубликованных научных статьях по теме диссертации.
Апробация результатов исследования. Материалы и результаты
исследования обсуждались на Международной научной конференции
«Теоретические и прикладные проблемы современной лингвистики» (Кемерово,
2010), на 1-ой Международной Интернет-конференции по юридической
лингвистике «Право как дискурс, текст и слово» (Барнаул – Кемерово, ноябрь
2010 – январь 2011), на Международной научно-практической конференции
«Русская словесность в России и Казахстане» (Барнаул, 2011), на заседании секции
«Конфликтное и кооперативное в речевой коммуникации» в рамках конференции
«Коммуникативистика в современном мире: эффективность и оптимизация
речевого взаимодействия в социуме» (Барнаул, 2012), на 2-ой Международной
Интернет-конференции по юридической лингвистике «Юрислингвистика:
судебная лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология, юридико-
лингвистическая герменевтика» (Барнаул – Кемерово, ноябрь – декабрь 2012), на
круглом столе докторантов и аспирантов «Человек – текст – коммуникация», организованном в рамках «Дней молодежной науки» в АлтГУ (Барнаул, 2013), а также на заседаниях научного семинара аспирантов и магистрантов, проводимого на кафедре общего и русского языкознания Алтайской государственной педагогической академии (Барнаул, 2010 – 2013).
Основные результаты исследования отражены в семи публикациях общим объемом 3,25 п.л., из них 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (188 наименований), приложения. Общий объем диссертации составляет 286 страниц.
Проблема квалификации спорного высказывания по выделенным признакам
Она не отражает существующего в действительности противопоставления высказываний, однако может быть соотнесена с лингвистическими теориями, в которых на разных уровнях языка (на уровне лексемы, высказывания, текста) описывается соотношение дескриптивной и оценочной информации (субъективной и объективной). Так, в работах Д. Н. Шмелева неоднократно отмечалось, что в значении некоторых слов наряду с предметно-логическим компонентом присутствует эмоционально-оценочный компонент (например, [Шмелев, 1973, с. 245-247]). В качестве примера теории, описывающей указанное соотношение на уровне высказывания, укажем работы Н. Д. Арутюновой, в которых говорится о том, что языку присуще фундаментальное противопоставление оценочных значений дескриптивным [Арутюнова, 1999, с. 182]. Различие оценочных значений и дескриптивных заключается в том, что дескриптивные значения фиксируют отношение высказывания к действительному миру, а оценочные - характеризуют связь между действительным миром и его идеализированной моделью [там же]. Согласно теории И. Р. Гальперина, в тексте отражается три вида информации: содержательно-фактуальная (содержит сообщение о фактах, событиях, процессах, имеющих место быть в действительности), содержательно-концептуальная (отражает индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями действительности, понимание причинно-следственных связей между этими явлениями) и содержательно-подтекстовая (скрытая невербализованная информация в тексте) [Гальперин, 1981]. Г. В. Колшанский указывает на то, что в философии и лингвистике издавна существовал спор о природе информации, которая передается в языковых формах: «является эта информация продуктом познавательной деятельности человека ... или продуктом лишь «самовыражения субъекта», т.е. чисто индивидуальных переживаний человека» [Колшанский, 1975, с. 3].
Как видим, в лингвистических работах представлена оппозиция дескриптивной и оценочной информации, однако она значима в описательном аспекте. Следует заметить, что в теоретической лингвистике, в отличие от юридической сферы, вопрос о строгом разграничении этих двух видов информации в единицах языка разных уровней не ставится. Наоборот, лингвистами, как правило, подчеркивается то, что «в естественном языке два аспекта - дескриптивный и оценочный - обычно совмещаются, образуя как бы сращение, «амальгаму» двух структур, которые накладываются друг на друга» [Вольф, 2002, с. 393].
О. Н. Матвеева в диссертационном исследовании пишет о том, что «лингвистические категории события и оценки ... трансформируются в принципиально важные для юриспруденции категории факта и мнения, от различения которых зависит квалификация тех или иных высказываний как соответствующих / не соответствующих действительности» [Матвеева, 2004, с. 93-94]. Лингвистическая оппозиция события и оценки, другими словами, юридизируется, т.е. становится значимой в правовом отношении. Очевидно, что процесс юридиза-ции языковых явлений имеет место в действительности, и в работах Н. Д. Голева подробно рассмотрены механизмы данного процесса. Однако лингвистическую оппозицию «событие - оценка» с трудом можно рассматривать как основание (как то, что послужило толчком, поводом для возникновения) юридически значимого противопоставления утверждения о факте и оценочного суждения, мнения, убеждения. Данное противопоставление сложилось и оформилось уже в собственно юридической сфере. Во-первых, оппозиция утверждения о фактах и оценочного суждения, мнения возникает в результате противопоставления высказываний, которые могут быть проверены на соответствие действительности (утверждение о фактах), и высказываний, которые не могут быть проверены на соответствие действительности (оценочное суждение, мнение, убеждение). Первые, согласно статье 152 ГК РФ, подлежат опровержению, вторые - нет; проверяемые на соответствие действительности высказывания могут порочить честь, достоинство и деловую репутацию лица, соответственно, высказывания, не проверяемые на соответствие действительности, нет. Во-вторых, оппозиция складывается в результате того, что действие статьи 152 ГК РФ ограничивается действием других законов, в частности, статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской Федерации, а также Законом о средствах массовой информации. Согласно данным нормативным актам каждому гражданину гарантируется право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации. В связи с этим суд не в праве требовать доказательства истинности тех высказываний, которые имеют форму оценочных суждений, мнений, убеждений.
Таким образом, рассмотренные в лингвистике и юридической сфере оппозиции формально соотносятся друг с другом, но содержательно имеют различную природу. В отличие от лингвистической, юридически значимая оппозиция утверждения о фактах и оценочного суждения, мнения не описывает существующего в естественном языке положения дел. Она сложилась в рамках модели правового регулирования определенных ситуаций действительности. Указанное различие лингвистически и юридически значимых оппозиций, на наш взгляд, объясняет трудности квалификации конкретных высказываний как утверждений о фактах, оценочных суждений, мнений, которые (имеется в виду трудности) возникают перед лингвистом, выполняющим экспертное исследование спорного речевого произведения.
На различие оппозиции «фактуальное / оценочное», «субъективное / объективное» в лингвистике и юридической сфере указывает Г. С. Иваненко [Иваненко, 2006]. Для исследователя разница интерпретации указанной оппозиции лингвистами и юристами заключается в том, что в естественном языке и лингвистике, его описывающей, фактуальное и оценочное, субъективное и объективное неразрывно связаны в языковых единицах разных уровней. В подтверждение своей мысли Г. С. Иваненко приводит высказывание Ш. Балли: «не бывает ни абсолютно рассудочных, ни абсолютно эмоциональных речевых фактов ... значение имеет только пропорция, в которой они представлены» [Иваненко, 2006]. В юридической же сфере эти два явления отграничены друг от друга, противопоставлены друг другу. Требование правовой системы к лингвистической экспертизе, заключающееся в необходимости строгой дифференциации фактуального и оценочного, субъективного и объективного, порождает междисциплинарный конфликт, в основе которого, по мнению исследователя, лежит различная интерпретация данной оппозиции лингвистами и юристами
Верифицируемость спорного высказывания
Анализ судебных лингвистических экспертиз по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обзор статей, посвященных вопросу о разграничении фактитивных и оценочных высказываний, показывает, что высказывания современного русского языка о будущих событиях эксперты относят к оценочным суждениям, мнениям, предположениям. Считается, что данный тип высказываний представляет собой выводное знание: события будущего принципиально не наблюдаемы, они могут быть известны говорящему только в результате проделанных мыслительных операций, а следовательно, информация о них «не может быть проверена на предмет соответствия действительности, во всяком случае в момент возникновения» [Иваненко, 2006, с. 160]. На наш взгляд, экспертная квалификация высказываний о будущих событиях представляет собой проблему. Для ее решения необходимо рассмотреть устоявшиеся в логике, лингвистике, юрислингвистике представления о данном типе высказываний.
В лингвистических работах сформировалось представление о том, что высказывания о будущем выражают гипотезу: «Утверждения о будущем коренным образом отличаются от утверждений о прошлом и настоящем: если (многие) прошлые и (большинство) настоящих событий говорящий имеет возможность - хотя бы в принципе - наблюдать лично, то будущие события не принадлежат реальному миру: любое утверждение о будущем представляет собой пусть даже и очень достоверную, но гипотезу» [Плунгян, 2003, с. 267]. Употребляя предикат в форме будущего времени, говорящий сообщает, что описываемые события не принадлежат реальному миру, но что такая возможность существует в будущем. Если бы говорящий посчитал, что такая возможность полностью исключена, он бы воспользовался формами ирреального наклонения [там же, с. 268]. В логико-грамматических работах подчеркивается, что формы будущего времени во многих языках выражают скорее модальные значения, чем темпоральные. «Референция к будущему, в отличие от референции к прошлому или настоящему, в общем случае, если не всегда, смешана с неуверенностью либо, напротив, с ожиданием и предвосхищением. Такие установки традиционно рассматриваются как модальные» [Лайонз, 2003, с. 335]. Такое представление о семантике высказываний о будущих событиях было перенесено в экспертную практику и стало основой квалификации данных высказываний как оценочных суждений, мнений, предположений.
По мнению Г. С. Иваненко, признаком субъективного высказывания яв-ляется форма будущего времени глагола-сказуемого [Иваненко, 2010, с. 217] . Исследователь отмечает, что «отражение действительности глаголами в форме будущего времени отличается от отражения действительности глаголами в форме настоящего и прошедшего времени в аспекте их «реалистичности». Язык антропоцентричен, а потому глаголы в форме будущего времени априори не могут восприниматься как абсолютно адекватное отражение реальности. Весь человеческий опыт подсказывает, что будущее время можно воспринимать как планируемые реалии, но ни в коем случае не как стопроцентное включение в событийную структуру действительности. Это пресуппозитивно признается говорящим коллективом, поэтому даже фактуальная по своей природе событийная информация, отнесенная к плану будущего, воспринимается как прогноз, намерение, угроза, но не как констатация факта» [там же]. Как видим, предлагаемое Г. С. Иваненко решение проблемы квалификации высказываний о будущих событиях основывается на традиционном подходе. Во-первых, за основу
Однако, как указывает ученый, «нельзя считать форму будущего времени глагола-сказуемого стопроцентным гарантом субъективности высказывания. Другие компоненты предложения могут внести в смысловую структуру предложения такие компоненты, которые будут позиционировать информацию как объективную» [Иваненко, 2010, с. 218]. В полипропозитивных высказываниях с глаголами в форме будущего времени «создается второй информационный план, и, помимо прогноза, который по-прежнему остается субъективным, возникает констатация уже свершившегося события, и она представлена как объективная» [там же]. Примеры таких высказываний: «Такая политика приведет к разорению, как это уже было»; «Он, памятуя прошлый удачный опыт, потом уберет со своего пути ненужных свидетелей». квалификации спорного высказывания берется один из признаков этого высказывания, в данном случае форма будущего времени. Во-вторых, высказывание признается субъективным суждением, поскольку выражает результат интерпретации говорящим некоторого положения дел в будущем. В-третьих, сообщение о будущем не соотносится с действительностью (не включено в событийную структуру действительности, является планированием этой действительности) и не обладает поэтому свойством истинности. Как уже было сказано, в определенном смысле субъективны не только оценочные высказывания, мнения или предположения, но и те высказывания, которые квалифицируются экспертами как утверждения о фактах. Очень сложно на практике разграничить субъективные и объективные высказывания. В естественно-речевой коммуникации высказывания о будущих событиях действительно воспринимаются как мнения, предположения говорящего . Однако это еще не доказывает, что высказывания о будущем должны быть отнесены к оценочным суждениям. Мы неоднократно приводили примеры того, как в естественно-речевой среде оценочная информация нередко воспринимается слушающим как фактическая. Таким образом, с нашей точки зрения, решение проблемы квалификации высказываний о будущем на принципах традиционного подхода не является удовлетворительным, необходим новый подход.
Нами неоднократно подчеркивалось, что лингвист в ходе экспертного исследования спорного высказывания (вместо того чтобы причислять высказывание либо к утверждениям о факте, либо к оценочным суждениям на основании какого-то одного выделенного признака) должен эксплицировать информацию, истинную или ложную, и информацию, не обладающую свойством истинности. Однако как быть с высказываниями о будущих событиях? Обладает ли содер Особое отношение к высказываниям о будущих событиях объясняется обыденным представлением о знании и мнении. Содержащуюся в данных высказываниях информацию невозможно знать, поскольку если мы знаем что-то, то не способны ошибаться в этом. Интуитивно носитель языка понимает, что он всегда может допустить ошибку, говоря о будущих событиях. Поэтому он скорее не знает, что произойдет в будущем, а полагает это. Эта мысль была высказана Дж. Остином: «В обоих рассуждениях присутствует одна и та же навязчивая мысль: если я знаю, то я не могу ошибаться, и поэтому я не могу обрести право говорить, что знаю; и если я обещаю, то я не могу не сдержать слова, и поэтому я не могу обрести право говорить, что я обещаю. Эта мысль в обоих случаях паразитирует на моей неспособности делать предсказания, имея в виду под предсказаниями притязания на знание будущего» [Остин, 2006, с. 122]. жащаяся в них информация свойством истинности? Как показывает анализ логико-философской литературы по данной проблеме, на этот вопрос нет однозначного ответа.
Интерес к проблеме истинности высказываний о будущих событиях восходит к Аристотелю. Сам Аристотель и последующие исследователи (Я. Лукасевич, Г. X. фон Вригт, Я. Хинтикка, А. С. Карпенко, 3. Н. Микеладзе и др.) проблему истинности высказываний о будущих случайных событиях связывают с детерминизмом и фатализмом. Данную проблему можно сформулировать следующим образом: можем ли мы о высказываниях, утверждающих некоторое положение дел в будущем, уже сейчас (т.е. в любой момент времени, предшествующий тому, в который должны произойти описываемые в высказывании события) сказать, что они истинны или ложны? Если мы дадим положительный ответ на поставленный вопрос, то придем к детерминизму. «Предположим, сейчас истинно, что завтра будет морское сражение. Из этого следует, что не может быть, чтобы завтра не было морского сражения, иначе не было бы истинным, что морское сражение завтра произойдет. Следовательно, завтрашнее морское сражение является необходимым. Аналогично если было бы сейчас ложно, что завтра будет морское сражение, то необходимо, что морское сражение завтра не произойдет. ... Обобщив это рассуждение, получаем, что все, что происходит, происходит по необходимости и нет ни случайных событий, ни свободы воли» [Гулидов, Наберухин, 1997]. Очевидно, это противоречит даже обыденным представлениям о действительности. Логики и философы, занимающиеся рассматриваемой проблемой, разными путями стремились развеять «иллюзию» (фон Вригт) детерминизма. Ян Лукасевич, отвергающий детерминизм, но соглашающийся с тем, что все происходящие в мире события имеют причину, указывает на то, что может быть так, что в настоящий момент еще не существуют причины будущих событий. «Ведь может так случиться, что бесконечная цепь причин, вызывающая к жизни завтрашнее пребывание или отсутствие Яна в доме, лежит в будущем и еще не началась» [Лукасевич, 1995, с. 68]. Тогда, согласно Лукасевичу, высказывание о будущих событиях не истин 95 но и не ложно, оно имеет третье логическое значение: оно неопределенно или возможно. Известный польский логик отказался от классической двузначной логики, разработав трехзначную систему логики, которая преодолевает детерминизм.
Все же большинство исследователей рассматриваемой проблемы считают, что высказывания о будущих событиях обладают свойством истинности. Ими уточняется само понятие истины, при этом подчеркивается, что уяснение различий в понимании истины позволяет отказаться от детерминизма. Так, фон Вригт предлагает различать простую (или нетемпоральную истину) и собственно темпоральную истины. О высказывании «Завтра, 14 января 1981 года, произойдет морское сражение» мы можем говорить, что оно истинно в нетемпоральном смысле, «если морское сражение происходит 14 января 1981 года». Если указанное событие происходит, тогда «высказывание о морском сражении истинно в любое время до 14 января 1981 года, а также в этот день и после него» [Вригт, 1986, с. 544]. Темпоральная истина выражается модальными операторами необходимости (необходимо истинно, несомненно истинно). Высказывание может становиться необходимо истинным с определенного момента времени, когда в действительности появляется причина будущих событий. Фон Вригт приводит следующий пример: «человек упал с вершины Эйфелевой башни и разбился насмерть. То, что его смерть произошла во время t, является нетемпоральной «вечной» истиной. То, что он умрет точно тогда, было необходимо с того момента, когда он упал» [Вригт, 1986, с. 550]. Однако, по Вригту, из того, что необходимо истинно, что человек умрет после того, как он упал с вершины Эйфелевой башни, вовсе не следует, что он обязательно умрет (по счастливой случайности он может остаться живым) .
Проблема эвиденциальности в экспертной практике по делам о защите чести
Анализ импликативных высказываний не вызывает особых трудностей. Для данных высказываний продемонстрируем, как в ходе экспертного исследования осуществляется экспликация информации, определение свойства истинности и способа предъявления (в форме утверждения, мнения, предположения).
Обратимся к экспертной практике, где предметом исследования были им-пликативные высказывания.
«Ведь если факт то ли бессовестного вранья, то ли вовсе профессиональной некомпетентности, то ли искреннего заблуждения генерала Гулякова установлен, то возможно ли доверять его словам и впредь?» (Приложение 1.8).
Комиссия лингвистов-экспертов отнесла данное высказывание к предположениям: «негативная информация содержится в форме предположения, на это указывает структура предложения: если..., то. Предложения, построенные по такой модели, представляют информацию гипотетически».
Как видим, эксперты ориентировались на грамматическую структуру высказывания. Если высказывание представляет собой сложноподчиненное предположение с условным придаточным, то оно выражает предположение. Как было указано в предыдущей главе, значение гипотезы - лишь одно из значений, выражаемых данным видом высказываний. Проведем пропозициональный анализ спорного высказывания, чтобы вычленить информацию, истинную либо ложную, и информацию, которая не обладает свойством истинности.
В высказывании вычленяется событийная пропозиция, истинная или ложная: «установлен факт». Причем невозможно эксплицировать определенно, какой именно факт был установлен. На основе предшествующего и последующего высказываний {«Вероятно, по той причине, что скандал уже стал достоянием общественности, генерал-лектор Александр Гуляков не стал бренчать, как жестянками, заслугами УВД в раскрытии преступлений. Он, конечно же, вынужден был признать, что мы в этой части уже скатились вниз] и В отличие от прокурора Кошлевского, Гуляков заговорил о проблеме только тогда, когда его стала «доставать» местная независимая пресса. Вот и поверь после этого уверениям генерала милиции в том, что он открыт перед обществом») можно предположить, что генерал Гуляков утаил от общественности какую-то проблему. Информация, выражаемая событийной пропозицией, представляется в высказывании как данное. Отсюда союз «если» можно заменить союзом «раз»: «Ведь раз факт то ли бессовестного вранья, то ли вовсе профессиональной некомпетентности, то ли искреннего заблуждения генерала Гулякова установлен, то возможно ли доверять его словам и впредь?». В высказывании также эксплицируется логическая пропозиция качественной харак-теризации, не истинная и не ложная: «то (что генерал Гуляков утаил от общественности какую-то проблему) - это бессовестное вранье, профессиональная некомпетентность или искреннее заблуждение генерала». Союз «то ли - то ли» выражает противопоставление со значением неуверенности, неясности, неопределённости. Поэтому в высказывании эксплицируется модусный смысл сомнения: говорящий не знает, как квалифицировать установленный факт. Вторая часть высказывания «возможно ли доверять его словам и впредь?» является риторическим вопросом. В ней эксплицируется модальное значение долженствования: «не должно быть так, чтобы в будущем кто-то доверял словам генерала Гулякова».
Таким образом, в спорном высказывании содержится: 1) утверждаемая истинная или ложная информация о том, что установлен факт (возможно, генерал Гуляков утаил от общественности какую-то проблему); 2) информация, не обладающая свойством истинности: а) с точки зрения говорящего, то, что генерал Гуляков утаил от обще ственности какую-то проблему, - это бессовестное вранье, профессиональная некомпетентность или искреннее заблуждение генерала; б) говорящий сомневается в том, какой именно оценки заслуживает гене рал Гуляков; 163 в) говорящий считает, что не должно быть так, чтобы в будущем кто-то доверял словам генерала Гулякова. 2. Высказывание «Они не могут защитить свои права в суде, если стороной в споре является власть» (Приложение 1.9) стало предметом исследования в заключении эксперта. Вычленив информацию, содержащуюся в спорном высказывании («существуют ситуации, когда стороной в споре является власть и власть нарушает существующие нормы, но невозможно защитить свои права»), а также убедившись в том, что данная информация либо истинная, либо ложная, эксперт квалифицировал высказывание как утверждение о фактах. Как видим, логика рассматриваемого экспертного исследования, приемлемая, с нашей точки зрения, отличается от предшествующего исследования. Эксперт не ориентировался на грамматическую форму спорного высказывания и на распространенное обобщенное представление о том, что условным высказыванием выражается предположение.
На наш взгляд, следует уточнить информацию, содержащуюся в спорном высказывании. В глубинной семантической структуре данного высказывания присутствует квантор общности, а не квантор существования, как указано экспертом. Это уточнение имеет существенное значение тогда, когда эксперт должен будет указать условия, при которых высказывание ложно. Как известно, высказывания с кванторами общности и существования имеют разные условия, при которых они не соответствуют действительности.
Рассматриваемое высказывание относится к типу высказываний, в которых союз «если..., то...» имеет значение сообщения (в рассмотренной нами классификации Е. В. Урысон). Пропозициональный анализ высказывания показывает, что в нем отсутствуют имплицитные пропозициональные установки (ср. это же высказывание, но со значением гипотетичности: Если стороной в споре выступит власть, они не смогут защитить свои права в суде). Для удобства анализа трансформируем данное высказывание в сложноподчиненное предложение с придаточным времени: «Всякий раз, когда стороной в споре является власть, они не могут защитить свои права в суде». Высказывание истинно или ложно. Высказывание ложно, если был хотя бы один случай, когда стороной в споре являлась власть, и граждане и депутаты (об этом узнаем из предшествующего контекста) могли защитить свои права.
Таким образом, традиционный подход, ориентирующий эксперта на поиск отдельных признаков спорного высказывания46, позволяющих отнести данное высказывание либо к оценочным суждениям, либо к утверждениям о фактах, не дает положительных результатов при квалификации импликативных высказываний. Необходим тщательный анализ семантической структуры таких высказываний. Для этих целей, с нашей точки зрения, подходит пропозициональный анализ.
Анализ импликативных высказываний
Наречие «нельзя» толкуется как «нет возможности, невозможно» [Большой толковый словарь русского языка, 2000]. Частица «неужели» означает вопрос, выражает сомнение, недоверие, удивление [там же]. Пресечь - «энергичным вмешательством положить конец чему-либо, прекратить что-либо» [там же]. Спорное высказывание представляет собой риторический вопрос, а потому имеет значение сообщения. С учетом результатов словарного анализа высказывание может быть представлено в следующем виде: «Я сомневаюсь в том, что никак нельзя пресечь эти общественно опасные действия». Для риторических вопросов характерна закономерность: «предложения, отрицательные по форме, передают утвердительное сообщение, а предложения с утвердительной формой имеют значение отрицаний» [Русский язык, 1979, с. 258]. Отсюда спорное высказывание может быть сформулировано следующим образом: «Яуверен в том, что можно пресечь эти общественно опасные действия». Как видим, в нем присутствует модальный предикат «можно», который имеет объективное значение: «имеется возможность». В высказывании эксплицируются две пропозиции: 1) «есть возможность прекратить действия (о которых говорилось ранее)»; 2) «эти действия общественно опасные». Последней пропозицией выражается оценочная информация, которая не обладает свойством истинности. Истинность / ложность информации о возможности зависит от условий, создающих эту возможность. В высказывании сообщается об уверенности автора в существовании возможности пресечь общественно опасные действия, на что указывает пропозициональная установка «я уверен».
Имплицитно спорным высказыванием выражается модальное значение долженствования {«Необходимо пресечь эти общественно опасные действия»), которое в большей степени соответствует прескриптивной разновидности этого значения {«Давайте пресечем эти общественно опасные действия»). Трансформированные таким образом высказывания при включении в контекст не нарушают его целостности, согласуются с ним: «Он выпущен под залог 50 миллионов рублей, ходит на свободе и продолжает совершать преступления. Он расшатывает общественное мнение, развешивает везде баннеры, содержащие призыв свергнуть действующую власть, использует Интернет и печатные издания для распространения заведомо ложной информации, дестабилизирующей обстановку в районе. Необходимо пресечь эти общественно опасные действия/Давайте пресечем эти общественно опасные действия».
Таким образом, анализ высказываний с предикатами возможности в экспертном исследовании имеет следующие особенности. При экспликации информации и выявлении свойства истинности необходимо учитывать значение модального предиката, которое определяется путем подстановки высказывания, трансформированного в соответствии с его эпистемическим, пермиссивным или объективным пониманием, в контекст.
Если модальный предикат имеет эпистемическое значение, то в высказывании эксплицируется событийная (реже логическая) пропозиция. Информация обладает свойством истинности, однако не утверждается говорящим.
При объективном значении в высказывании вычленяется пропозиция, которая формулируется с использованием предикатов, маркирующих разновидности данного значения («имеется возможность», «способен», «умеет», «имеет право», «разрешено»). Невозможно указать условия истинности / ложности для высказываний о существовании возможности, о способностях, умениях. Высказывания, сообщающие о существовании нормы в определенном месте, о соответствии или не соответствии норме, о наличии или отсутствии у некоторого лица права, могут быть истинными или ложными.
Наконец, если предикат имеет пермиссивное значение, то та часть высказывания, в которой это значение выражается, представляется в форме императива. Высказывание не обладает свойством истинности, поскольку употребляется не для описания действительности.
В высказываниях, в которых модальный смысл возможности выражен не с помощью центральных языковых средств (т.е. глагола, слова категории состояния, краткого прилагательного), необходим словарный анализ таких средств.
Для информации, обладающей свойством истинности, необходимо указать способ её предъявления в высказывании: информация утверждается либо подается как предположение, мнение. Способ предъявления информации определяется путем анализа лексико-грамматической структуры всего высказывания, либо той части, в которой содержится пропозиция, а также путем анализа контекста.
Методика экспертного анализа спорного высказывания основывается на том, что при решении задачи о разграничении утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений лингвист-эксперт указывает, в каком отношении с действительностью находится содержащаяся в высказывании информация (семантический аспект) и в какой форме она выражена (прагматический аспект). Экспертное исследование спорного высказывания включает три этапа: 1) экспликация информации, 2) установление возможности быть истинной или ложной (с указанием условий ложности), 3) определение формы выражения (утверждение, мнение, предположение). В результате анализа вычленяется 1) информация, обладающая свойством истинности и сообщаемая в форме утверждения; 2) информация, обладающая свойством истинности, но имеющая форму мнения или предположения; 3) информация, которая не обладает свойством истинности, но выражается в форме утверждения; 4) информация, которая не обладает свойством истинности и передается в форме мнения или предположения.
Если спорное высказывание включает оценочную и вербализованную дескриптивную информацию, последняя эксплицируется и для нее указывается, утверждается ли она автором. Истинная или ложная информация может использоваться для выражения положительной или отрицательной оценки. В таком случае говорящий не берет на себя ответственность за ее истинность. Если истинную или ложную информацию, которая содержится в пресуппозиции оценочного высказывания, невозможно эксплицировать так, чтобы она могла сформировать негативное представление о лице, то данная информация не должна приниматься во внимание экспертом. Если в спорном высказывании информация сообщается с использованием метафор и устойчивых выражений, содержание пропозиции с помощью семантического и контекстного анализа, приема перефразирования представляется в максимально (насколько это возможно) эксплицитном виде, а затем устанавливается наличие свойства истинности. В выводах экспертного заключения указывается информация, которая не является оценочной, но для нее невозможно указать условия ложности в силу ее неопределенности. Тем самым лингвист-эксперт предупреждает суд, которому предстоит оценить соответствие действительности данной информации.