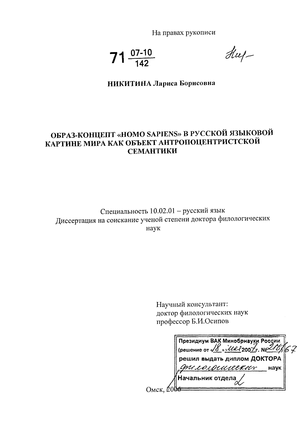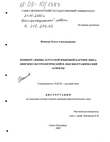Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования языкового образа-концепта «homo sapiens» как объекта антропоцентристской семантики 30
1.1. Языковая концептуализация действительности: понятие, характерные черты, единицы, средства выражения 30
1.1.1. Концепции языковой картины мира и основные черты языковой концептуализации действительности 30
1.1.2.Категоризация как когнитивный и семантический закон концептуализации мира в сознании и языке 44
1.1.3 .Языковой образ-концепт как объект антропоцентристской семантики 54
1.1.4.Слово, высказывание, текст, дискурс - средства языковой/речевой репрезентации образа-концепта 67
1.2. Человек в языке и языковые образы человека 79
1.2.1.Человек-Язык-Культура 79
1.2.2.Человек как субъект и объект языковой концептуализации 87
1.2.3.Образ-концепт «человек» в русской языковой картине мира 96
1.3. Выводы 111
ГЛАВА 2. Партитивность как категориальная семантическая черта образа-концепта «homo sapiens» в русской языковой картине мира: образы целостного и частичного человека разумного 115
2.1. Лексико-семантические репрезентации целостного и частичного homo sapiens в русском языке 115
2.2. Базовые структурно-семантические модели характеризации целостного и частичного homo sapiens в русском языке 131
2.3. Семантическое поле «интеллект»: синонимические, антонимические, эпидигматические связи 146
2.4. Лексико-семантическое и семантико-синтаксическое представление «интеллектуальных частей» человека в русской языковой картине мира 155
2.5. Выводы 172
ГЛАВА 3. Оценочность как категориальная семантическая черта образа-концепта «homo sapiens» в русской языковой картине мира 176
3.1. Оценка homo sapiens и способы ее выражения в русском языке 176
3.2. Отражение в языковом образе-концепте «homo sapiens» оценочной дихотомии «умный-глупый» 184
3.3 Оценка частичного (частей) homo sapiens в русском языке 200
3.4. Лексико-семантические показатели качества и интенсивности оценки homo sapiens в русском языке 209
3.5. Выводы 222
ГЛАВА 4. Языковой образ-концепт «homo sapiens» в прагмасти-листическом аспекте 226
4.1. Речевые жанры репрезентации homo sapiens в русском языке 226
4.2. Образ-концепт «homo sapiens» в речевом жанре «порт-ретирование» 237
4.3. Образ-концепт «homo sapiens» в речевом жанре «одобрение» 259
4.4. Образ-концепт «homo sapiens» в речевом жанре «порицание» 267
4.5. Образ-концепт «homo sapiens» в речевом жанре «сентенция» 282
4.6. Выводы 291
ГЛАВА 5. Лингвокультурологическая интерпретация образа-концепта «homo sapiens»: стереотипизация человека разумного в русской языковой картине мира 295
5.1. Архетипические истоки современных языковых репрезентаций homo sapiens 295
5.2. Ассоциативные образы как показатели стереотипизации homo sapiens в русской языковой картине мира 313
5.3. Выводы 329
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 333
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 342
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭМПИРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 376
ПРИЛОЖЕНИЕ 379
- Концепции языковой картины мира и основные черты языковой концептуализации действительности
- Лексико-семантические репрезентации целостного и частичного homo sapiens в русском языке
- Оценка homo sapiens и способы ее выражения в русском языке
Введение к работе
Одной из важнейших нашедших отображение в языке ипостасей человека является интеллектуальная (homo sapiens). С одной стороны, это субъектная языковая ипостась человека: возникновение и функционирование естественного языка неразрывно связано с возникновением человека как вида и познанием человеком разумным окружающего мира. С другой стороны, homo sapiens является объектом познания, процесс и результаты которого отображаются в языке. Настоящая диссертационная работа посвящена отображению в русской языковой картине мира (ЯКМ) образа-концепта «homo sapiens» (человека в совокупности его интеллектуальных действий, качеств, состояний) как объекта языковой концептуализации. Исследование вписывается в антропологическую парадигму современного отечественного языкознания и представляет одно из течений лингвоантропологии - антропоцен-тристскую семантику.
Парадигма трактуется как совокупность взглядов, знаний, подходов к объекту исследования, существенно отличающаяся от других таких совокупностей. Принято считать, что в лингвистике (и вообще в гуманитарных науках) парадигмы не сменяют друг друга, но накладываются одна на другую и сосуществуют в одно и то же время, игнорируя друг друга (см.: [Маслова, 2001: 5]). Однако в определенные временные периоды в языкознании преобладает та или иная научная парадигма, что позволяет говорить о смене научных приоритетов, отражающей эволюционную динамику лингвистической науки.
В отечественном языкознании традиционно выделяются три научные парадигмы, каждая из которых имеет свои направления, течения, школы: сравнительно-историческая (ее расцвет приходится на XIX век), системно-структурная (время ее бурного развития - первая половина XX века) и антропологическая (антропоцентрическая), громко заявившая о себе во второй
половине прошлого века и в настоящее время претендующая на роль ведущей.
Становление и развитие лингвоантропологической парадигмы отражает закономерный, отвечающий логике развития лингвистической научной мысли процесс. В центре внимания первой из названных научных парадигм оказалась объектная сущность языка, установление соотношений между языками, определение их исторического родства, описание их эволюции во времени и пространстве. Далее было осознано, что сравнительно-исторический подход к языку не исчерпывает всех знаний об объекте: каждый естественный язык состоит из взаимосвязанных системообразующих структурных элементов, без изучения которых нельзя понять его специфику (исследование языка как системы осуществляется в рамках системно-структурной парадигмы). Вторая парадигма, как и первая, обнаружила перспективы исследования объекта, основанные на том, что язык как знаково-символическая система есть продукт человеческой деятельности, средство коммуникации между людьми, т.е. он объект, в котором не может не отражаться субъективное (идущее от человека) начало. Следовательно, язык должен изучаться в тесной связи с бытием человека - именно этот принцип и лежит в основе антропологической парадигмы в языкознании.
Стоит заметить, что сам этот принцип для мирового и отечественного языкознания не нов и демонстрирует преемственность в вопросе признания роли человеческого фактора в языке: пропагандируемые лингвоантропологической парадигмой идеи уходят своими корнями в лингвистические научные парадигмы, становление которых пришлось на более ранний период. Он проявил себя и в сравнительно-исторической, и в системно-структурной парадигмах: первая выдвинула человеческий фактор в качестве необходимого условия происхождения и изменения языка; вторая рассматривает человеческий фактор с позиций его роли в формировании системно-структурных отношений между единицами языка. Лингвоантропологическая парадигма более масштабно и последовательно переключает интересы исследователя с
объектов познания в языке на субъекта языка, на анализ человека в языке и языка в человеке: человеческий фактор в разных его проявлениях включается в определение объекта языкознания, в методологию исследований: «язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка» [Бенвенист, 1974: 15].
Базовая установка лингвоантропологического подхода «Язык должен изучаться по «мерке человека», опирающаяся на постулат об антропоцен-тричности языка, восходит к лингвистической концепции В. фон Гумбольдта, согласно которой язык есть живая и главнейшая деятельность человеческого духа, единая энергия народа, исходящая из глубин человеческого существа и пронизывающая собой все его бытие; следовательно, язык должен изучаться в тесной связи с сознанием и мышлением человека, его культурой и духовной жизнью (см.: [Гумбольдт, 1985]). Существенный вклад в обоснование этой установки внесли представители психологического направления в отечественном языкознании (И.А.Бодуэн де Куртенэ, А.А.Потебня, Л.В.Щерба), подчеркивавшие, что язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов, составляющих языковое общество.
Антропологическая парадигма в современном отечественном языкознании представлена рядом направлений, единым вектором научных поисков которых является человек - создатель языка, субъект речи/мысли, отображающий в языке свое сознание, т.е. все свои состояния, настроения, оценки, свое этническое, культурное, социальное, нравственное, эстетическое «Я». Каждое из направлений ориентировано на ту или иную сторону (ипостась) человека, отображенную в языке. Так, в сферу интересов когнитивной лингвистики входит отображение в языке различных процессов, механизмов, способов познания человеком действительности (А.Н.Баранов, В.З.Демьянков, Д.О.Добровольский, Е.С.Кубрякова, Е.В.Рахилина и др.); лингвокультурология обращена к человеку как к творцу языка и культуры (Н.Д.Арутюнова, В.В.Воробьев, В.А.Маслова, Ю.С.Степанов, В.Н.Телия и
др.); этнолингвистика сосредоточивает внимание на изучении связей языка с народными обычаями, социальной структурой нации (Вяч.Вс.Иванов, Н.И.Толстой, В.Н.Топоров и др.); социолингвистика занята изучением особенностей языка разных социальных и возрастных групп (Л.П.Крысин, Н.Б.Мечковская и др.); лингвострановедение исследует собственно национальные реалии, отображенные в языке (Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров и др.). Психологические направления рассматривают язык как феномен психологического состояния и деятельности человека и народа: психолингвистика занимается проблемами языкового сознания, становления и функционирования языкового/речевого механизма с учетом психических процессов (Н.И.Жинкин, А.А.Леонтьев, А.А.Залевская, И.А.Зимняя и др); этнопсихо-лингвистика выводит на первый план проблему отображения в речевой деятельности тех элементов поведения, которые связаны с определенной традицией (Ю.А.Сорокин, Н.В.Уфимцева и др.); психопоэтика изучает психологические основы художественной речи (В.П.Григорьев, Ю.М.Лотман, В.А.Пищальникова и др.)
На идее антропоцентризма языка базируется современная лингвистическая семантика (так называемая широкая семантика), которая изучает содержание языковых единиц как единство их значения и смысла, детерминированного экстралингвистическим контекстом (Ю.Д.Апресян, Н.Д.Арутюнова, Т.В.Булыгина, И.М.Кобозева и др.), а также вступающая в комплементарные отношения с лингвистической семантикой прагмалингвистика, изучающая соответствия между единицами языка и эффектами их использования (В.В.Богданов, Б.Ю.Городецкий, Г.Г.Почепцов и др.).
Добавим, что каждое из названных направлений представлено множеством течений и школ, отличающихся подходами к исследованию языкового и речевого материала, но объединенных общим вниманием к человеческому фактору в языке. Из числа наиболее влиятельных назовем фразеологическую школу В.Н.Телия, представляющую лингвокультурологическое направление, школу этнолингвистики, возглавляемую Н.И.Толстым, психолингвистиче-
скую школу А.А.Леонтьева, Московскую семантическую школу Ю.Д.Апресяна и др., сообщество ученых, работающих по теме «Логический анализ языка» под руководством Н.Д.Арутюновой, школу этногерменевтики Е.А.Пименова и М.В.Пименовой.
Таким образом, есть основания утверждать, что антропологическая парадигма в современном отечественном языкознании породила гипернауку (гипернаправление) - лингвоантропологию, объемлющую все дисциплины языковедческого цикла с человеком как субъектом и объектом языка/речи в центре. Широкая предметная сфера лингвоантропологии в современной теоретической лингвистике несводима к одной области и неслучайно определяется несколькими нетерминологическими описательными выражениями; человеческий фактор в языке (Б.А.Серебренников и др.), человек в языке (Э.Бенвенист), человек и его язык (Р.А.Будагов), язык и мир человека (Н.Д.Арутюнова), мир человека в языке (В.В.Колесов), язык - человек - картина мира, язык — менталъность — культура и др.
Каждое направление лингвоантропологии характеризуется своей методологией, включающей как специфические, так и общие для всей парадигмы методы и приемы исследования языка. Одним из ведущих принципов в формировании собственной теоретической и методологической базы лингвоантропологии становится принцип дополнительности, заключающийся в привлечении данных разных наук, изучающих человека: философии, психологии, социологии, культурологии и др.
Признавая примат в лингвоантропологии в целом семантики, нельзя не отметить, что данное гипернаправление объемлет разные ее сферы. Все школы современной отечественной семантики можно, пользуясь терминологией английского философа-логика У.Куайна, свести к двум основным направлениям: сильная (внешняя) и слабая (внутренняя) семантика. Первая описывает значение языковых знаков через установление их соответствия с действительностью или некоторой моделью мира (например, работы Н.Д.Арутюновой, Т.В.Булыгиной, Е.В.Падучевой, А.Д.Шмелева и др. лин-
гвистов, представленные в сборниках «Логический анализ языка»); вторая исследует языковые значения как способ их представления, отражения в сознании (например, исследования в области когнитивной лингвистики Е.С.Кубряковой, А.Н.Баранова, Д.О.Добровольского, Е.В.Рахилиной, Р.М.Фрумкиной и др.).
Бурное развитие когнитивной лингвистики, в центре внимания которой находится ментальная обусловленность языковых выражений, способствует выработке постулатов когнитивной семантики (см., например: [Кубрякова, 1999]), в которых не только отражена ее специфика, но и заявлены принципиальные отличия от традиционной (классической) семантики, к области которой относится, с одной стороны, все, что означено средствами разных уровней языка, с другой - средства и способы означивания любых смыслов.
В настоящее время в отечественном языкознании формируется одно из течений лингвоантропологии, в котором черты классической широкой семантики (сильной семантики, по У.Куайну) сочетаются с чертами когнитивной семантики, в основе которой лежат некоторые ключевые идеи когнитивной психологии, изучающей процессы, связанные с познанием мира человеком: процессы получения, хранения и обработки информации. Это течение мы называем антропоцентристской семантикой, отмечая, что для нее, в отличие от когнитивной семантики, описание содержащейся в языке информации о мире является целью и собственно исследовательским результатом; семантика в когнитивных и когнитивно-психологических исследованиях выступает средством реконструкции знаний и представлений о мире, опорой для характеристики отображенных в языке ментальных процессов.
Становление и развитие антропоцентристской семантики связано с появлением семантических исследований антропоцентрической направленности, отличающихся от исследований, выполненных в русле классической широкой семантики, специфическим объектом изучения, который обозначился в связи с выдвижением в конце XX века на первый план сформулированной еще В. фон Гумбольдтом проблемы отображения «духа народа», т.е.
национального своеобразия миропонимания, в языке. Объектом семантического описания стало мировидение, отображенное в структуре языка, получившее название языковая картина мира.
Понятие «ЯКМ» основано на положении о том, что каждый естественный язык по-своему членит мир, т.е. воплощает в значениях слов и их композиций свой специфический способ концептуализации действительности, и, следовательно, можно утверждать, что каждый конкретный язык отражает обыденное мировидение, интерпретирует и формирует этнокартину мира, которая наряду со специфическими чертами имеет и общие для некоторого множества ЯКМ, универсальные, черты.
ЯКМ трактуется в ряде работ как «взятое в своей совокупности все концептуальное содержание языка» [Караулов, 1976: 245], представляющее собой многомерное, иерархичное, сложное по своей структуре образование: целостную картину мира любого языка образуют запечатленные в его семантике взаимосвязанные смысловые универсалии (в иной терминологии: составляющие, фрагменты ЯКМ). Языковые репрезентации этих смысловых универсалий в их связи со специфичностью языка становятся объектами семантических исследований, объединенных общей задачей показать, как тот или иной язык отображает мир.
Особенности концептуализации действительности тем или иным языком могут быть продемонстрированы как через сравнение картины мира отдельного языка с картинами мира других языков (например, работы А.Вежбицкой, М.В.Пименовой и др.), так и через описание отдельной ЯКМ или ее фрагментов (языковых репрезентаций различных смысловых универсалий) (например, работы Е.В.Урысон, Е.С.Яковлевой и др.): статус ЯКМ при разных подходах к ее изучению не меняется. В своей диссертации мы сосредоточили внимание на определенном фрагменте русской ЯКМ, полагая, что описанные особенности языковой концептуализации объекта действительности (homo sapiens) по меньшей мере, характерны для русской ЯКМ, поскольку они отображают миропредставления носителей русского языка.
Для обозначения отображенных в языке смысловых универсалий как объектов семантического исследования ученые прибегают к терминам языковой образ или концепт. В своей работе мы используем сложный термин языковой образ-концепт (или образ-концепт в ЯКМ), полагая, что он более точно передает специфику объекта изучения, сочетая в себе указание на его ментальную и отражательную природу (более подробное обоснование выбора термина содержится в параграфе 1.1.3. диссертации).
Исследование языкового образа-концепта характеризуется как движение от смысловой универсалии (экстралингвистического смысла) к ее языковому отображению; от того, что есть в головах и чувствах людей, к тому, как знания и представления воплощаются в языке.
Путь от экстралингвистического смысла к его языковому образу, или установка на идеографический принцип, является характерной чертой лингвистических исследований последних лет, посвященных описанию таких языковых образов-концептов, как время, пространство, движение, чувство, возраст, нравственность и т.д. (например, работы Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюновой, В.Г.Гака, В.В.Колесова, Н.В.Орловой, Е.С.Яковлевой и мн.
ДР-)-
Избрание того или иного языкового образа-концепта в качестве объекта семантического исследования определяется его человеческой и национально-культурной значимостью. В то же время можно говорить о том, что количество потенциальных объектов антропоцентрйстской семантики столь же велико, сколь велико число материальных и идеальных сущностей, с которыми «соприкасается» человек и которые он означивает посредством языка.
Антропоцентристскую семантику отличает не просто движение от экстралингвистического смысла, выделенного из концептуальной картины мира, к его отображению в языке, но учет диалектики человеческого содержания в языке, изучение языка по «мерке человека», что в классической семантике отсутствовало. Безусловно, антропоцентристская семантика не противостоит
классической, поскольку, как и вторая, исследует передаваемое языком содержание; она включает в себя классическую семантику, выдвигая на первый план познание человека по данным языка.
Характерной чертой антропоцентристской семантики является инте-гративность - методологический принцип, заключающийся в использовании ею идей, достижений, методов разных направлений лингвоантропологии. Этот принцип, характеризующий современную лингвоантропологию в целом, для антропоцентристской семантики особенно значим, поскольку объект ее изучения охватывает все отображенные в языке стороны человека, к которым обращено то или иное лингвоантропологическое направление: когнитивно-психологическую, социальную, культурную, этническую, эстетическую. Иными словами, при выделении и исследовании языкового образа-концепта принципиальное значение имеет его экстралингвистическая обусловленность, предполагающая обращение исследователя к таким факторам, как национально-культурные стереотипы, критерии оценки явлений действительности, индивидуально-психологические особенности носителей языка, условия коммуникации и т.д.
Интегративность антропоцентристской семантики обусловлена и тем, что каждое из направлений лингвоантропологии в том или ином плане обращено к семантическим реалиям языка: отталкиваясь от отдельного экстралингвистического аспекта (например, от психологии говорящего, контекста культуры, принадлежности человека к национальной, возрастной, профессиональной группе и т.д.), исследователь стремится интерпретировать содержание языковых/речевых значений, объяснить внутрилингвистическую природу изучаемых явлений экстралингвистическими факторами их порождения и бытия. Методы, применяемые в семантических исследованиях, активно используются в лингвокультурологических, психолингвистических, социолингвистических и др. лингвоантропологических изысканиях, и наоборот. Например, в разных направлениях лингвоантропологии находят применение такие методы семантических исследований, как метод компонентного
анализа, метод полевого структурирования; в работах семантической направленности все чаще используются психолингвистические экспериментальные методики. Надо отметить, что вообще лингвоантропология с ее установкой на междисциплинарность существенно расширяет методологические возможности исследователя.
Интегративный характер антропоцентристской семантики проявляется и в ее обращении к положениям напрямую не связанных с языкознанием наук о человеке, таких, как философия, логика, биология, история, социология и др., - в том объеме, в каком это необходимо для выявления специфики языковой концептуализации явлений окружающего мира, получивших свое научное осмысление.
Об интегративной ориентации антропоцентристской семантики говорит и тот факт, что ее объекты (языковые образы-концепты) «включены» как сложные содержательные структуры (сгустки смысла) во все семантизированные уровни языка и по этой причине должны исследоваться комплексно, через обращение ко всем значимым языковым единицам в их реальном взаимодействии, посредством которого происходит отображение в речи той или иной ментальной сущности.
Знаковая природа отображения явлений действительности в таких единицах языковой/речевой реальности, как слово, предложение (высказывание), текст, дискурс, требует от исследователя обращения к лексическому, синтаксическому, прагмастилистическому уровням языка, на которых и происходит семантическая объективация концепта. Следовательно, антропоцен-тристская семантика демонстрирует установку на интеграцию разных направлений классической семантики (лексическая семантика, семантический синтаксис, коммуникативная семантика) с прагматикой и ее направлениями (теория речевых актов, жанрология, прагмастилистика и др.). Кроме того, в силу своей смыслоразличительной функции в сферу внимания антропоцентристской семантики вовлекаются словообразовательные и фонетические значения лексем (см., например: [Журавлев, 1974]).
Межуровневый характер антропоцентристской семантики заключается не в механическом соединении информации об образе-концепте, полученной исследователем при анализе языковых/речевых единиц разных уровней, а в комплементаризме (взаимодополнении) информации, добытой разными путями (например, путем компонентного, контекстуального анализа, с помощью эксперимента) из разных источников (например, из толковых словарей, живой разговорной речи, текстов художественной литературы). При этом идея комплементаризма осуществляется с акцентом на человека, его роль в формировании языкового образа-концепта.
Обращение ко всем семантизированным уровням языка позволяет исследователю определить как специфические для каждого уровня, так и общие для этих уровней черты языкового образа-концепта. Специфические черты -это те особенности языкового отображения концептуальной сущности, которые связаны с потенциальными семантическими возможностями языковых единиц этих уровней (например, особенности языкового отображения концептуальной сущности определяются словообразовательными возможностями лексем, регулярными реализациями элементарных синтаксических структур, прямыми и косвенными речевыми актами); общие черты - это семантические черты языкового образа-концепта, проявляющие себя на всех уровнях языковой системы и носящие категориальный характер, т.е. отражающие процесс концептуализации человеком того или иного явления действительности (например, оценочность как категориальная семантическая черта языкового образа-концепта «человек» проявляет себя на всех уровнях языковой системы).
Междисциплинарный подход к объектам изучения, межуровневый характер исследований, комплементарная природа практических изысканий и выводов антропоцентристской семантики позволяют употреблять по отношению к ней термин иптегративпая семантика. Интегративность антропоцентристской семантики проявляется в расширении ее объектной области от
слова, элементарного высказывания к тексту, дискурсу, языковому сознанию в его направленности на язык.
Названные черты антропоцентристской (интегративной) семантики, обусловленные спецификой объектов ее изучения (репрезентаций в языке ментальных и социокультурных образований), составляют существо ее методологии. Эта методология заключается в выявлении и обобщении отображенной в языке/речи информации (знаний, представлений, мнений) о явлении действительности, которая объективирована всей системой семантических единиц, структур и правил функционирования языка, репрезентируемых в речевых произведениях.
Среди объектов антропоцентристской семантики (языковых образов-концептов, составляющих ЯКМ) особый статус имеют те, которые являются прямым воплощением человека: его внешних и внутренних черт, способностей, действий, качеств, состояний. Уникальность языкового образа-концепта «человек» заключается в его субъектно-объектной природе: человек выступает одновременно и объектом, и субъектом познания, и язык есть то зеркало, в котором человек в одно и то же время может увидеть себя со стороны и проявить себя в роли самопортретиста, субъекта, творца и языка, и собственного образа.
Безусловно, постоянно пополняющиеся знания о человеке вмещают в себя не только то, что запечатлел язык, но и сведения, добытые наукой (всеми направлениями научной мысли), однако первенство в формировании этих знаний принадлежит языку как репрезентанту обыденного сознания человека, а именно в этом сознании много раньше, чем им заинтересовалась наука, человек «выделил себя из мира природы в качестве вида - homo sapiens, а затем из коллектива - в качестве индивида» [Арутюнова, 19996: 325]. Не случайно в связи со сказанным, что из всех зародившихся научных дисциплин, стремящихся познать феномен человека, именно языкознание оказалось ближе к объекту изучения. Если такие антропологические науки, как биология, социология, антропология, заняты по преимуществу изучением человека
как одного из объектов в мире объектов и, следовательно, исследуют те или иные стороны человека, то философия и лингвистика подходят к человеку и с позиций его субъективного начала, внутреннего существования (см.: [Бердяев, 1999: 22]). Язык и языковая деятельность - это явления внутреннего, индивидуально-психологического порядка, и в этом смысле, как отмечали А.А.Потебня, Д.Н.Овсянико-Куликовский, И.А.Бодуэн де Куртенэ, А.А.Шахматов, Ф. де Соссюр и др., объектом лингвистики, прежде всего лингвистической семантики, является внутренний человек (субъект, языкотворец, речетворец). В то же время в содержании языка запечатлены результаты психологической деятельности человека, в частности, знания о человеке, и в этом смысле лингвистическая семантика занимается человеком как одним из объектов в мире объектов. Такое характерное для языкознания «единство в двух лицах» никогда не подвергалось учеными-лингвистами сомнению, однако подготовленный всей историей языкознания кардинальный разворот лингвистической проблематики в сторону человека как отображенной в языке ментальной сущности произошел именно в рамках антропоцен-тристской семантики, сделавшей языковой образ-концепт «человек» объектом специального масштабного изучения.
Языковые репрезентации человека в языке многообразны, что объясня
ется многообразием ипостасей, в которых человек предстает в реальной жиз
ни. Современные лингвоантропологические исследования обращены как к
языковым (определяющим строй языка и речи), так и неязыковым ипостасям
человека. Так, учеными изучаются такие языковые (субъектные) ипостаси
человека, как интеллектуально-психологическая (А.Н.Баранов,
В.З.Демьянков, Д.О.Добровольский, А.А.Залевская, А.А.Кибрик, А.А.Леонтьев и др.), характерологическая (Г.И.Богин, Ю.Н.Караулов, Е.Н.Гуц и др.), коммуникативная (В.В.Богданов, Т.Г.Винокур, О.С.Иссерс Б.Ю.Норман и др.), аксиологическая (Н.Д.Арутюнова, Е.М.Вольф, Г.А.Золотова, С.Г.Шейдаева и др.), национально-культурная (В.В.Колесов, В.Н.Топоров, Б.А.Успенский и др.), языкотворческая/речетворческая
(Б.А.Ларин, Ю.М.Лотман, Н.А.Кузьмина и др.). Ряд исследований, выполненных в русле антропоцентристской семантики, посвящен отображению в языке неязыковых ипостасей человека. Например, описаны такие языковые образы-концепты, как «внутренний человек» (М.П.Одинцова, Е.В.Коськина), «внешний человек» (О.В.Коротун), «средний человек» (Н.Д.Федяева), «идеальный человек» (В.П.Завальников), «целостный и частичный человек» (М.П.Одинцова, Н.А.Седова), «любящий человек» (Н.В.Орлова, Е.В. Лобкова).
Заметное место среди работ, посвященных отображению в языке различных сторон человека, занимают исследования, в которых объектом внимания являются языковые единицы интеллектуальной сферы (ИС). Например, семантические, прагматические, мотивационные, аксиологические и прочие аспекты анализа лексики ИС затрагиваются в трудах Ю.Д.Апресяна, Т.В.Бахваловой, О.Ю.Богуславской, Т.И.Вендиной, В.Г.Гака, В.И.Карасика, И.М.Кобозевой, Т.В.Леонтьевой, С.Е.Никитиной, М.В.Пименовой, Е.В.Рахилиной, Е.В.Урысон и др.
Внимание лингвистов к отображению в языке интеллектуального мира человека вполне закономерно: интеллект, что общепризнанно, является прерогативой человека, его основополагающей характеристикой и первопричиной всех иных характеристик. Он есть та вечная загадка, разгадку которой человечество ищет постоянно и разными способами, привлекая к этому поиску как достижения науки, так и религиозные, обыденные представления; язык не может быть не вовлечен в этот процесс на правах своеобразного хранителя добытой информации, поэтому обращение к семантическим реалиям языка, в которых запечатлены знания и представления о homo sapiens, - это не только стремление описать очередной «языковой пласт», но и попытка приблизиться к разгадке человеческой сущности.
Вклад лингвистов в изучение языкового образа-концепта «человек разумный», в частности, его репрезентаций в русском языке, весьма ощутим: основательно исследована лексика ИС, структурировано лексико-
семантическое поле «Интеллект человека», описаны исторические трансформации значений ряда языковых единиц ИС, осуществлена стилистическая характеристика лексем ИС. Однако преимущественно исследован лексико-семантический потенциал языковых репрезентаций сферы интеллекта; се-мантико-синтаксический и функционально-прагматический способы воплощения в языке человека разумного представлены лишь в виде иллюстраций для аргументации отдельных положений и выводов.
На наш взгляд, все имеющиеся в отечественном языкознании исследования семантики и прагматики языковых единиц ИС - это основательный задел для более масштабного, чем это было до сих пор, решения проблемы отображения в русской ЯКМ знаний, представлений, мнений носителей языка о homo sapiens. Интегративная методология антропоцентристской семантики способствует, на наш взгляд, адекватному и полному описанию языкового образа-концепта «homo sapiens».
Таким образом, актуальность темы и проблематики настоящего диссертационного исследования мотивируется, во-первых, необходимостью осуществления многопланового, системного описания языкового образа человека во всех его ипостасях, и, прежде всего в главной ипостаси - интеллектуальной, во-вторых, отсутствием в современной отечественной лингвистике специальных исследований языкового образа-концепта «homo sapiens». Кроме того, требуют дальнейшей разработки, совершенствования, апробации и верификации идеи и методология антропоцентристской семантики.
Объект нашего исследования - множество языковых и речевых репрезентаций интеллектуальных проявлений и характеристик человека в современном русском языке, а предмет - основные черты языкового отображения человека разумного, объективируемые лексико-семантическими, семантико-синтаксическими, функционально-прагматическими значениями и категориями в их единстве и взаимодействии с экстралингвистическими факторами, детерминирующими содержание и функционирование языкового образа-концепта «homo sapiens» в разных дискурсах, текстах, ситуациях.
Цель диссертации — семантическая реконструкция образа-концепта «homo sapiens» как фрагмента русской ЯКМ на основе обобщения всех семантических и прагмастилистических его репрезентаций в современном русском языке с опорой на идеи и методологию антропоцентристской семантики.
Конкретные задачи исследования:
Осуществить анализ основополагающих идей антропоцентристской семантики, с тем чтобы, опираясь на них, сформулировать главные методологические принципы, аспекты, проблематику исследования образа-концепта «homo sapiens» в русской ЯКМ.
Исследовать лексико-семантический аспект репрезентаций образа-концепта «homo sapiens».
Описать семантико-синтаксические модели высказываний о человеке разумном и определить их роль в воссоздании образа-концепта «homo sapiens».
Охарактеризовать семантико-прагматический аспект отображения человека разумного в русской ЯКМ.
Обобщить результаты поаспектного описания языковых репрезентаций homo sapiens в системе категориальных семантических черт.
Определить характер влияния экстралингвистических факторов на языковое отображение человека разумного и выявить наиболее значимые лингвокультурологические интерпретации homo sapiens в русской ЯКМ.
Основная гипотеза предпринятого исследования - идея существования образа-концепта «homo sapiens» (человека в его интеллектуальной ипостаси) как фрагмента русской ЯКМ, воплощенного в системе разноуровневых семантических единиц, категорий, закономерностей функционирования языка. Методологическая гипотеза исследования - признание принципиальной возможности на основе методологии антропоцентристской семантики осуществить реконструкцию этого языкового образа- концепта.
Основной материал исследования составляют данные лексикографических источников, паремиологических справочников (около 1500 слов, фразеологизмов, паремий), высказывания и тексты разных стилей и жанров (около 5000 высказываний и текстовых фрагментов), содержащие разноплановые характеристики интеллекта человека. В процессе сбора и систематизации основного языкового материала нами применялись семасиологический и ономасиологический подходы, т.е. фиксировались все языковые единицы, в семантике которых эксплицитно или имплицитно воплощается homo sapiens: и те, в которых присутствует сема «интеллект», и те, в которых эта сема выявляется в результате анализа экстралингвистического контекста. В качестве дополнительного материала использовались ответы участников психолингвистического ассоциативного анкетирования (всего 310 опросных листов), содержащие индивидуальные толкования значений языковых единиц, реконструированные высказывания и указания информантов на ассоциации в связи со словами ИС. Поскольку вероятность использования в живой разговорной речи данных спонтанного искусственного речетворчества чрезвычайно велика (см.: [Леонтьев, 1977: 10]), дополнительный материал исследования выполнял ту же роль, что и основной: служил источником наблюдения над семантическими реалиями русского языка.
Представляющие языковой узус, ассоциативный тезаурус, демонстрирующие стереотипные представления носителей русского языка о homo sapiens единицы и конструкции (конвенциональные метафоры, сравнения, перифразы, фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые изречения) получены в результате выборки из словарей разных типов: Ашукин Н.С., Ашу-кипа М.Г. Крылатые слова. М., 1955; Баранов О. С. Идеографический словарь русского языка. М., 1995; Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб., 2001; В мире мудрых мыслей / Ред. А.Г.Спиркин. М., 1962; Даль В.И. Пословицы русского народа: В 3 т. М., 1993: Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2002; Душенко К.В. Большая книга афориз-
мов. М., 2000; Душечко К.В. Словарь современных цитат. М., 1997; Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1991; Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А. и др. Русский ассоциативный словарь. М., 1998; Крылатые слова. По толкованию С.Максимова. М., 1955; Михелъсон М.И. Русская мысль и речь: свое и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний: В 2 т. М, 1979; Мокиенко В.М. Словарь сравнений русского языка. СПб., 2003; Ожегов СИ. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999; Словарь библейских крылатых слов и выражений. СПб., 2000; Умное слово: Афоризмы, мысли, изречения, крылатые слова / Сост. А.И.Соболев. М., 1964; Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И.Молоткова. М., 1967; Чаша мудрости: Афоризмы, изречения, высказывания отечественных и зарубежных авторов. М., 1978.
В диссертации осуществлен условно синхронный подход к изучению языкового образа-концепта «homo sapiens» с использованием словарных и текстовых источников русского языка в хронологических пределах от Пушкина до наших дней.
Теоретическая основа исследования сформирована с опорой на фундаментальные положения об антропоцентризме языка, связи языка и мышления (В. фон Гумбольдт, А.А.Потебня, Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, Б.А.Серебренников и др.), о существовании ЯКМ, составляющими которой являются образы мира, запечатленные в семантике языка, о влиянии экстралингвистических факторов на языковые репрезентации объектов окружающего мира, о национально-культурном своеобразии ЯКМ (В.Н.Телия, Ю.А.Сорокин, В.ИЛостовалова, Н.Д.Арутюнова, Г.В.Колшанский и др.), об отображении в языковых образах мира и человека особой «мерки человека» (Э.Бенвенист, Ю.Д.Апресян и др.).
Методология исследования основана на идеях и методах антропоцен-тристской (интегративной) семантики, конкретная реализация которых подчинена задаче выявления и типизации контекстуально и экстралингвистиче-ски обусловленных и не обусловленных языковых и речевых репрезентаций
концепта на всех уровнях языковой системы, в текстах разных стилей и жанров, в разнообразных речевых ситуациях, в том числе в условиях эксперимента. В исследовании используются частные методики: концептуального анализа, компонентного анализа, полевого структурирования, семантико-синтаксического моделирования, дискурсивного анализа. Общая установка на интегративность исследования обусловила привлечение данных и методик междисциплинарных направлений лингвистики: лингвокультурологии, психолингвистики, лингвострановедения, социолингвистики, когнитивной лингвистики - и привела к последовательному сопоставлению языковедческих наблюдений со сведениями, предоставляемыми нелингвистическими науками о человеке.
С целью получения дополнительного иллюстративного языкового материала, подтверждающего данные, полученные при помощи использования разных методов семантического анализа, нами был применен экспериментальный метод. Учитывая, что эксперимент предполагал психическую активность испытуемых (осуществлялся «вход в сознание» с целью извлечения языка как достояния индивида), был нацелен на обнаружение ассоциативных связей слов и словосочетаний, имел неподготовленный и по преимуществу вопросно-ответный характер, мы квалифицировали его как прием психолингвистического ассоциативного анкетирования (описание содержания проделанной работы см. в Приложении). Выбор исходного материала для эксперимента осуществлялся в соответствии с темой исследования и в соотнесении с материалом, добытым из других источников: словарей, текстов, живой разговорной речи. Разнотипность заданий для испытуемых обусловлена общей установкой на интеграцию подходов к исследуемой проблеме. Так, мы давали респондентам ряд слов (словосочетаний) — стимулов интеллектуальной тематики и предлагали реагировать на них первыми «пришедшими в голову» словами, словосочетаниями, предложениями (так называемый свободный ассоциативный эксперимент с регистрацией цепи ответов); предлагали задания, ограничивающие свободу ассоциации в нужном для нас направлении (на-
пример, требования определенных синтагматических ассоциаций; требования ассоциаций-сравнений); давали так называемые «закрытые» задания, когда от испытуемых требовалось соотнести слово с тем или иным толкованием. Ответы участников эксперимента проанализированы и систематизированы. Указание на статистические данные, полученные по результатам эксперимента, и их оформление определялось характером обсуждаемых в диссертации частных проблем. Так, при использовании ответов респондентов в качестве аргументативной базы рассматриваемых положений и выводов указывалось процентное соотношение полученных результатов (процент от общего числа участников эксперимента); при констатации частотности ассоциаций и тех или иных трактовок, позволяющей усилить достоверность определений исследователя, указывалось количество одинаковых ответов. При этом все без исключения ответы (и наиболее частотные, и редко повторяющиеся, и единичные) осмыслялись с точки зрения их потенциального «выхода в речь», что в контексте соответствующих рассуждений позволяло не прибегать к формализованной обработке материала. Кроме того, экспериментальные данные использовались по преимуществу выборочно, что соответствовало целям аргументировать рассматриваемые в диссертации положения или дополнить основной иллюстративный материал.
Научная новизна работы. В диссертации представлена авторская общая характеристика одного из течений современной отечественной лингво-антропологии - антропоцентристской семантики и осуществлена программа практической реализации интегративного метода описания языкового образа-концепта. Ранее не подвергавшийся комплексному исследованию образ-концепт «homo sapiens» в русской ЯКМ описан на широком языковом/речевом материале с учетом экстралингвистических факторов, обусловливающих его содержание. Анализ всех языковых репрезентаций homo sapiens впервые произведен в аспекте мыслительной и языковой категоризации; соответственно описаны характерные для языкового образа-концепта «homo sapiens» категориальные семантические черты: партитивность, оце-
ночность, стереотипизация.. В диссертационной работе впервые предложены типологии: лексико-семантические (отражающие репрезентации в языке целостного и частичного homo sapiens и его характеристики), семантико-синтаксическая (представляющая базовые семантические структуры характе-ризации человека разумного), функционально-прагматические (фиксирующие жанровую специфику высказываний о homo sapiens и коммуникативно обусловленные способы характеризации человека разумного), а также типология ассоциативных образов, являющихся показателями стереотипизации homo sapiens в русской ЯКМ. Исследование содержит авторские формулировки определений общих понятий: «языковая картина мира», «языковой образ-концепт», «категориальная семантическая черта», «семантическая категория», а также формулировки определений частных понятий: языковых образов-концептов «человек» и «homo sapiens», названных выше категориальных семантических черт, семантических категорий «часть-целое», «оценка», «стереотип», структурно-семантических моделей характеризации homo sapiens, оценочных речевых жанров репрезентации языкового образа-концепта «человек разумный»: портретирования, одобрения, порицания, сентенции. Впервые описана шкала оценки человека разумного, определены ресурсы косвенности оценок, охарактеризованы ментально-языковые национально-культурные стереотипы оценки homo sapiens в русской ЯКМ.
Теоретическое значимость диссертационной работы состоит в том, что в ней выделены и охарактеризованы базовые идеи антропоцентристской семантики и на их основе разработана и апробирована методология исследования языкового образа-концепта «homo sapiens». Теоретически значимым является исследовательский результат, открывающий возможность реконструкции отображенных в языке смысловых универсалий - фрагментов русской и других национальных ЯКМ. Определение и описание категориальных семантических черт языкового образа-концепта «homo sapiens» (партитивно-сти, оценочности, стереотипизации) и сопровождающие их выводы о глобализации этого образа могут быть оценены как теоретический вклад в совре-
менную семантику, задачи которой - системное исследование языковых единиц, определение границ и пересечений лексико-семантических и семантических полей, решение проблемы соотношения значения и смысла. Предложенные в диссертационном исследовании типологии лексических и синтаксических единиц и их описание, выводы о разноуровневых языковых средствах, обозначающих качество и степень интенсивности оценки homo sapiens, могут способствовать более глубокому осмыслению частных вопросов теории языковой номинации и семантической предикации, теории оценки в русском языке. Наши наблюдения над семантическими трансформациями языковых единиц ИС, экспансией предикатов ИС в другие сферы, десемантиза-цией лексем со значением оценки интеллекта расширяют представления об активных семантических процессах в русском языке. Выводы, касающиеся специфики речевых жанров, ресурсов косвенности высказываний, могут представить интерес для исследователей стилистики речи, речевых актов и жанров, так как они позволяют уточнить связь семантики высказываний и отображенных в них коммуникативных ситуаций.
Практическое значение диссертации заключается в том, что содержащиеся в ней наблюдения и выводы могут быть использованы в преподавании таких лингвистических дисциплин, как лексикология, синтаксис, стилистика, культура речи, риторика, история лингвистических учений, спецкурсов в духе активной грамматики, в частности, в преподавании русского языка как неродного, а также курсов междисциплинарного характера, таких, как лингвокультурология, психолингвистика, этнопсихолингвистика, социолингвистика, лингвострановедение. Материалы диссертации могут быть выборочно использованы в преподавании тех предметов, которые связаны с проблемой человека: философии, истории, психологии, литературы, культурологии, социологии. Результаты диссертационного исследования могут найти применение в разработке новой учебной литературы лингвоантропологиче-ской ориентации.
На основе диссертации создано учебно-методическое пособие «Образ человека в русской языковой картине мира», которое используется автором и преподавателями Омского государственного педагогического университета для проведения одноименного спецкурса и консультаций по курсовым и выпускным квалификационным работам. Материалы исследования внедрены в практику проведения автором диссертации лекций для студентов названного вуза, а также для учителей школ г.Омска.
Положения, выносимые на защиту:
Методология антропоцентристской (интегративной) семантики, заключающаяся в выявлении и типизации контекстуально обусловленных и не обусловленных языковых и речевых репрезентаций концептуальной сущности на всех уровнях языковой системы, в текстах разных стилей и жанров, разнообразных речевых ситуациях, в том числе в условиях эксперимента, и характеризующаяся междисциплинарным, межуровневым, комплементарным подходом к описанию языкового образа-концепта, акцентированием роли человеческого фактора в его формировании, обеспечивает полноту и адекватность реконструкции образа-концепта «homo sapiens» как одного из основополагающих фрагментов русской ЯКМ.
Образ-концепт «homo sapiens» в русской ЯКМ характеризуется такими основными категориальными семантическими чертами, как партитив-ность, оценочность, стереотипизация, являющимися универсальными для отображения человека в целом и отдельных его ипостасей в русском языке. Категориальный статус выделенных семантических черт определяется наличием в них типовых значений высокого уровня абстракции: «часть-целое», «оценка», «стереотип», реализующихся комплексами частных значений и их контекстуальных вариантов. Названные категориальные семантические черты отражают процессы и результаты концептуализации homo sapiens носителями русского языка, проявляющиеся на всех уровнях языковой системы, позволяющие говорить о наиболее характерных лексико-семантических, семан-
тико-синтаксических, прагмастилистических особенностях отображения homo sapiens в русской ЯКМ.
В семантической категориальной оппозиции «часть/целое», типичной для образа-концепта «homo sapiens» в русской ЯКМ, запечатлены представления носителей русского языка о человеке разумном как сложном, ие-рархичном образовании, составляющими которого являются все доступные человеческому осмыслению фрагменты мира, как внутренние, так и внешние по отношению к человеку. Осмысление homo sapiens по образу и подобию внешнего мира обусловливает сходство характеристик целостного и частичного человека по форме и содержанию. Homo sapiens в русской ЯКМ - это безграничный, многоликий, динамичный микрокосм, созданный воображением человека разумного.
Присущая образу-концепту «homo sapiens» категория оценки, проявляющаяся на всех уровнях языковой системы и отраженная в бинарных (например: умный — глупый) и разнообразных многочленных (например: умный - глупый — средний; нормальный — средний — глупый) семантических оппозициях, является необходимым и обязательным компонентом функционального содержания всех речевых произведений, в которых есть тема интеллекта, и характеризуется шкалированностью, градуированностью, широким спектром оснований, разнообразием прямых и непрямых форм выражения, определяемых ситуациями общения.
Отраженные в языке/речи устойчивые представления о разуме как величайшей дарованной человеку ценности, о корреляции умственного и нравственного начал в человеке, о приоритете нравственных качеств в оценке homo sapiens, об особом интеллектуальном устройстве русского человека, об обусловленности оценки homo sapiens возрастом, полом, национальностью, уровнем образования, профессией, родом занятий, социальным статусом свидетельствуют о национально-культурной детерминированности образа-концепта «человек разумный» в русской ЯКМ и о соответствующих стереотипах. Процесс и результаты стереотипизации homo sapiens, вопло-
щенные в типичных для носителей русского языка ассоциациях и сравнениях человека разумного с одушевленными и неодушевленными предметами, обусловлены, в частности, влиянием прецедентных текстов и прецедентных ситуаций, в которых зафиксирована связь интеллекта с другими сторонами человека. Характерные для образа-концепта «homo sapiens» ментально-языковые стереотипы дополняются разнообразными отображенными в языке нестереотипными индивидуальными представлениями и оценками, реализующими присущую человеку креативную свободу и инициативу.
6. Такие характерные особенности языковой репрезентации homo sapiens, как соотнесение с интеллектом всех частей человека и окружающей его действительности; «очеловечивание» разнообразных атрибутов человека и предметов окружающего мира через приписывание им интеллектуальных действий, качеств, состояний; характеризация-оценка разных сторон человека и объектов действительности, с которыми связан человек, через призму интеллекта; наличие на шкале оценки интеллекта диффузных значений, обусловленных влиянием разных оснований оценки человеческих проявлений; широкая градуированность и шкалированность оценки homo sapiens; тенденция к расширению значений лексем ИС, их десемантизация и экспансия в другие сферы; вовлечение в семантическое пространство «homo sapiens» разнообразных языковых репрезентаций внешнего и внутреннего человека; сте-реотипизация человека разумного в связи с разными его сторонами, которые осмысляются как опосредованные интеллектом и опосредующие его; широкий прагматический потенциал оценки homo sapiens, в частности, предоставляемые языком при участии нелингвистических факторов способы косвенной оценки человека разумного, - свидетельствуют о языковой глобализации образа-концепта «homo sapiens» (т.е. о его предельно широком осмыслении и содержании, о его центральной роли в процессах языковой концептуализации мира).
Концепции языковой картины мира и основные черты языковой концептуализации действительности
Если понятие «картина мира» и соответствующий термин вошли в науку сравнительно недавно, то сам феномен картины мира существует с тех незапамятных времен, когда человек стал осознавать себя и окружающий мир и формировать представления об объектах действительности, т.е. с момента появления homo sapiens.
Понятие «картина мира» сформировалось в рамках естественных наук, которые пытались осмыслить объективные законы природы и закономерные связи между ее объектами. Термин картина мира был выдвинут физиками на рубеже XIX-XX веков, а затем заимствован человековедческими науками: философией, психологией, лингвистикой, литературоведением, культурологией, которые внесли свой вклад в разработку соответствующего понятия.
Будучи метафорическим по своей природе, термин картина мира не передает с необходимой научной точностью обозначаемого им понятия. М.Хайдеггер писал по этому поводу, что при слове «картина» мы думаем прежде всего об изображении чего-либо, однако «картина мира, сущностно понятая, означает... не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой картины» [Хайдеггер, 1993: 49]
В достаточной мере условно и терминологическое выражение языковая картина мира. Строго говоря, язык непосредственно мир не отражает, он отражает способ представления (концептуализации) этого мира носителями того или иного национального языка: образ мира, воссоздаваемый по данным языка, карикатурен и схематичен, поскольку складывается в основном из отличительных признаков объектов окружающей действительности, которые выделяются человеком в результате категоризации мира и подвергаются языковой номинации. Ограниченность отражательных возможностей ЯКМ восполняется общими для носителей определенного языка эмпирическими знаниями о мире.
Справедливости ради надо сказать, что для обозначения понятия, выражающего идею о том, что человек в результате своей духовной активности формирует субъективные представления об объективном мире, вполне уместен и другой термин: образ мира (образ = представление о чем-либо), который, впрочем, хотя и реже, используется учеными как синонимичный обсуждаемому. Кроме того, исследователи прибегают и к термину модель мира (модель = схематизированное воспроизведение объекта). Тем не менее в современной науке предпочтение отдается термину картина мира, который используется в значении «совокупность знаний о мире, которыми обладает человек». Само же понятие «картина мира» стало базисным для теории человека в целом и разных направлений антропологии в частности.
«Картина мира есть целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека, а не какой-либо одной его стороны», - пишет Б.А.Серебренников [Серебренников, 1988: 19]. Постулируемая целостность субъективного образа объективного мира не мешает ученым исследовать данный феномен с разных позиций. Так, картина мира описывается с учетом таких ее признаков, как субъект, творящий картину мира; объект (мир или его фрагмент), образ которого воссоздается с помощью творческой активности субъекта; форма представления объекта (мира или его фрагмента). Соответственно в зависимости от характеристики субъекта рассматриваются такие виды картин мира, как индивидуальная (картина мира отдельной личности: писателя, ученого, ребенка и т.д.) и коллективная (картина мира национального, профессионального сообщества; картина мира людей одного пола, возраста, места проживания и т.д.). Картина мира может изучаться целостно и частично (в последнем случае внимание обращено к отдельным образам мира, составляющим целостную картину мира: например, образ человека, природы, любого другого объекта действительности). Наконец, в зависимости от формы представления объекта, определяемой сферой деятельности субъекта познания, выделяют и исследуют такие картины мира, как биологическая, физическая, религиозная, политическая и т.д. Картина мира может рассматриваться во временной плоскости, с учетом ее культурно-исторических особенностей (например, средневековая картина мира, механистическая картина мира, современная картина мира).
Актуальным и дискуссионным для современной науки остается вопрос о том, какое место занимает в этой иерархии ЯКМ: выступает ли она в системе миропредставлений человека как самостоятельный образ мира или ее роль сводится к отображению концептуальной картины мира, разновидности которой перечислены выше. Разграничение понятий «языковая картина мира» и «концептуальная картина мира» имеет для современной лингвоантро-пологии в целом и антропоцентристской семантики в частности принципиальное значение, поскольку оно определяет специфику объекта изучения.
Под концептуализацией действительности понимается осмысление человеком поступающей информации о мире, мысленное конструирование предметов и явлений действительности, которое приводит к образованию определенных представлений о мире в виде фиксированных в сознании человека смыслов - концептов. Познавая окружающий мир, человек формирует общие понятия, которые объединяются в систему знаний о мире, именуемую концептуальной картиной мира. Основная часть этих знаний закрепляется в языке значениями конкретных языковых единиц, т.е. одновременно с мыслительной осуществляется языковая концептуализация действительности, результаты которой в своей совокупности называют ЯКМ.
Лексико-семантические репрезентации целостного и частичного homo sapiens в русском языке
Языковой образ-концепт «человек» как целостная ипостась допускает разделение на две противопоставленные ипостаси-субкатегории: «внешний человек» и «внутренний человек». В свою очередь образы внешнего и внутреннего человека предстают в русском языке и речи в конкретных реализациях.
В системе русского национального языка и в речи любого автора, описывающего внешность или внутренний мир человека, выделяется два противопоставленных в плане выражения и содержания лексико-грамматических способа изображения внешнего и внутреннего человека: целостно-субъектный и частично-субъектный. При первом способе реальный субъект (человек) назван словом или словосочетанием, прямо обозначающим этого субъекта; при втором - реальный субъект метонимически замещен партитивом. Например: 1. Человек (мужчина, Иван, он, глава семьи) улыбается/чувствует; Человек (мужчина, Иван, он, глава семьи) высокий/честный; У человека (у мужчины, у Ивана, у него, у главы семьи) есть шляпа/совесть; 2. Лицо/душа светлеет; Кожа/совесть чиста; Во внешности/в сознании отражается усталость. Два способа семантического представления человека часто чередуются, взаимодополняют друг друга в различных описаниях, где внешний и внутренний человек изображается целостно и частично. Например: Человек он красивый, веселый, умный. Глаза у него голубые, нос правильной формы. Он внимателен к окружающим и тонко чувствует обстановку. Внешность, ум и душевные качества привлекают к нему людей. Человек в его интеллектуальной ипостаси, которая по своей природе может быть охарактеризована как одна из внутренних ипостасей, также изображается в языке названными способами, т.е. предстает целостно и частично.
Среди наименований целостного homo sapiens выделяются те, которые могут выполнять не только номинативную функцию, но, в силу своего оценочно-характеризующего значения, выступать в качестве предикатов оценочных высказываний о человеке разумном, что дает основание, рассматривая данные наименования, использовать примеры, иллюстрирующие их различную функциональную направленность.
Лексико-семантическое ядро языкового образа-концепта «homo sapiens» составляют наименования целостного человека разумного, в которых наличествует прямое оценочное значение интеллекта: дурак, дурень, кретин, пустоголов, бестолочь, дуралей, балбес, идиот, олух, балда, недоумок; умница, разумник и др. Например: Я такого балбеса, как этот Ларио-сик, в жизнь свою не видела (М.А.Булгаков); «Умный человек, говорит, бросил меня, а дурак подобрал». По ее словам, только такой эюалкий идиот мог поступить так, как я (А.П.Чехов,); Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный солдафон (М.А.Шолохов).
К ним примыкают переносные оценочные и неоценочные (в зависимости от речевого и ситуативного контекста) наименования целостного homo sapiens, основанные на ассоциациях по смежности: ум, голова, мозг (мозги). Например: Все умы готовы к контрольной? (из разг.); Лучшие головы нашей группы не справились с заданием (из разг.); Зюганов — мозг коммунистической партии (из газ.).
Приближены к ядру наименования целостного человека, в которых сочетается дескриптивное и оценочное значение интеллекта:
а) наименования человека по психическим заболеваниям, влекущим интеллектуальные отклонения: псих, шизофреник, дегенерат, дебил, олигофрен, даун. Например: Дегенератам нечего делать в этой школе (из разг.); ...объявляют гостям любимца семьи, юного дауна с грушевидной головой и с ясными бессмысленными глазами (Ю.Поляков); Все дебилы! Поговорить не с кем! (из разг.);
б) наименования человека как обладателя высшей степени интеллектуальной одаренности: талант, гений. Например: В конце концов, вы прежде всего не редактор! А пон маете ли - ученый! Талант! Член ученого совета! (Э.Радзинский); Ты гений! (из разг.); Что значит талант! Везде себе дорогу пробьет (из разг.);
в) наименования человека по интеллектуальной деятельности, профессии, званию: интеллектуал, мыслитель, ученый, профессор, академик и др.
Например: Я только первый ассистент, а главный профессор вот: товарищ Осадчий (А.С.Макаренко); Мы люди темные, а они, академики, нам все и растолкуют (из разг.); Там все интеллектуалы — помогут разобраться (из разг.);
г) наименования персонажей литературных и фольклорных произведений, реальных лиц, известных национально-культурному сообществу своими интеллектуальными особенностями (прецедентные имена): недоросль, Митрофанушка, Иванушка-дурачок, Скалозуб, Чацкий, Спиноза, Лобачевский и др. Например: Стал пацан стишки пописывать. Я прочитал: ни рифмы, ни смысла. В меня Митрофанушка! (из газ.); Браво, Лобачевский! (из разг.); Слушай ты, Иванушка, хватит прикидываться. Все ты понимаешь! (из разг.).
Оценка homo sapiens и способы ее выражения в русском языке
Как известно, понятие оценки в лингвистике базируется на логико-философской концепции и сводится к выражению положительного или отрицательного (а также нейтрального) отношения субъекта к объекту (см.: [Ани-симов, 1970; Василенко, 1964; Гранин, 1987; Ивин, 1970; Кислов, 1985; Коршунов, 1977]).
Логическая структура оценки предполагает наличие четырех основных компонентов: субъекта, объекта, основания и содержания оценки (см.: [Ивин, 1970:21-27]).
Оценка, более чем какое-либо другое значение, зависит от говорящего субъекта. Она отражает отличающиеся разнообразием личные мнения и вкусы говорящего. И хотя личностный фактор в оценке чрезвычайно силен, но он не может не определяться в той или иной степени фактором социальным: человек, будучи существом общественным, смотрит на мир сквозь призму сформировавшихся в национально-культурном и социальном коллективе норм, привычек, стереотипов. Иными словами, оценивая предметы или явления, субъект опирается, с одной стороны, на свое отношение к объекту («нравится/не нравится»), а с другой - на стереотипные представления об объекте и шкале оценок, по которой расположены присущие объекту признаки. В оценочном объекте сочетаются субъективные (отношение субъект-объект) и объективные (свойства объекта) признаки (см.: [Вольф, 1985: 22-28]).
Человек как высшая ценность на земле постоянно оценивается другим человеком. При этом в человеке как объекте оценки обнаруживаются те составляющие, которые осмысляются как главные ценности: это в первую очередь части, которые делают человека человеком (ум, душа). Осознание интеллекта как определяющей человеческой ценности обусловливает многообразие оценочных суждений о homo sapiens: среди проанализированных нами высказываний о homo sapiens преобладают оценочные, а это значит, что носители русского языка рассматривают интеллект как важнейшую ценность, которой обладает человек, и стремятся определить свое отношение к тому, как эта ценность используется человеком.
Основанием оценки homo sapiens являются сложившиеся в русском языковом коллективе критерии, отчасти универсальные, отчасти национально специфичные. Хотя оценочные критерии, как и сама оценка, не являются раз и навсегда установленными: «мировоззрение и мироощущение, социальные интересы и мода, престижность и некотируемость формируют и деформируют оценки» [Арутюнова, 1984: 6], влияние на их характер национально-культурных стереотипов (устойчивых представлений о хорошем и плохом, умном и глупом homo sapiens) существенно.
С точки зрения логической структуры оценки, ее центральным компонентом является оценочный предикат (собственно оценка). Предикат - это конститутивный член суждения, то, что высказывается об объекте. В его семантике заключены такие показатели оценки, как ее знак, или качество (положительность, отрицательность, плюс-минус положительность), и количество (степень интенсивности). В большинстве случаев количество и знак оценки взаимосвязаны. Эта взаимосвязь определяется тем, что оценка предполагает сравнение: субъект устанавливает превосходство в ценности одного объекта над другим, меньшую по сравнению с другим ценность объекта или равноценность объектов (см.: [Ивин, 1970: 24]) и, в конечном счете, «выставляя» объекту положительную или отрицательную оценку, выявляет большую или меньшую насыщенность признака данного знака одного объекта в сопоставлении с другим (вопрос о лексико-семантических показателях качества и интенсивности оценки homo sapiens будет рассмотрен в параграфе 4 данной главы). Е.М.Вольф говорит о типичных для оценочных высказываний экспликациях и импликациях, отмечая, что в состав оценочной модальной рамки входят элементы трех типов: 1) те, которые обычно эксплицируются (объект оценки); 2) элементы, как правило, имплицитные (шкала оценок, оценочный стереотип, аспект оценки); 3) элементы, которые реализуются и в эксплицитном, и в имплицитном виде (субъект оценки, аксиологические предикаты, мотивировки оценок) [Вольф, 1985: 47].