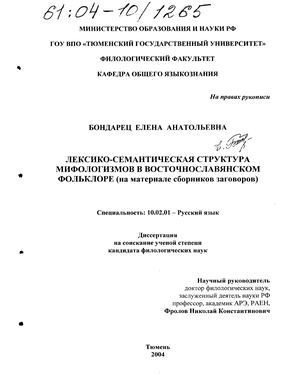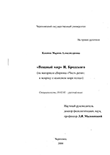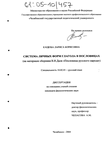Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I Маргинальность заговора как жанра фольклора, его апеллятивно-ономастического пространства у восточных славян
1.1. Несколько предварительных замечаний о терминопонятиях в свете исследуемой проблемы 27
1.2. Проблема идентификации: заговор как текст, как речевой жанр 33
1.3. Эволюция проблемы мифологем в восточнославянском фольклоре 41
1.4. Заговор в системе восточнославянских фольклорных жанров 48
Краткие выводы 53
ГЛАВА II Тематическая классификация лексики русских заговорных текстов
2.1. К вопросу о таксономизации лексики в заговорах 55
2.2. Лингвистическая интерпретация истории возникновения семантики восточнославянских сакральных имен (мифонимы, теонимы, реалионимы) 57
2.3. Локативные и темпоральные характеристики русских заговоров (географические апеллятивы и хрононимы) 83
2.4. Наименования астрообъектов (астронимы) 95
2.5. Фитонимы и зоонимы - наследие языческих культов в заговорах 105
2.6. Номинации действующих лиц 115
2.7. Продуктивные словообразовательные модели валидонимов (номинаций болезней) 123
2.8. Анимистические воззрения древних славян, воплотившиеся в номинациях действующих стихий и магических предметов 131
2.9. Номинации вражеских сил (демонимы) 137
Краткие выводы 149
ГЛАВА III Восточнославянская мифологическая лексика - наследие древнерусской фольклорно-речевой ментальности
3.1. Украинская народно-поэтическая мифонимия 152
3.2. Мифологизмы в белорусском фольклоре 181
Краткие выводы 194
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 196
Библиография 204
Словари 223
Источники 225
Список сокращений 227
Приложение(словники) 229
- Несколько предварительных замечаний о терминопонятиях в свете исследуемой проблемы
- К вопросу о таксономизации лексики в заговорах
- Украинская народно-поэтическая мифонимия
Введение к работе
Триада «мышление - речь - язык» является феноменом в развитии человеческой цивилизации, побудительной силой онтогенеза, итогом человеческой культуры. Слово, будучи эквивалентом интегральных и дифференцирующих семантических признаков реалий, программировало эволюцию человечества, стимулировало движение общества и определяло ход истории народа, т. е. выполняло миссию демиурга («В начале было Слово. И Слово было дело» [Ветхий Завет]). Лексика языка отражает генетическую связь языковой системы с картиной мира отдельно взятого индивидуума и социума в целом в диахронии. Академик В.В. Виноградов основными задачами лексикологии считал «выяснение сущности значения слова, анализ качественных изменений в структуре значения слова, анализ качественных изменений в структуре значений слов - в их историческом движении» [Виноградов 1977: 162]. В лексиконе любого языка количественное преимущество принадлежит онимии, являющейся предметом ономастики. Ономастика - «раздел языкознания, который изучает собственные имена, представляющие собой относительно консервативный пласт лексики» [Фролов 1996: 5] - предоставляет уникальную возможность реализации вышеприведенных задач.
Объектом нашего исследования является ономастическое пространство восточнославянских заговоров. Ономастическое пространство - это один из компонентов парадигмы культурно-лингвистического пространства, знаний о нем и связей с апеллятивным словарем [Фролов 2002: 114].
Заговоры как фольклорный жанр отличаются стойкостью и консерватизмом, сохраняют мировоззренческую архаику благодаря своей маргинальное. Заговорные тексты представляют собой перспективный материал для изучения «языка в действии» [Потебня 1999: 40]; определения роли речи для понимания многих исторических процессов, происходящих в языке; связи речевых фактов с явлениями языка и мышления; важности речевых проявлений в процессе познания мира и номинации; формирования парадигмы культурно-лингвистического пространства, так как «язык одновременно и орудие и продукт речи» [Соссюр 1977]. Реализация магической функции речи [Киселева 1978] в форме речевого жанра заговора является частным проявлением процесса речевого воздействия. Изучение лексико-семантической структуры основной единицы заговорных текстов -мифологизма - представляет собой специфическую проблему, неразрывно связанную с глобальными процессами взаимоотношений и взаимовлияний в триаде «частное проявление речи (заговор) - речь - язык».
В связи с этим возникла необходимость обобщения и систематизации материала, создания новой, более развернутой классификации заговорных мифологизмов, переосмысления статуса апеллятивной лексики и имен собственных в заговорах, так как в мифологическом мышлении каждое слово многопланово, многозначно, представляет собой сложную иерархически организованную семантическую структуру, связанную с другими языковыми единицами. Изучение лексики в соответствии с ее дистрибуцией в композиции заговора позволит определить генеральную семантику каждой составляющей части текста, заполнить композиционную схему заговора наиболее частотными лексемами. Сравнительно-исторический анализ заговорных номенов, экскурс в историю возникновения и становления их семантики, выполненный на материале русского, украинского и белорусского языков, призван подтвердить идею действенности маргинальной мифологической лексики как одного из способов сохранения ономастического континуума восточнославянских народов.
Заявленное генеральное направление диссертационного исследования свидетельствует об актуальности избранной темы.
2. Теоретико-практическая значимость
В языке происходит постоянный процесс перехода нарицательных имен в имена собственные и собственных в нарицательные. Этот один из наиболее распространенных путей пополнения лексики мы наблюдаем на примере функционирования мифологической лексики восточнославянского фольклора. Переосмысление роли nomina apellativa и nomina propria в фольклоре представляет интерес с точки зрения изучения заговора как результата бытования живого мифа.
Теоретическая значимость исследования заключается в определении статуса и роли мифологической лексики в восточнославянском фольклоре. Формулировка понятия «мифологизм» применительно к его бытованию в заговорных текстах, соотношение понятий мифема, мифологема и мифологизм, а также создание тематической классификации мифологизмов в восточнославянских заговорах является вкладом в разработку теории лингвистических мифов. Выявление в ходе работы примеров языкового табу и образования эвфемизмов на их основе свидетельствуют о дополнительном источнике появления синонимов в фольклоре. На примере заимствованных онимов из греческого, древнееврейского, латинского языков можно проиллюстрировать частные случаи проявления антономасии, что представляет дополнительные сведения к вопросу изучения лексико-семантической структуры номинативных единиц. Применение полевого принципа при создании инвариантной композиционной схемы жанра заговора и ее наполнение наиболее частотными лексико-семантическими вариантами связано с системно-парадигматическими представлениями о языке. Наблюдения над лексико-семантической структурой мифологизмов в текстах русских, украинских, белорусских заговоров подтверждают основное свойство языка (универсалию) - перемещаемость.
И.А. Бодуэн де Куртенэ определял суть прикладной лингвистики следующим образом: «Что касается прикладного языковедения, то оно состоит: 1) в применении данных из грамматики к вопросам из области мифологии (этимологические мифы), древностей и истории культуры; 2) в применении данных из систематики к этнографическим и этнологическим вопросам» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 74]. Исходя из этого, практическая значимость диссертационной работы определяется возможностью использования результатов в преподавании истории культуры восточных славян, их мифологии, фольклора, в рамках курса «Введение в славянскую филологию». Исследование лексики заговора - жанра с четко выраженной прагматической направленностью - интересно с точки зрения прояснения некоторых вопросов этнографического характера; следовательно, может быть использовано при изучении этнографии древних славян.
Результаты изучения мифологизмов в русле наблюдений над ономастической лексикой трех родственных восточнославянских языков применимы для дальнейших исследований по древнерусской и древнеславянской ономастике, русской, украинской, белорусской ономастике, при преподавании этих дисциплин. Предложенные толкования семантики номенов заговорных текстов могут быть использованы в лексикографической и переводческой практике на материале фольклора.
Рассмотрение заговора как фольклорного жанра, его эволюции, композиции, специфики, некоторое обобщение опыта работы с маргинальными фольклорными текстами может найти применение в решении теоретических и практических задач фольклористики.
Заговоры как тексты, контаминирующие наследие язычества, наслоения воззрений христианской религии, адаптирующей тексты в основном литературном процессе, испытывающие в процессе бытования влияние со стороны верований иных народов, представляют собой ценнейший материал для изучения истории религиозных представлений восточных славян. Результаты работы с заговорными текстами применимы для изучения в курсе истории религий.
3. Цель и задачи исследования Целью диссертационной работы является описание лексико-семантической структуры мифологизмов в восточнославянском фольклоре (на материале русских, украинских и белорусских заговоров), а также интерпретация восточнославянской мифологической лексики как наследия древнерусской фольклорной ментальносте.
Постановка ряда задач теоретического и прикладного характера поможет в решении намеченной проблемы:
1. Определение статуса мифологической лексики, описание основных этапов эволюции мифологем у восточных славян.
2. Лингвистическая интерпретация мифологизмов в русских, украинских и белорусских заговорных текстах, выяснение этимологии и семантики данных номинативных единиц.
3. Попытка предложить развернутую тематическую классификацию восточнославянских мифологизмов.
4. Определение семантики композиционных элементов заговора, создание лексико-семантической схемы-инварианта (по полевому принципу).
5. Установление специфики и единства мировоззренческих рефлексов восточных славян в диахронии и синхронии на примере анализа мифологической лексики русских, украинских, белорусских заговорных текстов.
4. Научная новизна исследования В диссертационной работе впервые применен комплексный подход к описанию мифологической лексики трех восточнославянских языков. Выявление и интерпретация лексико-семантической структуры каждого мифологизма в отдельности, создание развернутой тематической классификации мифологизмов заговорных текстов, основанной на принципиально новом подходе к основной единице заговорных текстов, позволяет проследить влияние онимической лексики на жанр заговора в родственных языках. Полевый принцип систематизации лексики вфольклорной ономастике был применен к заговорным текстам в диссертации А.В. Юдина [1992]. Однако в настоящем диссертационном исследовании полевый принцип используется при определении генеральной семантики отдельных композиционных элементов заговора и создании композиционной схемы, наполненной лексико-семантическими вариантами мифологизмов. Попытка обоснования инвариантной структуры исследуемого жанра заговора на материале русского, украинского, белорусского языков представляет элемент новаторства в изучении мифологической лексики на фольклорном материале.
Взаимодействие близкородственных языков, реализующееся на уровне контаминации и интерференции отдельных компонентов их языковых систем - в данном случае, мифологизмов - позволит выявить специфику ментальносте русского, украинского, белорусского народов, определить роль маргинальной мифологической лексики для сохранения ономастической и культурной непрерывности восточнославянских народов.
Особого внимания заслуживает попытка рассмотрения эволюции мифологем в восточнославянском фольклоре, установление относительной хронологии данного процесса в доисторический период.
5. История изучения заговоров и их мифонимического пространства в восточнославянской традиции Первые фиксации восточнославянских заговоров и близких к ним текстов на русском языке восходят к эпохе Древней Руси. По свидетельству А.А. Зализняка, в 1990 году в Новгороде во время раскопок близ бывшей церкви Михаила Архангела на Прусской улице в слоях XIII века был найден «документ чрезвычайно редкого типа, а именно, заговор» [1993: 104-107]. В общем корпусе новгородских берестяных грамот он получил №715. Эта письменная фиксация восточнославянского заговора считалась древнейшей, приводим перевод: «Тридевять ангелов, тридевять архангелов, избавьте раба божия Михея от лихорадки молитвами святой Богородицы». Язык фиксации - церковнославянский с отражением местных фонетических особенностей. Выражены элементы двоеверия: христианские персонажи сочетаются с магическим приемом и мифопоэтикой дохристианской эпохи.
Экскурс в историю находок текстов заговоров на бересте представляет следующие хронологические сведения о древнейших восточнославянских заговорах: № 521 (кон. XIV - нач. XV в.; фрагмент любовного заговора); №674 (2-я пол. XII в.; заговор - амулет; фрагмент цитаты из 54 псалма); грамота № 292 (сер. XIII в.; написана по-прибалтийско-фински русскими буквами - заговор от молнии). В 1991 году был найден "первотекст" восточнославянского заговора - грамота № 734, предположительно XII -XIII вв. Самый древний текст содержит знак - восьмиконечный крест - и три строки собственно текста:
«Сихсшл /3 раза/ - имя ангела (архангела) демоноборца;
ангел /3 раза/;
господин трижды имя ангела». Перевод текста требует дополнительного уточнения [Зализняк 1993:104-107].
Что касается самых древних свидетельств о заговорах, ими являются летописные упоминания под 907, 945 и 971 гг. о клятвах, произносившихся при заключении мирных договоров с греками [Петров 1981: 90; Словарь славянской мифологии 1995: 101]. Летописные известия подтверждают, что в X в. существовали заговоры и клятвы - сжатые, короткие формулы, соединенные с обрядовым действием, - тождественные как по форме, так и по содержанию с позднейшими заговорами.
С XII по XV вв. свидетельства о заговорах и магических действиях зафиксированы в «Словах» и «Поучениях» деятелей церкви, в «Сказании» Андрея Курбского (XVI в.), в свидетельствах современников проповедника и литератора Сильвестра Медведева (XVII в.) [ Петров 1981: 91]. Церковь и государство в XVI - XVII в. вели борьбу с колдовством, с реликтами языческих воззрений, противостоящих официальному и узаконенному культу. «XVII в. - это столетие знахарских процессов, по преимуществу» [Петров 1981: 91]. В то время заговор был общебытовым явлением, распространенным в разных сословиях, а заговорные формулы и действия были просты, общедоступны.
В XVIII в. ситуация не изменилась. Показательно, что словари XVIII в. фиксируют форму с ударением на третьем слоге - заговор: Рос. Целлариус 1771 г., с. 98, Слов. Акад. 1790 г., Слов. Акад. 1847 г. У Даля В.И. «заговор м. об. дейст. по гл. в смысле завораживанья, колдовства; нашепты// заговор, тайное согласие многих действовать против власти; крамола, приготовление к мятежу» [Даль 1981, I: 569]. Слов. Акад. 1898 г. в качестве равноправных лексем приводит варианты: заговор и заговор, данную традицию акцентуации воспроизводит «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова 1934 г. с пометой «устар.». Наконец, в словаре СИ. Ожегова 1949 г. закрепляется императивная форма заговор [Словарь СРЛЯ 1955, IV: 353-354]. Связь изменений в акцентологии и семантике лексемы очевидна, так как переход ударения произошел одновременно в двух формах. Таким образом, борьба с пережитками язычества, осознаваемого как история славян со знаком минус, закрепилась лексически: воображение не отождествляло колдовство и мятеж со словом, генетическим источником славянства вообще (см. этимологию «славяне» - от «слово» у О.Н. Трубачева [1991: 226-227]).
Итак, первыми источниками изучения заговоров являются старинные рукописные сборники, составленные колдунами и знахарями в XVI - XVIII вв., представляющие собой записи по колдовским делам.
XIX век стал поворотным периодом в истории фольклористики. Значение «славянских древностей» было вполне осознано, их стали собирать, фиксировать, изучать. В это время определилось отношение этнографов и лингвистов к заговору как к жанру фольклора, имеющему право на автономию. Закономерно, что именно в этот период восточнославянская лингвистика обогатилась целым рядом сборников-антологий, представляющих собой записи этнографов - ученых России, Малороссии и Белоруссии, объединенных идеей сохранения и возрождения жанра.
В сборнике И.П. Сахарова «Сказания русского народа» [1841] впервые представлены образцы заговорных текстов. Заговоры публикуются в некоторых «Губернских ведомостях», в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» (см. ссылки авторов многих сборников на эти издания). А.Н. Афанасьев использует заговоры в качестве иллюстративного материала в труде «Поэтические воззрения славян на природу» [1865/1995,1].
Представители мифологической школы (Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев) рассматривали заговоры как остатки древнеязыческой мифологии, как молитвы-мифы, обращенные к древним языческим божествам [Буслаев 1861,1: 251; Афанасьев 1865-1869,1-ІЙ]. Подобная точка зрения характерна для ранних исследований А.А. Потебни [1860: 31], П.Ефименко [1874, I: 2-3]. Однако О.Ф. Миллер, последователь мифологической школы, утверждал, что заговоры возникли в до-мифологические времена, следовательно, не заговоры развились из молитв, а молитвы из заговоров [Миллер 1866].
Первым специальным, самым полным и авторитетным собранием русских заговоров считается сборник Л. Майкова «Великорусские заклинания» [1869]. 372 заговорных текста классифицированы на основе тематико-функционального признака и распределены на 8 групп. Тексты дополняются комментарием, в который входит указание на место записи или первой публикации текста, сведения о характере исполнения и обрядовых действиях, сопровождающих заговор. «Сборник малороссийских заклинаний» Ефименко П. [1874] представляет собой одну из самых всеобъемлющих коллекций украинских заговоров. Во втором выпуске «Трудов этнографическо-статистической экспедиции... Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским» [1877, I] собраны тексты различных видов заговоров по традиционной классификации: «от сглаза», «присушки», «отсухи» и т.д. В журнале «Живая старина» печатались тексты угорско-русских заговоров (предисловие и комментарии А. Петрова) [ Живая старина б/г, IV]. Заговоры, письменная фиксация которых относится к 60-70-м годам XIX в., помещены в сборнике «Песни, собранные П.Н. Рыбниковым» [Песни... 1989, III]. Занимался коллекционированием и изучением заговоров, как и других образцов народной словесности, В.И. Даль [1984]. В 1876 г. выходит работа Н. Крушевского «Заговоры, как вид русской народной поэзии», его статья стала мощным импульсом к собиранию и изучению заговорных текстов. Сознавая трудность теоретико-практической работы, «за которую еще никто не принимался и учитывая мое незначительное знакомство с народной словесностью, я объяснил только то, что мог объяснить». Заговор, по мнению Н. Крушевского, представляет собой «выраженное словами пожелание, соединенное с известным обрядом или без него, пожелание, которое должно непременно исполниться» [1876: 23]. Н. Крушевский указывает на роль сравнений в заговоре [1876: 27]. Его взгляды развивают А.А. Потебня в своих дальнейших исследованиях [1876: 1-53; 1905: 615-621], Ф.Ю. Зелинский [1897], таким образом, заговор интерпретируется как явление психологическое. По мнению представителей психологической школы, сравнение, ассоциация, примета и чара (чарование) - основные элементы и этапы развития заговора.
В русле сравнительно-исторического языкознания заговоры изучали И.Д. Мансветов [Древности Московского Археологического общества 1881, VIII], А.Н. Веселовский [1883], В.Ф. Миллер [1896]. Акцент сместился с изучения формально-психологической структуры на текстологические изыскания, при этом текст заговора воспринимался как результат заимствования посредством множества средневековых книжно-литературных источников.
В это время появляются сборники на материале русских, украинских, белорусских заговоров. В их числе назовем собрание Комарова М. «Нова збірка малоруських приказок, прислів їв, загадок та замовлянь» [1890]. Он предлагает определять заговоры как «такі народні речення, як привітання, бажання, прокльони і таке інше, де в формі короткого речення так само виявляється дух народної вдачі і мови, як і в приказках» [Комаров 1890: 104]. Сборник интересен тем, что, как утверждает автор, заговоры, помещенные в нем, нигде еще напечатаны не были. Сборник «Пожелания и проклятия (преимущественно малорусские)» Сумцова Н.Ф. [1896] состоит из двух разделов: «Благожелания» и «Проклятия». К «Благожеланиям» относятся пожелания, выраженные в малорусских песнях: колядках, родинных, зажнивных, рождественских. Помимо малорусского и русского материала, книга содержит параллели из польского, сербского, болгарского, румынского, новогреческого, древнееврейского, латинского и других языков. В работе Н.Ф. Сумцова содержится ценный массив проклятий с примерами из других языков, их подразделение на общие и частные, характеристику разрядов. Таким образом, в XIX в. заговор воспринимался как разновидность речевого действия, хотя и неосознанно. Наиболее полным собранием белорусских заговоров по праву считается сборник Е.Р. Романова [1891, V].
В начале XX в. интерес к жанру заговора не убывал. Свидетельством тому стали следующие сборники: «Заговоры, заклинания...» А. Ветухова [1907]; «Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч.» Н. Виноградова [1909]. Я. Новицкий обобщил результаты своих изысканий в сборнике «Малорусские народные заговоры, заклинания молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине», где приводятся тексты заговоров «от болезней тела»: лихорадки, желтухи и т.д. [Новицкий 1913]. «Заговоры и апокрифические молитвы по карпато-русским рукописям XVIII - нач. ХГХв.» собрал Ю. Яворский [1915]. Некоторые из вышеперечисленных сборников заключали в себе попытки описания заговорных текстов, объяснения их «нарочитой туманности и даже бессвязности их тайнописного, иногда уже почти совершенно стертого и спутанного языка и склада» [Яворский 1915].
Отдельно анализируются упоминания в заговорах о камне Алатыре; этой теме посвящены некоторые работы того времени [Коробка 1908]. Эта основательная работа систематизирует и описывает материал, собранный предшественниками-этнографами.
Определенный интерес к заговорам проявили русские поэты-символисты. Наиболее значительной работой является статья А. Блока «Поэтика заговоров и заклинаний» [Блок 1908/ 1962, V: 36-65], в которой он не только раскрыл неповторимую поэтичность жанра, но и высказал ценные наблюдения об альянсе пользы и красоты в первобытной душе.
В 1916 г. выходит многотомное этнографическое издание Е. Карского «Белоруссы» [1916]. В третьем томе речь идет о заговорах, которые определяются как самый древний вид народной поэзии, потому что отражают древнее миросозерцание, «где отношение человека к природе более близко и естественно» [Карский 1916: 56]. На материале сборников заговоров П.Шейна, Е.Р. Романова, Л. Майкова исследуется генезис жанра (от слова и изображения - к действию), дается определение заговора, исследуется его композиционное построение («формулы»), время и место, способ произнесения (близость к работе Н. Крушевского). Предпринята попытка определить уникальность белорусских заговоров путем описания содержания их тематических разновидностей и формы.
Н. Познанский в своем исследовании «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул» [1917/ 1995] обосновывает и развивает «генетическую» теорию развития заговора, ссылаясь на забывание первоначального смысла обрядовых действий. К изучению «древних форм поэзии», в том числе «заклинаний», обращался в свое время М. Горький [1953, XXVII: 300].
«В исследованиях по фольклору дореволюционного периода заговорам отводилось особое место как специфическим фольклорным текстам, требующим фиксации, классификации, описания, изучения. Однако исследования этого жанра в России в XX веке на том уровне, как изучались, к примеру, лирическая песня, сказочный или былинный эпос, долгое время было невозможным» [Кляус 1997: 4]. Некоторые ученые все же занимались изучением этого жанра фольклора - Ю.М. Соколов, В.П. Петров, A.M. Астахова, П.Г. Богатырев. Определение заговора как описательного действия, объяснение эволюции (от действия - к слову) Ю.М. Соколовым [Русский фольклор 1931: 28-33], знаменовало новый этап в изучении этого фольклорного жанра. Интересно, что Ю.М. Соколов выстраивает синонимический ряд к слову заговор - «обереги, наговоры, заклинания, присушки, отсухи, шептания, слова» [Соколов 1931: 28], тогда как В.И. Даль дифференцирует эти понятия, дает первоначальное толкование семантики слов [Даль 1981].
В мае 1939 г. на всесоюзной конференции по фольклору В.П. Петров выступал с докладом о заговорах. Основные положения доклада были отражены в статье «Заговоры», написанной для трехтомника «Русский фольклор» (кон. 30-х годов XX в.) [Петров 1981: 77-143/ публикация А.Н.Мартыновой]. В.П. Петров доказывает, что в заговоре действие и слово равнозначны по своей функции как средства, приемы для достижения определенной практической цели, анализирует поэтику заговоров и их мировоззренческую сущность.
К исследованию заговоров обращался П.Г. Богатырев [1954]. А.М.Астахова [1964] исследовала художественный образ и картину мира, отраженную в заговорах. В учебной литературе 60-70-х годов XX века заговоры получают очень лаконичную характеристику по сравнению с другими жанрами фольклора [Русское народное творчество 1966; Русское устное народное творчество 1977], или вообще не выделяются как жанр фольклора [Кравцов 1976]. Выходят в свет отдельные работы, написанные на материале заговоров: В.Н. Топорова «К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров) [1969, IV], И.В. Зырянова «Заговор и свадебная поэзия» [1975: 49-82].
80-90-е годы XX века стали переломными в истории изучения жанра заговора. На волне «ренессанса» жанра издаются репринтные сборники текстов заговоров М. Забылина [1992; 2003]; Л. Майкова [1997], сборники, составленные современными авторами на основе изданий прошлого века (сб. «Українські замовляння» под ред. М. Новиковой [1992], «Ви, зорі-зориці» [1991], «Українські чари» [1992]); «Магічнае слова» и «Замовы» Г.А.Барташевич [1990; 1992]; «Заговоры сибирской целительницы» [Степанова 1997], «Большая книга магии» [Степанова 1999], «Обереги и заклинания русского народа» [Песков, Пескова 1998], «Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспедиций: 1953-1993 гг.» [Аникин 1998], «777 заговоров и заклинаний русского народа» [Александров 1999].
Опубликовано много новых специальных научных исследований: [Толстой, Толстая 1981; Дмитриева 1982; Соколова 1982; Толстой 1986; Аникин 1987; Виноградова 1988; Раденкович 1989; Агапкина, Топорков 1990; Топоров 1991; Черепанова 1991; Головачева 1993; Павлова 1993; Свешникова 1993; Топоров 1993; Усачева 1994; Топорова 1996; Михайлова 1997; Кляус 1997; Топорова 1997]. В них изучаются самые разнообразные проблемы: эволюция жанра в индоевропейской традиции, классификация заговорных текстов, характер отдельных национальных традиций, особенности поэтики, стихосложения заговорных текстов, их обрядовая магическая функция, создаются указатели персонажей, предметов заговорных текстов.
Заговоры всесторонне исследуются в славяноведении [1988; 1986; 1989; 1993; 1993; 1994], в трудах по семиотике фольклора [Зарубежные исследования по семиотике фольклора 1985]. Сборник «Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора» [1988] содержит целый раздел, посвященный исследованию заговоров в славянских, балтийских и балканских, а также других индоевропейских традициях.
К изучению заговоров обращался академик Б.А. Рыбаков [1981/1994: 133-145]; он связывал появление жанра с анимистическими верованиями. В ряде работ встречаемся с исследованиями заговора как малой формы фольклора, с изучением частных аспектов заговорных текстов (см. сб. «Язык жанров русского фольклора» [1983], монографию О.А. Черепановой «Мифологическая лексика русского Севера» [1983] и мн. др.).
В 90-х годах XX в. в Украине формируются три основных центра по изучению мифологической лексики, ономастики заговорных текстов и самих заговоров: Одесса, Киев, Западная Украина - Львов, Тернополь, в Белоруссии - Минск.
В диссертационном исследовании Н.И. Зубова [1982] предпринята попытка разграничить термины «мифонимия», «теонимия» и «демононимия». Особое внимание уделяется сакральности теонимов. Автор рассматривает и один из самых спорных вопросов - об иранском влиянии на язычество древних славян, исследует процессы отношений собственного и нарицательного в мифонимии на примере явления, традиционно вызывающего интерес у многих ученых, - замещение языческих фигур христианскими персонажами. В работе Харитоновой В.И. [1992] проанализированы вопросы возникновения и формирования заговорно-заклинательной традиции, определена роль слова в магической обрядности, дана авторская трактовка основ структурного и функционального деления заговорных текстов, заявлена проблема изучения образно-персонажной системы заклинаний, их художественной специфики. Фундаментальными исследованиями ономастики заговорных текстов в Украине являются работы А.В. Юдина (ОГУ), которому принадлежат многочисленные статьи, выполненные на материале заговоров: [1990: 177-178; 1992: 66-71]. Собственные имена заговоров трактуются автором как важный канал, который позволяет осуществлять магическое влияние на денотат; проводится фонемный анализ имен звезд-помощниц, отмечается, что мифонимы восточнославянских заговоров сохранили следы единства культа Мокоши и Волоса («змея»), которые противостоят Громовержцу. А.В.Юдин рассматривает имена собственные в заговорах как закодированное понимание нашими предками миропостроения, как один из элементов их мифорелигиозного сознания [1992: 60-67; 1998, № 3: 53-64]. Антонюк В.Г. [ 1994] рассматривает и иллюстрирует стилистические особенности народных заговоров, отмечая особенную роль ритмо-интонационной организации языка этого фольклорного жанра, классифицирует заговоры в соответствии с образно-тематическими особенностями. В работе сделана попытка описать психофизическое и психоэмоциональное влияние народных заговоров на человека. Свиридов О.Ф. [1996] системно и широко использует анализ символических кодов (атрибутов) с точки зрения их взаимодействия - структурного и семантического. Разработана методика интерпретации символики в заговорах. Рассматриваются самые частотные символы в восточнославянском и британском магическом фольклоре:
пространственные, зоологические и растительные, определяются их семантические атрибуты, их интегральные и дифференциальные семантические компоненты. Е.М. Степанов и Г.А. Таранюк изучают «Водну термінологію українських замовлянь та її свідчення щодо батьківщини слов ян» [1996: 17-22]. В.М. Бадейкова [1997: 7-8] рассматривает разные тематические группы онимов, которые образуют ономастикой заговоров, и трактует их как один из способов отражения психологии и верований предков, что перекликается с работами А.В. Юдина. Т.Б. Лукинова [1997: 114-130] на богатом фактическом материале проанализировала состав, словообразовательные модели и специфику функционирования онимов заговоров. Павлов О.Д. [1999] рассматривает заговоры как древнейший сакральный текст. Украинские заговоры поставлены им в контекст эзотерической культуры. Сборники славянской вербальной магии (белорусской, русской, сербской и др.), индо-арийской («Атхарваведа») дают представление о бытовании общих явлений в эзотерическом опыте разных народов. Рассматривается соотношение заговора и мифологического мышления; решается проблема классификации текстов заговоров.
Заговоры находятся в поле зрения современных белорусских этнографов и исследователей. В сборнике «Беларускі фальклор у сучасних запісах: Традыц. жанры: Мінск. вобл.» [Беларускі фальклор... 1995] представлены 27 текстов заговоров, им предпослан краткий комментарий, который ценен тем, что в нем говорится о современной жизни сохранившегося в народе жанра, упоминаются особенности его бытования в Минской области. В работах Н.Б. Мечковской [1996: 110-121; 1998: 94-106] заговор трактуется как «первичное и концентрированное проявление фидеистического отношения человека к слову» [Мечковская 1996: 120], рассматривается природа заговорного слова. Проблему соотношения магических верований и мифологического мышления в фольклоре исследует И.В. Козакова [1996: 147-158]. В последние годы продолжается изучение заговоров в самых различных аспектах: А.В. Никитина [2002] рассматривает заговоры в соотношении с детским фольклором, СВ. Болтаева [2003] привлекает заговорные тексты для исследования ритмической организации суггестивных текстов. К изучению семантики древнерусской теонимии обращается в диссертационном исследовании А.А. Ишутин [2002]. На материале украинских текстов речевую реализацию магически-практического назначения изучает О. Остроушко [2003]. В периодике появились статьи следующих авторов, посвященные всестороннему изучению жанра заговора: Вельмезовой Е.В. [2000; 2002]; Стадник Ю.А. [2000]; Липинской В. [2000]; Михайловой Т.А. [2000]; Топоркова А. [2000; 2002; 2003]; Москвиной В.А. [2003], И.Ф.Амрояна [2003].
6. Источники и материалы
Спецификой онимического материала является его бытование в разнообразных и многочисленных источниках лингвистического и нелингвистического характера. Интерес нашего исследования сфокусирован на онимическом пространстве восточнославянских заговоров.
Массив существующих сборников заговоров подразделяется на полевые записи этнографов (XIX в.) и старинные рукописные сборники заговоров, составленные колдунами и знахарями в XVI - XVIII вв. или представляющие собой судебные записи по колдовским делам. Ни те, ни другие не отражают всей полноты реально существующих заговоров. Рукописные сборники заговоров и судебные записи по колдовским делам труднодоступны для изучения, поэтому источниками диссертационного исследования послужили сборники заговоров, составленные в XIX в. по результатам этнографических экспедиций и извлеченные из других сборников заговорных текстов.
Материалом для изучения русской мифологической лексики стали тексты из сборника М. Забылина «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» [1880]. Раздел «Заговоры» предваряет авторский комментарий. Материал разбит на тематические группы согласно авторской позиции, содержит 200 единиц заговорных текстов. Русские заговоры, извлеченные из репринтного издания [Забылин 1992; 2003], представляют собой массив маргинальных текстов европейской части русского Севера. Они были записаны частными людьми -путешественниками, миссионерами, извлечены из «Сказок Русского Народа Сахарова», из старинных рукописных сборников, из Трудов Этнографических отделов разных городов России. Многие тексты записаны самим автором. Репринтные издания дают возможность проследить, как бережно и скрупулезно относился автор к текстам, в которых сохранены отдельные фонетические особенности (цоканье, чоканье, аканье, оканье), особые синтаксические конструкции, зафиксировано место и авторство собирателя.
Заговоры, объединенные в сборнике «Українські замовляння» [1993], изъяты из изданий конца XIX - начала XX века - сборников украинских этнографов П. Чубинского [1872], П. Ефименко [Ефименко 1874], М. Драгоманова [1876], М. Комарова [1890], А. Петрова [1891], Б. Гринченко [1895; 1900], М. Дыкарива [1903], Я. Новицкого [1913], из «Етнографічного збірника» [1898]. Эти сборники, изученные в процессе работы над диссертацией, содержат тексты заговоров на русском и украинском языках.
Поэтому составители издания «Українські замовляння» выделили и объединили в сборнике «найцінніші й найдосконаліші тексти української магії», всего 150 украинских заговорных текстов. В сборнике отсутствует четкая тематическая дифференциация текстов, фонетические особенности не зафиксированы. Однако предисловие «Прасвіт українських замовлянь» и комментарий М. Новиковой, содержащие сведения о символике в заговорном пространстве, представляют большой интерес и теоретическую ценность в изучении жанра заговора в целом и украинских текстов в частности.
Наиболее полным собранием белорусских заговоров по праву считается сборник Е.Р. Романова, который так и называется «Белорусский сборник» [1891]. Это многотомное издание, включающее практически все образцы народной словесности белорусов. Как утверждает автор, «собрания заговоров, равного по количеству моему (№№ 824), в русской науке, кажется, еще не было. ...Собирание этого важного материала требует громадного труда, терпения и выдержки, при непременном условии знания крестьянской души, пребывающей в той же темноте, в какой она была и тысячу лет назад...». Автор указывает народные средства, употребляемые при произнесении заговора, стремится описать весь обряд излечения пациента, рассказывая о действиях знахарей (в большинстве своем в сборнике представлены т.н. «медицинские» заговоры). Фундаментальное собрание белорусского фольклора подверглось критике еще при жизни этнографа. В 1895 г. выходит работа Н.Ф. Сумцова «Разбор этнографических трудов Е.Р. Романова» [1895]. Автор согласен, что сборник Е.Р. Романова превосходит в количественном отношении аналогичные собрания Л. Майкова [1869] и П. Ефименко [1874], характеризующиеся как самые полные коллекции русских и малорусских заговоров, и «может быть назван самым полным в современной этнографической литературе». Собирательство заговоров действительно затруднено, отмечает Н.Ф. Сумцов, ибо знахари очень неохотно делятся своими знаниями, поэтому многим этнографам в течение многих лет общения с народом не удалось записать более ста заговоров.
Очевидно, что еще в XIX веке фиксация текстов заговоров представляла проблему. Н.Ф. Сумцов считает сборник Е.Р. Романова ценным вкладом в этнографию, однако называет и недостатки: хаотическое распределение заговоров, помещение в их круг молитв, многие из которых по сути своей являются тоже заговорами; отсутствие библиографических указаний и справок этнографического характера.
Избранные для диссертационного исследования сборники заговоров объединяет родство языкового материала (языки фиксации заговорных текстов - русский, украинский и белорусский - относятся к восточнославянской группе), родственность культур, фольклорных традиций. В то же время, опираясь на заявленные источники, предполагается найти и выявить различия в лексико-семантической структуре мифологизмов и их бытовании в заговорных текстах, порожденные национальным колоритом. Наконец, данные сборники избраны материалом для изучения природы мифологизмов с учетом приблизительно одинакового «возраста» изучаемых текстов (их письменная фиксация относится к концу XIX - началу XX века: 1872-1913 годы).
В процессе работы над диссертацией было исследовано 550 текстов заговоров (200 русских, 150 украинских, 200 белорусских) и составлена картотека - 905 мифологизмов, представляющих различные разряды онимической лексики. Каждый мифологизм зафиксирован во всех существующих вариантах контекстного употребления, число которых варьируется от 1 до 50. В силу большого объема исследованного материала, а также высокой частотности и повторяемости отдельных мифологизмов, иллюстративная база исследования ограничена, но ограничение не противоречит главным выводам. В словниках каждая лексема имеет индекс частотности, отражающий количество контекстных вариантов употребления в исследованных текстах. Сознательное сокращение иллюстраций не отразится и на теоретических выкладках, поскольку в процессе работы над материалом был проанализирован весь мифологический субстрат заговоров.
7. Методы исследования
Имена собственные (nomina propria) в своей структуре подчиняются фонетичеким, акцентуальным, морфологическим нормам языка, в котором существуют, и зависят от его закономерностей, но вместе с тем коррегируются и экстралингвистическими (внеязыковыми) факторами, и ономастическими универсалиями [Франко 1990: 5-6]. Поэтому изучение онимической лексики в нескольких аспектах - историческом, типологическом, социологическом, стилистическом, этногенетическом -представляется наиболее целесообразным.
восточнославянской мифологической Основными методами описания онимического материала в диссертационном исследовании являются описательный, сравнительно-исторический и сопоставительный. Их выбор и приоритет продиктованы целью работы и характером материала -текстами заговоров на русском, украинском и белорусском языках. Диахронический подход к описанию лексики выводит на новый уровень ее восприятия как наследия древнерусской фольклорной ментальности. Номинативные единицы родственных восточнославянских языков этимологизируются, сопоставляется их лексико-семантическая структура и функционирование в заговорных текстах. При необходимости используются приемы ономастического и этимологического анализов, заключающиеся в атрибуции (отнесению к определенному языку), локализации, периодизации и связи ономастикона с апеллятивами при учете структурных и вариантных особенностей названий [Белецкий 1972: 12 - 13]. Использование приемов этимологического анализа продуктивно в паре со словообразовательным анализом. Терминологическое обозначение метода лингвистического наблюдения, при помощи которого описываются морфемный состав и способ образования лексемы, наиболее удачно реализовано в дефиниции «формантныи метод», при котором анализ слова производится на уровне формантов, представляющих собой аффиксальные комплексы, в том числе и априорно выделяемые повторяющиеся сегменты» [Фролов 1996: 15-16].
Выявление мифологизмов, их лингвистическая интерпретация и создание тематической классификации восточнославянской мифологической лексики производятся с использованием традиционного дескриптивного метода, а также с учетом квантитативных характеристик лексем, т.е. их частотности употребления. Описание и анализ восточнославянской мифологической лексики в заговорах актуализируют идею необходимости применения комплексного подхода к данному материалу. Методы ретроспекции, экстраполяции и реконструкции используются в ходе наблюдения над эволюцией мифологем в восточнославянском фольклоре.
Таким образом, именно контаминация нескольких методов исследования позволит успешно решить заявленные в диссертационном исследовании задачи и достичь намеченной цели.
8. Структура, объем и апробация работы Структура диссертации сложилась в соответствии с традиционной аналитической направленностью - от теоретических выкладок (Введение, Глава I) к рассмотрению конкретного языкового материала, представленного заговорными мифологизмами в русских, украинских и белорусских текстах (Главы II, III). В Заключении представлены выводы и намечены перспективы будущих исследований заговорной лексики, заговорных текстов. Список исследованной литературы, Приложения (I - список сокращений, II -словники к сборникам заговоров) дополняют структуру диссертационной работы. Текстовая часть диссертации составляет 203 стр.
Результаты работы апробировались на общероссийской научно-практической конференции «Славянские духовные традиции Западной Сибири: культура и просвещение, философия и история, язык и литература» (Тюмень, 23 мая 1998г.); на межрегиональной научно-практической конференции «А.С.Пушкин: истоки современной письменной культуры» (Тюмень, 22 мая 1999г.); на международной научно-практической конференции «История и перспективы этнолингвистического и социокультурного взаимообогащения славянских народов» (Тюмень, 30-31 октября 2002г.); на межрегиональной научно-практической конференции «Традиции славяно-русской культуры в Сибири: русский язык как национальная основа культуры» (Тюмень, 24 мая 2003г.); на областной научно-практической конференции «Межэтническая ситуация в Тюменской области и перспективы изучения родного языка» (Тюмень, 6 ноября 2003 г.). Основные проблемы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры общего языкознания филологического факультета ТГУ (1998 - 2004 гг.). По материалам диссертации опубликовано 4 статьи (одна из них - в печати), которые отражают основной смысл работы.
Основные положения, выносимые на защиту:
6. Мифологизм является основной лексико-семантической единицей заговорных текстов.
7. Образный компонент лексического значения представляется базой формирования дополнительных коннотаций лексико-семантической структуры слова.
8. Выявление специфики лексико-семантической структуры заговорной лексики позволяет классифицировать ее как частное проявление уникальности фольклорной лексики восточнославянских народов.
9. Единство мифологизмов в русских, украинских, белорусских заговорах свидетельствует об общности восточнославянской фольклорной ментальносте, шире - о наличии единых рефлексов в истории человечества.
Несколько предварительных замечаний о терминопонятиях в свете исследуемой проблемы
В диссертации мы опираемся на традиционную систему лингвистической [Ахманова 1960; ЛЭС 1990; 2002] и ономастической [Подольская 1988] терминологии. Необходимость уточнения определений некоторых терминопонятий, введения новых дефиниций обусловлена спецификой исследуемого материала, так как «каждая группа (фольклорных) текстов характеризуется своим особым «языком» и содержит разный объем культурной информации» [Виноградова 1989: 105]. Заговор в данном исследовании рассматривается как фольклорный текст и как речевой жанр. Данная точка зрения определяет необходимость рассмотрения терминов и понятий в заданных координатах, а также уместность внедрения новой терминологии применительно к описанию заговорной лексики.
Эволюция дефиниции «заговор» подробно рассмотрена во Введении (5. «История изучения вопроса»). Словоцентрический (от слова к тексту) подход [Уфимцева 2002: 3] к языку фольклора диктует возможность формулировки уточненной дефиниции заговора. Заговор - словесная формула, организованная особым образом (лексически, грамматически, композиционно, ритмико-интонационно); образец эффективного целенаправленного речевого действия, порождающий положительный прагматический эффект высказывания путем реализации семантики пожелания, «которое должно непременно исполниться» [Крушевский 1876]. Понятийная основа термина много раз уточнялась со времени осознания заговора определенным жанром фольклора, однако первосмысл интенции субъекта в рамках заданной прагматической ситуации остается неизменным. Заговоры могут представлять собой как краткие фразы - паремии (заклинания, благопожелания, проклятия - в данной работе: заговорные паремии, ср.: у Харитоновой В.И. - заклинательные паремии [1992: 35]), в композиционно-структурном плане представленные одной словесной формулой ссылания - заклинательной частью текста, так и развернутые тексты со сложной структурой, объединяющие в своем составе все композиционно-структурные элементы заговора. Поэтому целесообразно рассматривать заговор как жанр фольклора, а заговорные паремии (заклинания, благожелания, проклятия) - как видовые разновидности заговорного жанра. При этом конститутивность/ факультативность заговорных композиционно-структурных элементов определяющей роли не играет, так как семантика остается неизменной. Основываясь на исследованиях заявленных сборников, очевидно, что в русском и белорусском фольклоре преобладают тексты заговоров с развернутой структурой («эпические» заговоры), украинские тексты свидетельствуют о паремическом характере материала. Однако главное отличие заговоров в восточнославянской традиции находится на лексико-семантическом уровне, так как набор лексем, праславянских по преимуществу, актуализирует различную семантику в каждой фольклорной общности.
Основополагающим понятием при описании лексики заговора является мифологизм - текстовая и речевая (ситуативная) реализация семантики архетипа (мифологемы) в данном фольклорном произведении. Архетипы (греч. archetypon - первообраз, модель), в «аналитической психологии» и эстетике швейцарского психолога К.Г. Юнга - мотивы и их комбинации, наделенные свойством «вездесущности», универсальные устойчивые психические схемы (фигуры), бессознательно воспроизводимые и обретающие содержание в архаическом ритуале, мифе, символе, верованиях, актах психической деятельности (сновидениях и т.п.), а также в художественном творчестве вплоть до современности [Литературный энциклопедический словарь 1987: 38-39]. В мифе и мифологических произведениях предлагается ввести понятие мифологемы - вербально-ментальной актуализации «вечных» образов, тем, мотивов (например, «мировое древо», гроза etc). В отличие от конститутивной единицы мифа -мифемы [Леви-Строс 1985: 185] - которая предикатна и представляет собой пучок семантических отношений, в основе которых находятся бинарные оппозиции: природа/ культура, женское/ мужское, верх/ низ, правое/ левое, сакральное/ профанное etc, мифологема представляет собой целостное понятие, некое обобщение. Мифы (греч. mytos - повествование, басня, предание) суть создания коллективной общенародной фантазии, обобщенно отражающие действительность в виде чувственно-конкретных.
К вопросу о таксономизации лексики в заговорах
Учение о системности языка предопределило интерес лингвистов к изучению его структуры (лат. structura - строение), т.е. к познанию внутренней формы организации системы, выступающей как единство и цельность устойчивых взаимосвязей между ее элементами [Философский словарь 1975: 395], а затем и устройства его уровней, подсистем. И.А. Бодуэн де Куртенэ в числе задач прикладного языковедения называл «применение данных из грамматики к вопросам из области мифологии (этимологические мифы), древностей и истории культуры; применение данных из систематики к этнографичеким и этнологическим вопросам» [Бодуэн де Куртенэ 1963:74]. Изучение лексики восточнославянских заговоров и ее классификация имеет свою историю в отечественном языкознании. Известно несколько подходов к группировке языковых единиц этого лексического пласта. Типологическая классификация персонажей-посредников заговоров в свое время была предложена О.А. Черепановой [1991: 143-154], которая выделяет пять типов персонажей-посредников: 1. Персонажи-посредники - объекты и образы языческих природных культов; 2. Персонажи-посредники -мифологизированные животные, птицы, рыбы; 3. Персонажи-посредники -образы народных верований и демонологии; 4. Персонажи-посредники -фольклорно-заговорные образы, соотносимые с человеком; 5. Персонажи-посредники - персонификации. В этих типологических группах в известной мере отражен «генезис заговора как феномена духовной культуры народа» [Черепанова 1991: 144].
В числе главных персонажей заговора A.M. Песков называет помощника, вредителя и просителя; этот ряд замыкает объект действия, который считается персонажем пассивным и присутствует лишь в некоторых, например, любовных, заговорах [Песков 1977: 26-38].
А.В. Юдин [Юдин 1992: 7] предлагает выделить следующие группы персонажей в зависимости от их основных функций в заговорах: 1 .Магические помощники, т.е. существа, чьи магические способности мобилизуются субъектом ради исполнения какого-либо желания (кроме противодействия агрессии) или помощи в некотором деле, занятии. 2.Защитники, т.е. существа, чьи способности мобилизуются для нейтрализации посторонней агрессии, магического или немагического воздействия, уже происходящего или только возможного. 3. Противники -существа, от которых исходит агрессия: ведьмы, колдуны, бесы и другие демонические персонажи, персонифицированные болезни. Как переходный тип выделяются змеиные цари и царицы, вынуждаемые силой заговора помогать при укусах своих подданных: противники по сути, они объективно оказываются защитниками. В своем исследовании автор обращается к анализу мифотопонимов и мифофитонимов [Юдин 1992:7].
Интерпретация образно-персонажной системы заговоров представляет собой проблему, каждый исследователь выдвигает собственные критерии и по-своему классифицирует полевые позиции, выстраивая оригинальные системы. Так, В.Я. Пропп в свое время выделил типовые персонажи волшебной сказки и предложил инвариантную структуру исследуемого жанра [Пропп 1969].
Создание идеального варианта, то есть композиционно-лексической схемы, учитывающей семантику как отдельного мифологизма, так и композиционных элементов заговора, регулярность употребления лексем, является конечной целью этой главы. В связи с этим предлагается функционально-тематическая классификация мифологической лексики русских заговоров. При структурировании учитывается традиционная классификация онимов русского языка, которая признается первичной и наиболее целесообразной [ЛЭС 1990: 347].
В работе выделены следующие разряды номинаций: 1. Имена христианских богов, номинации, связанные с христианской обрядовостью (теонимы). 2. Наименования, не имеющие соответствий в реальном секторе онимии или подвергшиеся народной этимологизации, метафорическому переосмыслению, фонетической трансформации (мифонимы). 3. Реальные имена персонажей или названия географических объектов (реалионимы). 4.Локативные характеристики заговорного континуума (топонимы-локусы). 5. Номинации темпоральных заговорных величин (хрононимы). б.Наименования астрообъектов (астронимы). 7. Мифозоонимы. 8.Мифофитонимы. 9. Номинации действующих лиц (мифологизмы-агенсы). 10. Наименования болезней (валидонимы). 11. Названия действующих стихий. 12. Апеллятивы, называющие действующие предметы. 13. Номинации вражеских сил (демонимы).
Украинская народно-поэтическая мифонимия
Имена представителей силы, враждебной человеку, ее происки и козни прочно вошли в фольклорный лексикон, являются неотъемлемой частью народной жизни. Традиция персонификации разного рода несчастий восходит к поре зарождения человеческого социума: «Ворогъ м. врагъ, недругъ, непріятель, супротивникъ, недоброжелатель, супостатъ, злоумышленникъ, злодЪй; нечистая сила, сатана; нечистый въ лЪсу, лЪшш// орл. знахарь, колдунъ. Ворожить, ворожбить, - заговаривать, пускать на кого заговоръ, порчу;// разгадывать неизвТ стное или будущее, таинственными средствами и пріемами; гадать, знахарить, шептать, колдовать, волхвовать, волшебничать, чернокнижничать. ДЪло это почитается болЪе или менЪе при помощи иголки и нитки: «несли срібну голочку, шовкову ниточку, рану зашивали, кров замовляли» [61/26]. «Голки і шпильки» [39/7], «меч» [43/10] в заговорах на любовь выполняют иную функцию магического контакта: через колотые раны в объект любви привносится чувство. Железо и предметы, из него изготовленные, издавна наделялись чудесной силой: «залізною шиною» разгоняют «77 трясовиць» [86/49], лихорадок закрывают «залізними дверима» и «залізними замками» [88/50], в скотоводческом заговоре роль ограды выполняет «тин залізний» [142/98]. В закрепках обязательно упоминание «ключа и замка» [75/40; 188/142]. «Дзвін» (колокол) разгоняет тучи [177/31]. Кровать - эквивалент трона, алтаря, центр мифопространства заговоров [188/142]. Яйиом в заговорах от болезней «викочують переляк» [116/76], «препав» [128/86]. «Пустий хліб» служит симпатическим средством при излечении от «волоса» [123/83]. Из веществ в украинских заговорах упоминаются воск: «як пече вогонь той віск» [47/14; 3. на любовь], вино: «кам яне вино п ють» [184/138; 3. на подход; 127/85; 3. от пьянства], дим: «Дим димище, сволок сволочище!» [103/65]. Самая частотная лексема из этого разряда «кров»; она приобретает контекстуальные синонимы («рута» [52/19], «рожа» [53/20; 66/3], «руда» [65/30], «червоний хорт» [121/81; 128/86; 129/87; 139/93; 147/103]), группирует вокруг себя определенные предметы и образы, колористические и качественные характеристики: «вода» [54/21; 69/34]; «ріка» [60/25; 59/24]), «червона кров» [88/50; 93/55; 116/76]; «чорна кров» [78/43; 146/102]; «гаряча кров» [122/82]. Организует целую синтагму: «їхав чоловік красним возом, красными волами, красні колеса, красне ярмо, красна війя, красні притики, красне море рубати, кров замовляти» [62/27]. «Камінь» символ крепости, неподвластности стихиям и веществам: эпитеты «кам яний» [69/34; 70/35] [184/138; 186/140] реализуют значение непроницаемый (в заговорах от кровотечения, на подход).
Зубы в заговорах ассоциируются с мертвыми и с месяцем - «солнцем» нижнего царства. Аргументация устойчивая: у мертвых зубы не болят. В некоторых случаях приобретает форму риторического вопроса: «Хто скаже, щоб мертвих людей зуби боліли?» [77/42; 76/41; 78/43; 81/44; 82/45]. М.Новикова отмечает, что зубная боль - это едва ли не первая болезнь, дифференцированная первобытным сознанием среди болезней вообще. Мертвые предки обладали, по представлениям древних, безграничными возможностями, следовательно, могли избавить и от зубной боли. Зубы - это также единственная часть человека, которая материально, наглядно представляет его в мире мертвых. Вероятно, именно предметность играет не последнюю роль в случаях апелляции к умершим предкам, в чем проявляется особенность первобытного мышления.
Группа номинаций болезней связана с анатомической символикой заговоров. Избавление от болезни происходит в момент ее называния, поэтому особенно важно назвать все способы и формы ее проявления. Признаковая форма - имена прилагательные - организует списки: по субъекту насылания: «аби не мали сили уроки панські, циганські, дітячі, жидівські, парубоцькі, дівоцькі, жаб ячі і гадячі» [92/54]; по способу насылания, времяпрепровождения: «препав нічний, північний, препав з роботи, з сухоти, з ядання, з пиття, з гуляння, з буяння, з поклику, з помислу, з погляду, препав з хмари, з вітру і з сонця... Нічний, північний, полудневий, сходовий, нудяний і сердечний» [128/86]. В заговорах человеческое тело выступает как набор составных частей, образующий кумулятивную, а не иерархическую структуру. Поэтому и болезни не соотносятся с какими-либо частями тела, а один и тот же заговор (вариации) действителен для излечения от болезней, психологических недугов, даже социальных (злословие, неправедный суд). Более того, для мифологического мышления все эти явления суть одного порядка; причина их - недоброжелательное отношение других людей, мифологических существ, шире - сил природы: «бешиха бешишище, шпигуча, пекуча, сверблюча, нудюча, вітряна, водяна, кров яна, пожарна, пристрітна, подумана, погадана, помислена» [113/73]. При этом болезнь персонифицируются, ее онимом становится признаковая форма.