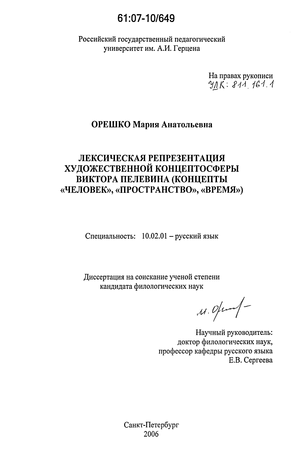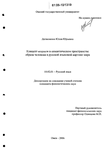Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Лексическая экспликация концепта «Человек» в художественной картине мира В. Пелевина 22
1.1. Художественный концепт как составляющая концептосферы и единица анализа 22
1.2. Концепт «Человек» в русской языковой картине мира 26
1.3. Номинант концепта «Человек» «человек/люди» как средство его экспликации в романах В. Пелевина 30
1.4. Лексико-семантические поля, репрезентирующие концепт «Человек» 34
1.5. Роль экспрессивно маркированной лексики и метафорических словосочетаний при репрезентации концепта «Человек» 80
1.6. Выводы 91
Глава 2. Лексическая экспликация концептов «Пространство» и «Время» в художественной картине мира В.Пелевина 95
2.1. Вербализация концепта «Пространство» в романах В. Пелевина 95
2.1.1. Концепт «Пространство» в русской языковой картине мира 95
2.1.2. Внутреннее пространство человека 98
2.1.3. Замкнутый локус, в который включён человек 111
2.1.4. Географическое пространство 125
2.2. Вербализация концепта «Время» в романах В. Пелевина 138
2.2.1. Концепт «Время» в русской языковой картине мира 139
2.2.2. Репрезентация концепта «Время» посредством номинанта концепта и лексемы «вечность» как обозначения особой разновидности времени 140
2.2.3. Лексико-семантические поля, объединяющие экспликанты концепта «Время» («Единицы исчисления времени», «Время по отношению к настоящему моменту») 150
2.3.Выводы 158
Заключение 161
Библиографический список 165
- Художественный концепт как составляющая концептосферы и единица анализа
- Концепт «Человек» в русской языковой картине мира
- Вербализация концепта «Пространство» в романах В. Пелевина
Введение к работе
Формирование антропоцентрической парадигмы в современной науке связано с интересом лингвистов к «человеку говорящему». Будучи средой и способом языкового существования человека, язык не может быть рассмотрен вне коммуникативной функции. Бурное развитие лингвистической прагматики приводит к тому, что внимание исследователей переносится с того, что говорится, на то, что подразумевается, какое речевое намерение движет языковой личностью при выборе тех или иных языковых средств. Поэтому закономерен интерес учёных к анализу художественного текста, что обусловлено его двухуровневой природой. С одной стороны, это частная система средств общенационального языка, с другой стороны, в художественном тексте возникает собственная кодовая система (Лотман 1972), которую адресат должен «дешифровать», чтобы понять текст. Единицы, образующие художественный текст, в рамках этой частной эстетической системы приобретают дополнительные приращения смысла, что, с одной стороны, определяет особую целостность художественного текста, а с другой -демонстрирует знания автора о мире. Эти знания представлены в виде ментальных образований в сознании писателя (концептов) и находятся в определённой иерархии, представляя авторскую концептосферу.
Язык как некая когнитивная деятельность лёг в основу исследований современных лингвистов, и сегодня в рамках когнитивной лингвистики говорят о когнитивной грамматике, семантике, прагматике. Теоретической базой когнитологии являются труды многих современных лингвистов (Лакофф 1988, Серебренников 1988, Кубрякова 1991, 1994, Телия 1988, Вежбицкая 1996, 2001, Колшанский 1990, Демьянков 1994, 1995, Болотнова 1992, 1998, 1999, Фрумкина 1995, Аскольдов 1997, Арутюнова 1998, Кузьмина 1991,1999,2000, Степанов 2000,2001, Стернин 2000,2004, Попова, Стернин 2001, Сергеева 1999, 2002, Никитин 2003, 2004 и т.д.). По
мнению исследователей, ни когнитивная наука в целом, ни когнитивная лингвистика в частности ещё не имеют общепринятого определения в современной научной парадигме. «Стержнем этой науки является её направленность на получение знания о знании, и в фокусе её внимания находятся многочисленные проблемы, связанные с получением, обработкой, хранением, извлечением и оперированием знанием, относящиеся к его накоплению и систематизации, его росту, ко всем процедурам, характеризующим, использование знания в поведении человека и, главное, его мышлении и процессе коммуникации» [Кубрякова 1994: 41].
Для настоящего исследования наиболее важными являются междисциплинарный характер когнитологии и её задачи. Так, по мнению большинства исследователей, когнитивная наука возникла «как наука междисциплинарная, призванная объединить усилия специалистов в различных областях знания», это связано с тем, что «человеческое знание и процессы познания слишком сложны, чтобы обеспечить их описание в рамках какой-либо одной науки» [Кубрякова 1994: 42]. Причём можно говорить о «внешнем» взаимодействии когнитивной лингвистики с такими дисциплинами, как психология, философия, физиология, математика, и о «внутреннем» - с различными лингвистическими направлениями: психо- и социолингвистикой, интерпретационной лингвистикой, прагматикой и коммуникативной лингвистикой (Демьянков 1994, Клименко 1982 и др.).
Наше исследование находится в русле подхода, предложенного Е.С. Кубряковой, так как основной задачей диссертации является не изучение влияния художественного текста на читателя, не исследование взаимодействия автора и читателя через текст, а именно анализ трансформации фрагментов действительности в художественной картине мира В. Пелевина и их воплощение в прозаическом тексте.
Актуальность диссертационного исследования связана с целым кругом проблем, ставших предметом изучения многих направлений современной лингвистики. Когнитивная лингвистика изучает сам язык и тексты в качестве некоего продукта человеческого сознания как системы переработки информации, поступающей из окружающего мира, причём переработка информации сопряжена с её интерпретацией в соответствии с индивидуальными особенностями личности, воспринимающей действительность. В результате данных процессов когниции возникает картина мира.
В целях нашего исследования необходимо определить специфику понятия «картина мира» и указать на своеобразие художественной картины мира, которая является предметом рассмотрения в настоящей работе.
В широком понимании картина мира представлена как «упорядоченная совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании» [Попова, Стернин 2003:4].
Языковая картина мира представляет собой совокупность зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности. Языковой образ мира создаётся: 1) номинативными средствами языка (лексемы, фразеологизмы, значимое отсутствие номинативных единиц (лакунарность разных типов)), 2) функциональными средствами языка (отбор лексики для общения, состав языковых средств), 3) образными средствами языка (национально-специфическая образность, метафорика, направления развития переносных значений, внутренняя форма языковых единиц), 4) фоносемантикой языка, 5) дискурсивными средствами языка (специфические средства и стратегии текстопостроения, аргументации, ведения спора, диалога, особенности стратегий и тактик коммуникативного поведения народа в стандартных коммуникативных ситуациях, приёмы построения текстов различных жанров), 6) стратегиями
оценки и интерпретации языковых высказываний, дискурсов, текстов разных жанров.
Описание языковой картины мира выходит за пределы чисто лингвистического исследования, если исследователь интерпретирует полученные в ходе анализа материала результаты для выявления обозначенных языком когнитивных структур сознания, и становится частью лингвокогнитивного исследования, когда используется для моделирования и описания концептосферы. Языковые знаки выступают при этом в качестве средства доступа к информационной базе человека -его концептосфере, являются методом выявления когнитивных структур.
Художественная картина мира (далее ХКМ) также опосредована языком, поэтому она определяется функционированием языковых единиц в тексте и конструируется при лингвистическом анализе.
Доступным изучению лингвиста является мировидение поэтов и писателей, зафиксированное в тексте. Исследования различных картин мира, репрезентированных в текстах, актуально и распространено в современной лингвистике. Но пока нет единых устоявшихся терминов для обозначения объекта исследования. В когнитивной лингвистике существует немало терминов, номинирующих картину мира личности: индивидуально-авторская картина мира, художественная картина мира и даже художественный мир автора.
В художественной картине мира могут присутствовать концепты, присущие только авторскому восприятию мира (например, концепт «Прозрачность» в поэзии В. Иванова - см. Сергеева 2006) или концепты, характерные для национальной картины мира, но обладающие индивидуально-авторским содержанием (например, концепт «Природа» в творчестве И. Бунина - см. Буравлёва 2006).
Говоря о специфике художественной картины мира, независимо от термина, её обозначающего, можно отметить, что она есть «часть общеязыковой в той мере, в какой творческое сознание является частью
общенародного сознания. Степень совпадения в каждом случае разная и зависит от творческой манеры автора» [Бутагова 2000: 94]. Однако «картина мира в литературе определённого художественного направления, той или иной эпохи или в творчестве отдельного писателя не является чем-то среднетипологическим, хотя не может быть интерпретированной и как нечто индивидуально-субъективное» [Янушкевич 2002: 10].
Своё выражение ХКМ находит в текстах автора. В зависимости от целей исследования это может быть один или несколько текстов, а также их совокупность, рассмотренная как единое целое, поэтому художественная картина мира отражает особенности не только менталитета своего автора, но и его творческой манеры. Так, всё творчество автора едино и динамично одновременно, эти признаки характеризуют и художественную картину мира: в ней есть устойчивые черты, но в то же время она способна изменяться и развиваться [Гаспаров 1996].
С другой стороны, являясь по своей сути только проекцией действительности, её интерпретацией, художественная картина мира, как и любая другая, обладает двухуровневой структурой, она объединяет концептуальный и языковой слои. «При этом концептуальный слой является ведущим, ибо своеобразие поэтической картины мира заключается не столько в языковых формах, сколько в избирательности видения художника» [Кузьмина 2000: 119].
Единицами художественной картины мира могут выступать как концепты в собственном смысле, так и их разновидности, которые в свою очередь являются неотъемлемой частью языковой личности (Караулов 1987,1989).
Термин «концепт» в настоящее время является важнейшим понятием когнитивной лингвистики и широко используется в научной литературе (при этом не только в рамках когнитивной науки). Концепт признаётся основой терминологической базы лингвокогнитологии, так как познание, с
точки зрения когнитивизма, является процессом порождения и трансформации концептов (смыслов), что заставляет признать их, с одной стороны, средством связи мышления определённого человека с окружающим его миром, а с другой стороны, отправной точкой в исследовании когнитивных процессов.
Неоднозначность понимания термина «концепт» и различное его толкование в научных трудах определяется существованием нескольких основных подходов к определению ведущего термина лингвокогнитологии, его описанию и типологизации: 1) лингвокогнитивный (Вежбицка 1996, 2001, Лукин 1993, 1999, Воркачёв 2004, Бабушкин 1996, Попова, Стернин 2003, Лихачёв 1993); 2) психолингвистический (Залевская 2000, Каминская 1998, Медведева 2000, Красных 1998); 3) лингвокультурологический (Степанов 2001, Карасик 1996).
Понимание концепта как «некой информационной целостности, присутствующей в национальном коллективном сознании, прошедшей первичный семиозис и осознаваемой языковой личностью как инвариантное значение ассоциативно-семантического поля» [Сергеева 2002: 26] связывает концепт с явлением ассоциативно-семантических полей, которые следует трактовать как «поле, в котором вокруг общего семантического признака объединяются не только единицы, включающие в семантическую структуру этот признак, но и единицы, ассоциативно с ними связанные» (например, в ассоциативно-семантическое поле концепта «Человек» могут входить лексемы «животное», «разум» и др.) [Сергеева 2002: 26]. В работах последних лет ассоциативно-смысловое поле непосредственно соотносится с понятием концепта: «Ассоциативно-смысловые поля художественного текста, материализованные лексически, являются не только единицами его анализа, но и регулятивными структурами, коррелирующими с квантами знания - концептами в сознании воспринимающего текст субъекта» [Болотнова 1998: 243].
Ассоциативно-смысловые (в другой терминологии - семантические, ассоциативно-образные, смысловые) поля рассматриваются как средство отражения специфики авторского идиостиля в ряде лингвистических работ (Тарасова 1994, Петрова 2001, Овчинникова 1987).
Термин «концепт» неразрывно связан с понятием «концептосфера», которое мы вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным понимаем как «чисто мыслительную сферу, состоящую из концептов, существующих в виде мыслительных картинок, схем, понятий, фреймов, сценариев, гештальтов (более или менее сложных комплексных образов внешнего мира), абстрактных сущностей, обобщающих разнообразные признаки внешнего мира» [Попова, Стернин 2003: 11]. Концептосфере принадлежат и когнитивные классификаторы, способствующие определённой организации концептосферы. Каждая концептуальная структура текста обладает определённой иерархией в распределении включённых в неё концептов.
В отечественной лингвистике термин «концептосфера» был введён Д.С. Лихачёвым. По определению этого исследователя, концептосфера -это совокупность национальных компонентов, она образована всеми «потенциями» концептов носителей языка. Концептосфера «тем богаче, чем богаче вся культура нации - её литература, фольклор, наука, изобразительное искусство..., она соотносима со всем историческим опытом нации...». «Имеет значение, - отмечает учёный, - не только широкая осведомлённость и богатство эмоционального опыта, но и способность быстро извлекать ассоциации из запаса этого опыта и осведомлённости» [Лихачёв 1997: 282]. Таким образом, концептосфера представляет собой систему иерархически соотнесённых и взаимообусловленных концептов. По определённым признакам концепты вступают в системные отношения сходства, различия и иерархии с другими концептами.
Следует отметить, что языковая картина мира не тождественна концептосфере, последняя гораздо шире, поскольку в языке названо далеко не всё её содержание, не все концепты имеют языковое выражение и становятся предметом коммуникации. Коммуникативная значимость языковой единицы связана с ценностью выражаемого вербально концепта для культуры народа (Карасик 1996) или для отдельного автора. Обращение к концептосфере отдельного автора и анализ концептов, формирующих эту концептосферу, - одна из актуальных проблем «когнитивной поэтики» [Тарасова 2003: 5], в рамках которой проводилось исследование.
Поскольку концепт обладает слоистой структурой (Проскуряков 2000, Степанов 2004, Стернин 2000) и культурологически обусловлен, то и авторский концепт будет испытывать на себе влияние культурных и исторических изменений, происходящих в реальности, окружающей писателя. Поэтому важную роль в выявлении специфики концептов и их место в концептосфере В. Пелевина играет литературное направление, к которому он принадлежит.
Понятие современной литературы охватывает довольно большой временной промежуток: с конца 1950-х годов, когда начали обнаруживать себя основные тенденции, определившие развитие русской литературы в последующие три десятилетия, и вплоть до настоящего времени. И хотя однозначного определения характера этого периода в научной литературе нет, этот отрезок времени исследователи связывают с постмодернистскими тенденциями в области философии, литературы, эстетики.
«Обычно постмодернизм определяется как культурная формация, исторический период или совокупность теоретических и художественных движений, которым свойственен принципиальный эклектизм и фрагментарность, отказ от больших, всеохватывающих мировоззрений и повествований. Просветительская установка на идеал, поиск некой универсальной и рационально постижимой истины отождествляется с
опасностями утопизма и тоталитаризма. Мир мыслится как текст, как бесконечная перекодировка и игра знаков, за пределом которых нельзя явить означаемые, «вещи» как они есть, «истину» саму по себе. Текст мыслится «интертекстуально», как игра сознательных и бессознательных заимствований, цитат, клише. Понятие реальности конструируется производно от тех концептуальных схем и текстуальных стратегий, которые зависят от расовых, этнических и сексуальных ориентации исследователя, от его властных позиций и устремлений... » [Эпштейн 2000: 5-6] М.Эпштейн также выделяет ряд «понятийных комплексов», которые характеризуют постмодернизм: «означающие без означаемых», «симулякр» (подобие без подлиника), «интертекстуальность», «цитатность», «деконструкция», «игра следов», «смерть автора», «антиутопизм и постутопизм», «крах рационализма и универсализма», «крах логоцентризма и фаллоцентризма», «фрагментарность», «эклектика», «плюрализм», «многокультурность», «скептицизм», «ирония», «пародия», «пастиш» (цитирование с целью пародии). Поскольку данное толкование наиболее связано с литературой и отражает основные особенности творческого метода писателей-постмодернистов, то в нашей работе мы будем опираться на определение М.Эпштейна, принимая во внимание и другие определения термина «посмодернизм» (Богданова 2004, Зыбайлов, Шапинский 1993, Ильин 2001, Руднев 1999, Скоропанова 2000).
Учитывая социально-политическую и культурную обстановку, в которой формировался русский постмодернизм, можно представить его как совокупность нескольких элементов: (русский) постмодернизм = модернизм + литература соцреализма + классическая литература + мифология + фольклор + бесконечность [Богданова 2004: 30].
Такое стремление постмодернизма к множественности и полиструктурности является его отличительной особенностью и характерно для всех его представителей. Отражением внутренней
неоднородности, эклектичности данного литературного направления является индивидуалистичность писателей-постмодернистов. Так, к литературе постмодернизма относят авторов, далеко отстоящих друг от друга по своим художественно-этическим и художественно-эстетическим принципам (Вен. Ерофеев, В. Ерофеев, С. Довлатов, Э. Лимонов, Л. Петрушевская, В. Пьецух, Т. Толстая, В. Пелевин, В. Сорокин, С. Каледин, М. Кураев, Е. Харитонов, Д. Пригов и др.).
Но, несмотря на неоднородность «новой» литературы, можно выделить несколько общих принципов, позволяющих говорить о постмодернизме как едином литературном процессе. Прежде всего, это «вызов и выпад», «наперекорность и оппозиционность» (Чупринин 1993), «нарушение правил поведения» (Иванова 1996). Именно эта категория опосредует все прочие принципы, особенности и составляющие постмодерна.
Вторая отличительная особенность писателей-постмодернистов -особая разработка образов героя и автора. Критики признают, что современная проза «населена почти исключительно людьми жалкими, незадачливыми, ущербными бесспорно» (Чупринин 1993). Социальная детерминированность героев принципиального значения не имеет, главное, что все они «периферийны относительно центра, их личности деформированы, характеры аномальны» (Богданова 2004), они страдают «хронической нравственной недостаточностью» (Шкловский 1986).
Так же существенно изменена позиция автора. Автор скрыт и замаскирован в герое-рассказчике, дистанция между героем и автором фактически исчезает, последний растворяется в повествовании, что позволяет говорить исследователям об анонимности постмодернистских текстов.
В качестве третьей отличительной особенности текстов современной постмодернистской литературы исследователи выделяют способ создания реальности. Образ окружающего мира, создаваемый писателями-
постмодернистами, «лишён земного тяготения и элементарного порядка вещей» (Шкловский 1986). Реальность алогична и хаотична, в ней уравнено высокое и низкое, истинное и ложное, совершенное и безобразное. Создание такой реальности в тексте требует специфических языковых средств: язык литературы постмодернизма, с одной стороны, может включать бранную и нецензурную лексику, с другой - вычурно красив, изыскано артистичен.
Принципиально важным признаётся то обстоятельство, что аномальный герой, обезличенный автор, абсурдная реальность для писателей-постмодернистов являются не отклонением от нормы, а самой нормой, той точкой отсчёта, которая составляет центр постмодернистской картины мира.
Перечисленные принципы, объединяющие представителей литературы постмодернизма, каждый автор реализует в своих произведениях по-своему, так как способы воплощения образной системы (герой - автор - реальность) признаются «неповторимо-субъективными» (Богданова 2004). Поэтому для выявления особенностей художественной картины мира писателя-постмодерниста закономерно обратиться к анализу творчества В.Пелевина как одного из наиболее известных и признанных представителей этого направления в литературе.
Традиционно исследователи творчества В. Пелевина говорят о нём как о представителе постмодернизма в литературе. Однако в критической литературе выделяется ряд особенностей прозы писателя, что позволяет говорить о ярко выраженной индивидуально-авторской картине мира. Так, О.В. Богданова пишет, что В. Пелевин сходится с постмодернизмом «во внешней форме» и в «том тотальном неприятии социума и всего человеческого жизнеустройства в его современных формах» [Богданова 2004: 301] Исследователи отмечают, что если постмодернисты, говоря о разрушении внешнего мира, одновременно имеют в виду и полное уничтожение внутреннего мира, то В. Пелевин не принимает отрицания
позитивной сущности человека, внутренней психологической осмысленности субъекта. Если постмодернисты созерцают разрушающийся внешний мир, то В. Пелевин в своих произведениях конструирует новый мир. Таким образом, можно говорить о том, что вопреки одному из основных принципов постмодернизма - «ничто не живо и уж тем более не свято» [Руднев 2003: 94] - В. Пелевин говорит о важной роли человека, так как именно человеческое сознание творит многочисленные миры, существование которых в отрыве от субъекта невозможно. Мировоззрение автора отражается прежде всего в языке произведений. Примеры моделирования человеческим сознанием окружающей действительности широко представлены в романах В. Пелевина. Приведём лишь один пример:
«Элементы окружающего мира появлялись в тот момент, когда на них падал мой взгляд, и у меня росло головокружительное чувство, что именно мой взгляд и создаёт их» (ЧиП).
Таким образом, можно говорить, что у В. Пелевина именно человек создаёт вокруг себя реальность, которая в свою очередь обладает рядом свойств и воспринимается через основные категории - пространство и время. Итак, актуальность диссертационного исследования обусловлена не только значимостью для современной лингвистики терминов «художественная картина мира», «концепт» и «концептосфера», но важностью фигуры В. Пелевина как наиболее интересного представителя литературного направления постмодернизма.
Научная новизна исследования связана, прежде всего, с предметом научного анализа: впервые рассматриваются особенности вербализации концептосферы В. Пелевина, представленной в его романах (включая изданные в последние годы). В конце 20 - начале 21 века происходит актуализация старых понятий посредством наполнения их новым содержанием, что составляет творческую лабораторию писателей-постмодернистов. С 90-х годов появляется всё больше
литературоведческих работ, связанных с анализом и интерпретацией произведений писателей-постмодернистов (Аннинский 2000, Володихин 1999, Гетманский 2001, Калугин 2001, Каневская 2000, Колобродов 1999, Курский 1999, Павлов 1999, Паршина 2001, Петровская 2004, Скидан 2004, Шкловский 2000, Эрастова 2002 и др.). В то же время лингвистические исследования, посвященные специфике языка и картины мира постмодернистских текстов, - единичны (Гавенко 2002, Роатбиль 2001, Столярова И.В. 2006, Шаманский 2001). Исследований же, связанных с выявлением особенностей концептосферы В. Пелевина на материале последних романов «Священная книга оборотня» и «Шлем ужаса», вообще не проводилось. Новизна настоящего исследования связана также с тем, что впервые предпринимается попытка максимально полно описать лексические средства, используемые для репрезентации концептов в художественном тексте В. Пелевина и определить место анализируемых концептов в его концептосфере. В рамках настоящего исследования были выделены и описаны основные лексико-семантические поля, представляющие содержание концептов («Персоносфера», «Родственные отношения» и др. для концепта «Человек», «Единицы исчисления времени», «Время по отношению к настоящему моменту» для концепта «Время»).
Теоретическая значимость связана с уточнением понимания структуры концепта с точки зрения его слоистой природы, выделением ядерных и периферийных слоев концептов в художественной картине мира в сравнении с концептами в языковой картине мира.
Теоретическая значимость настоящего исследования состоит также в выделении особенностей картины мира В. Пелевина как писателя-посмодерниста, поскольку ощущается недостаток лингвистических исследований, направленных на анализ как отдельных произведений (особенно последних романов), так и идиостиля этого автора вообще.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования её результатов при изучении приёмов анализа текстового концепта в спецкурсах по когнитивной лингвистике, филологическому анализу художественного текста, а также в спецкурсах и спецсеминарах, посвященных как творчеству В. Пелевина, так и постмодернизму как литературному течению в целом.
Объектом исследования в работе являются представленные в тексте языковые единицы (как однословные, так и сверхсловные номинации), репрезентирующие концептосферу В. Пелевина. Предмет исследования -идиостилевая специфика лексических средств, отражающих концептосферу прозаических текстов писателя.
Целью данного диссертационного исследования является анализ специфики лексической репрезентации авторской концептосферы в романах В. Пелевина. Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих задач:
определить специфику художественного концепта;
выявить основные ментальные комплексы, организующие концептосферу В. Пелевина («Человек», «Время», «Пространство»);
описать концепт «Человек», выделив все его лексические репрезентанты;
рассмотреть лексические средства и особенности экспликации концептов «Пространство» и «Время»;
исследовать взаимосвязь выделенных концептов в художественной картине мира В. Пелевина;
продемонстрировать семантические процессы, происходящие в содержании и системе выделенных концептов в творчестве В. Пелевина.
Материалом для исследования концептов «Человек», «Пространство», «Время» в творчестве В. Пелевина послужила картотека текстовых фрагментов объёмом 618 единиц, полученная методом сплошной выборки из романов «Чапаев и Пустота» (ЧиП), «Generation П»
(Gil), «Священная книга оборотня» (СКО), «Шлем ужаса» (ШУ). Выбор этих произведений обусловлен, во-первых, формой, так как роман (большое по объёму текстовое целое) позволяет автору наиболее полно и логично изложить свою систему взглядов в рамках одного произведения и максимально ярко представить свою языковую картину мира. Во-вторых, обращение к романам, написанным В. Пелевиным в разное время, позволит выявить постоянные составляющие концептосферы писателя и проследить изменения в ней, выделить отличия (если такие существуют) в содержании анализируемых концептов. В-третьих, отобранные для анализа тексты, являясь законченными по форме и идейному содержанию произведениями, соотносятся с определёнными сферами жизни, откуда черпается материал для репрезентации авторской картины мира. На материале названных текстов была составлена картотека примеров с ключевыми словами (именем заданного концепта или номинациями, относящимися к ассоциативно-семантическому полю данного концепта). Подробный анализ классов слов, с которыми сочетается основной номинант концепта, позволит установить важнейшие черты соответствующего ментально-лингвального комплекса.
Принимая во внимание широкий круг явлений и особенности структуры концепта, при которых «возможно лишь перечисление некоторых (возможно, основных) слоев и концептуальных признаков, подвергшихся вербализации и зафиксированных нами в языковом материале» [Стернин 2000: 15], мы должны оговорить, что объём заявленных репрезентантов концептов «Человек», «Пространство», «Время» не является исчерпывающим, но в полной мере отражает содержание концепта и выявляет точки пересечения полей концептов.
Следует также отметить разнородность лексических экспликантов анализируемых концептов, и, поскольку целью данного исследования не является создание строгой и единой классификации лексических средств экспликации концептосферы В. Пелевина в целом (что представляется
фактически невозможным), анализ материала носит описательный характер, материал систематизируется для каждого отдельного концепта.
Методы исследования.
Для нас наиболее актуальны те методы, которые позволяют максимально полно представить содержание художественного концепта. Анализ авторской концептосферы в романах В. Пелевина проводится поэтапно и заключается в следующем:
1. Выявление особенностей видения ключевых концептов «Человек»,
«Пространство», «Время» средним носителем языка. Для этого
необходимо провести анализ материалов различных словарей: толковых,
антонимических, тематических, ассоциативных, философских,
литературоведческих и т.д.
Составление картотеки контекстов, в которых эксплицируются названные концепты (как отдельные лексемы, так и сверхсловные номинации).
Описание коммуникативного потенциала средств номинации ключевых концептов концептосферы В. Пелевина в текстовой парадигме и, как следствие, выявление ведущих текстовых смыслов, актуализирующих образы Человека, Пространства и Времени.
4. Выделение лексико-семантических полей и анализ их
компонентов при описании слоев ключевых концептов в романах В.
Пелевина (описание авторского «членения действительности»,
отражённого языком в специфических языковых парадигматических
объединениях (лексико-семантических полях)).
5. Реконструкция содержательной структуры концептов «Человек»,
«Пространство», «Время» и выявление ядерных и периферийных
смысловых зон концептов.
6. Сопоставление всех полученных фрагментов художественной
картины мира В. Пелевина и выявление специфики авторской
концептосферы.
Таким образом, в соответствии с поставленными задачами в работе будут использоваться следующие методы и приёмы: метод сплошной выборки, контекстуальный анализ, компонентный анализ с опорой на словарные дефиниции, сопоставительный анализ, метод контекстуального и дефиниционного анализа, а также приём полевых исследований.
Положения, выносимые на защиту.
Концептосфера В. Пелевина является адекватным воплощением эстетической программы автора и во многом обусловливает тематическое, идейное и жанровое своеобразие его творчества. Выдвижение в качестве ключевой концептуальной структуры триады «Человек» - «Пространство» - «Время» обусловлено пересмотром идейных установок постмодернизма, которые заключаются в отрицании позитивной сущности человека и вследствие этого разрушении и отрицании окружающего мира.
Своеобразие концептосферы В. Пелевина проявляется: а) в оригинальности ассоциативно-смыслового наполнения культурно значимых концептов за счёт уникальности текстовых ассоциатов; б) в способах их лексической репрезентации в текстах автора; в) в выдвижении в качестве центрального концепта «Человек»; г) в специфике структуры и содержания каждого из концептов «Человек», «Пространство», «Время»; д) в имплицитно и эксплицитно представленной взаимосвязи и взаимовлиянии данных концептов.
3. Концепт «Человек» занимает центральное место в концептосфере В.
Пелевина. Его специфика связана с выделением трёх содержательных
уровней: первый уровень вербализации характеризуется максимальной
степенью обобщения, второй уровень подразумевает появление в тексте
определённых признаков, характеризующих человека, третий уровень
отражает максимальную конкретизацию личности.
4. Индивидуально-авторские особенности концепта «Пространство»
связаны прежде всего с организацией его содержательной структуры по
принципу «от внутреннего (ненаблюдаемого непознаваемого) через
внешний (наблюдаемый познаваемый) к внешнему (ненаблюдаемому познаваемому).
Лексическая экспликация и содержательные особенности концепта «Время» в произведениях В. Пелевина фактически совпадают с вербализацией и содержанием этого концепта в русской языковой картине мира.
Для идиостиля В. Пелевина характерно, с одной стороны, умеренное употребление индивидуально-авторских новообразований разных типов в качестве средств репрезентации концептов. С другой стороны, для текстов писателя характерна высокая степень интертекстуальности и обращение к широкому культурному контексту.
Структура диссертации обусловлена методикой исследования материала. В первой главе рассматривается специфика художественного концепта, даётся языковое представление концепта «Человек», описываются репрезентанты этого концепта в текстах В. Пелевина, производится детальное исследование структурно-смысловых элементов концепта «Человек», реконструируется фрагмент художественной картины мира писателя. Во второй главе даётся описание экспликантов концептов «Пространство» и «Время» в языковой картине мира и в текстах В. Пелевина, выявляется коммуникативный потенциал лексем, репрезентирующих заявленные концепты в художественном тексте (интегральная модель лексического значения, связи с текстовым окружением), реконструируются фрагменты художественной картины мира писателя.
Художественный концепт как составляющая концептосферы и единица анализа
Для определения содержания базовых концептов художественной концептосферы В. Пелевина прежде всего следует представить основные научные подходы к понятию концепта и методикам его описания. В диссертации не преследуется цель дать полный обзор литературы по проблемам, связанным с рассмотрением концепта и других ментальных единиц (Фрумкина 1995, Красных 1998, Степанов 2001, Проскуряков 2000, Бабенко 2000 и др.). Поставленные задачи описания основных концептов концептосферы в романах В. Пелевина диктуют определённое направление изучения трудов лингвистов, акцентируя внимание на следующих проблемах: определении концепта, его типах, свойствах, способах моделирования концептов.
В нашей работе мы, следуя за А. Вежбицкой и P.M. Фрумкиной, будем понимать концепт как объект идеальный, т.е. существующий в нашей психике: концепт- «это объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий определённые культурно-обусловленные представления человека о мире «Действительность» [Фрумкина 1995: 90]. Таким образом, с нашей точки зрения этот феномен следует определять как ментальное образование, отражающее представления индивида о мире, испытывающее влияние культурного фактора и имеющее языковое выражение.
Обращаясь к вопросу о структуре концепта, в нашем исследовании мы будем ориентироваться на полевое описание концепта, так как реконструкция художественной концептосферы В. Пелевина может быть произведена лишь с опорой на поля концептов. В этом случае уместно говорить о содержании рассматриваемой единицы. При этом поле концепта, естественно, имеет ядро и периферию. Слои с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью и первичные наиболее яркие образы в художественном концепте концептосферы В. Пелевина будут относиться к ядру, более абстрактные - к периферии. Писатель часто актуализирует периферийные, скрытые семы в семантической структуре слов, эксплицирующих определённые концепты, а также вербализует эти концепты с помощью лексических единиц и сверхсловных номинаций, не характерных для экспликации определённых концептов в языке. Тем самым авторский концепт отличается структурно и содержательно от «усреднённого», присущего типично русской языковой картине мира, в результате чего мы можем говорить об индивидуально-авторском наполнении концепта.
В диссертационном исследовании при анализе концептов, наиболее важных для концептосферы В. Пелевина, с помощью слов, эксплицирующих эти концепты, мы реконструировали их, то есть представили определённые концепты в предельно упорядоченном виде, систематизировали их содержательные элементы. Однако необходимо отметить, что даже при условии достаточно полной реконструкции концепта исчерпывающее его описание невозможно.
Исследование содержания конкретных концептов вызвало живой интерес в лингвистических кругах (Степанов 2004, Лукин 1993, Яковлева 1994 и др), появились исследования концептов, связанных со сферой эмоциональной и интеллектуальной деятельности человека (Воркачёв 2004, Арутюнова 1997), со сферой человеческого поведения (Ефимова 2000, Романова 2001, Данилюк 2001), со сферой человеческих действий и отношений (Токарев 2001, Гажева 2000), со сферой интеллектуально-модальных состояний человека (Алтабаева 2000, 2001), со сферой высших сил и духовных стремлений человека (Печенкина 2000, Савенкова 2000, Борзенкова 2000). Круг концептов, попавших в поле зрения исследователей, постоянно расширяется; многие концепты рассматриваются неоднократно с использованием новых источников или методик; но и новые концепты попадают в поле зрения лингвистов. Полного списка концептов русской языковой картины мира в лингвистической литературе нет, и дискуссионным является вопрос о том, каковы могут быть критерии для составления такого списка.
Систематизация изученного материала - одна из важных проблем теории концепта. Существуют различные классификации концептов (Бабушкин 1996, Попова, Стернин 2003, Никитин 2004), что отражает многомерность изучаемого понятия. Но поскольку материалом нашего исследования является язык романов В. Пелевина, то актуальным для него стало деление концептов на нехудожественные (познавательные, концепты-универсалии) и художественные (Сергеева 1999).
Вопрос о функционировании слова в тексте актуален для многих исследователей (Колшанский 1990, Проскуряков 2000, Бабенко 2000, Болотнова 1992, 1998, Тарасова 2003, Степанова 2006, Фещенко 2005, Яцуга 2006 и др.).
Концепт «Человек» в русской языковой картине мира
Целесообразно предварить исследование индивидуально-авторской картины мира описанием соответствующего фрагмента наивной картины мира русского социума. Это связано с тем, что личностная картина мира зачастую строится на основе коллективной, хотя содержательные слои могут смещаться: что-то малосущественное для социума становится ведущим для отдельной языковой личности. Кроме того, существует вероятность, что отдельные содержательные элементы концепта могут быть расценены как индивидуально-авторские, тогда как они на самом деле оказываются общими, но малосущественными для всего социума.
Концептуальный анализ имеет своей целью определение статуса мировоззренческих понятий в обыденном сознании людей. К числу таких понятий прежде всего относится понятие человека.
Для философии 20 века характерно понимание человека как предмета и цели философской мысли. Путь к осмыслению феномена человека лежит не через естественные науки, а через естественные языки. Природе подчинён физический человек, но она ничего не знает о духовной личности. По Н.Д. Арутюновой, самосознание человеческого индивида основано на диалогическом принципе: «человек познаётся через семиотическую деятельность, предполагающую существование «другого». Он выражает себя только потому, что существует другой, способный воспринимать» [Арутюнова 1998: 324-325]. Важность понятия «Человек» для ЯКМ подчёркивал ещё Бенвенист: «именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только язык придаёт реальность, которая есть свойство быть, - понятию «Эго» - моё я» [Бенвенист 1974: 293].
Хотя человек стал центром особого направления философской мысли в новое время, обыденное сознание было обращено к нему с тех времён, когда человек выделил себя из мира природы в качестве homo sapiens, а затем из коллектива - в качестве индивида. Жизнь среди природы требует знания природы, жизнь среди людей нуждается в знании людей. Эти знания формируются в ходе речевой и литературной деятельности в процессе номинации. Поэтому традиционная методика анализа концепта включает в себя рассмотрение структуры лексических значений слов, вербализующих концепт.
Поскольку подробный анализ концептов «Человек», «Пространство», «Время» в ЯКМ не является целью нашего исследования, то для последующего сравнения содержания языкового и художественного концепта «Человек» обратимся к данным «Словаря русского языка» в 4 томах под редакцией Евгеньевой (1981-1984 гг.) и «Русского ассоциативного словаря», которые будут использоваться также при рассмотрении концептов «Пространство» и «Время» в ЯКМ.
Структура лексического значения многозначного слова «человек» включает в себя четыре лексико-семантических варианта значения: 1. «Живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда»; 2. «Личность как воплощение высоких моральных и интеллектуальных свойств»; 3. «Употребляется в значении местоимений: он, кто-то, некто»; 4. «Дворовый слуга или вообще помещичий крепостной слуга; официант, слуга в трактире в дореволюционной России». Последнее значение в языке и литературе 20 века неактуально.
Помимо этого, данная лексема входит в состав фразеологизмов и устойчивых выражений: «человек в футляре», «божий человек», «грешный человек», «мил человек», «полтора человека», «все как один человек».
Русский ассоциативный словарь выделяет как наиболее частотные ассоциации на стимул «человек»: невидимка (25), хороший (25), добрый (21), амфибия (22), разумный (18), умный (16), зверь (15), животное (16), друг (10), обезьяна (13). Данные реакции 1) отражают восприятие человека как носителя положительных/отрицательных качеств, 2) выявляют современные реалии (литературные и кинематографические герои) и связь восприятия человека с научной мыслью, 3) противопоставляют человека животному миру, с одной стороны, и представляют его как продукт эволюции, с другой стороны. В русской ЯКМ человек осознаётся не только как гражданин или деятель, но и как существо мыслящее и моральное. Показателен тот факт, что в РАС слово человек имеет наибольшее количество ассоциатов, связанных с морально-нравственными и интеллектуальными оценками: хороший - 25, добрый - 21, разумный - 18, умный -16.
Вербализация концепта «Пространство» в романах В. Пелевина
В русском литературном языке традиционно выделяется 3 основных значения лексемы «пространство»: 1. Неограниченная протяжённость (во всех измерениях, направлениях). 2. Место, способное вместить что-либо. 3. Большой участок земной поверхности (МАС). В языковой картине мира носителя русского языка пространство ассоциируется прежде всего со временем, неограниченностью, масштабностью. Русский ассоциативный словарь выделяет как наиболее частотные ассоциации на стимул «пространство»: и время (9), время (7), космос (5), космическое, пустое (4), бесконечность, замкнутое, трёхмерное (3), бесконечное, воздух, вселенная, мировое, огромное, пустота, широкое (2).
Данные реакции 1) отражают тесную связь пространства и времени в восприятии человека, 2) выявляют наиболее актуальные для носителей языка признаки пространства, 3) отражают восприятие пространства как безграничного, необозримого. Показателен тот факт, что в РАС слово «пространство» имеет наибольшее количество ассоциантов, связанных с понятием времени: и время - 9, время - 7.
В языкознании проблема «пространство и язык» связывается с проблемой субъективного восприятия действительности, с познавательной деятельностью человека и с тем, как особенности этой деятельности отражаются в структуре языка (Кравченко 1996, 2004); вводится понятие пространственного ориентира, «локуса», т.е. пространства, относительно которого определяется местонахождение предмета (действия, признака) или самого субъекта; на конкретном материале показывается, что язык характеризует пространство «обжитое» (Яковлева 1994).
Изучение того, как отдельный предмет и локус отражаются в сознании и преломляются в языке, активно проводится на основе художественных текстов (Лотман 1972, 1997, Топоров 1983, 1989, Чернейко 1995, 1997 и др.). Под локусом в художественном тексте, вслед за В.Ю. Прокофьевой, мы будем понимать любое включённое в него автором «намеренно или подсознательно пространство, имеющее границы, т.е. находящееся между точкой и бесконечностью» [Прокофьева, Прокофьева 2000: 30].
В статьях Ю.М. Лотмана о семиотике художественного пространства (Лотман 1988, 1997) говорится о прикреплённости героя произведения к определённому месту. Однако не только герой произведения, но и человек вообще всегда вписывается в систему пространственных ориентиров, что позволяет говорить о глубокой связи концептов «Человек» и «Пространство». Связь этих концептов в текстах В. Пелевина представлена множеством лексических репрезентантов, примеры которых приводились в главе, посвященной концепту «Человек» и которые будут подробно проанализированы ниже.
Говоря о взаимосвязи и пересечении концептов в художественном тексте, необходимо отметить также связь концептов «Пространство» и «Время». Связь этих концептов несомненна в языковой картине мира, явно репрезентируется в художественном тексте и позволяет говорить об их взаимодействии, «взаимораскрытии», которое выражается в том, что экспликанты одного концепта либо указывают на наличие другого, либо заключают в своём лексическом значении содержательные элементы обоих концептов. Примеры пересечения полей концептов «Человек», «Пространство» и «Время» также будут рассмотрены ниже.
В романах В. Пелевина представлена специфическая структура моделируемого им пространства, что говорит о принадлежности этого автора к литературному направлению постмодернизма. В качестве лексических репрезентантов художественного концепта «Пространство» в ходе анализа были выделены не только однословные, но и сверхсловные единицы (сочетания слов и даже контексты). Поэтому представляется возможным при анализе этого концепта в широком контексте не ограничиваться методом исследования ЛСП, а выделить несколько групп репрезентантов, основываясь на определённом признаке.