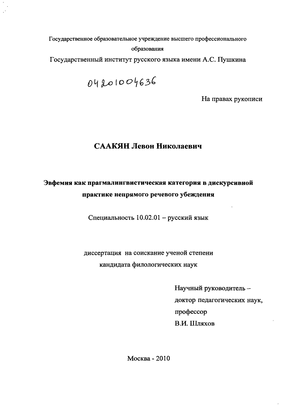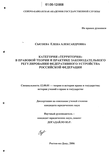Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Эвфемия в коммуникативном пространстве языка 15
1.1. Система координат и постулаты когнитивно-дискурсивной парадигмы 15
1.2.Понятие коммуникации. Коммуникативные модели 22
1.3. Коммуникативные стратегии и тактики 25
1.4.Текст и коммуникативная ситуация. Дискурс 29
1.4.1. Дискурсоцентризм 32
1.5. Когнитивные, языковые и коммуникативные основания эвфемии 34
1.6. Эвфемия и непрямая коммуникация 36
1.7. Метамаркеры эвфемии 44
1.8. Кавычки при эвфемизации как маркеры непрямой коммуникации 50
Выводы по первой главе 55
Глава 2. Категориальный статус понятий эвфемизм, эвфемизация и эвфемия 58
2.1. Понятие эвфемии в лингвистике и в других областях знания 58
2.2.Эвфемизм: деривационные связи и значения 61
2.3. Эвфемизм и эвфемизация 66
2.3.1.Обязательные признаки эвфемизмов 71
2.3.2. Рекуррентность языковых эвфемизмов 79
2.4. Принципы классификации эвфемизмов 80
2.4.1.Функции эвфемизмов 82
2.4.2.Темы и сферы эвфемизации 84
2.4.3. Способы создания эвфемизмов 86
2.5. Дискурсивный характер эвфемизации 91
2.6. Оппозиция «свой — чужой» и аксиология запрета. Имплицитные оценки 98
2.7,Отличие эвфемизма от намека и других смежных явлений 101
2.8. Опыт интерпретации эвфемизма 106
Выводы по второй главе 117
Глава 3. Эвфемия и дисфемия: языковые стратегии смягчения и дискредитации 120
3.1 Эвфемия и дисфемия как частный случай вариативности .120
3.2. Социально-политическая эвфемия 131
3.3. Проблема различения речевых актов эвфемии и лжи 139
3.4.Эвфемия и ритуализованные формы коммуникации 143
3.4.1.Эвфемия и этикет 147
3.5. Эвфемия и энантиосемия 151
3.6. Оппозиция эвфемизм / дисфемизм по оценочному ассоциату 156
3.7. Иллокутивность эвфемии 158
3.8. Персуазивность эвфемии 160
Выводы по третьей главе 166
Заключение 169
Библиография 174
Приложение 193
- Система координат и постулаты когнитивно-дискурсивной парадигмы
- Понятие эвфемии в лингвистике и в других областях знания
- Эвфемия и дисфемия как частный случай вариативности
Введение к работе
Диссертационное исследование посвящено изучению теоретических и практических аспектов эвфемии как коммуникативной практики. Эвфемия рассматривается в контексте когнитивно-дискурсивной парадигмы современного языкознания. В русле этой парадигмы лингвистика, психолингвистика, философия языка и лингводидактика изучают мышление и общение, различные способы воздействия на адресата в процессе общения, роль языка в интеллектуальном созидании и в переработке знаний о мире.
В работе различаются понятия эвфемизм, эвфемизация и эвфемия. Принципиальным для исследования является то, что эти три понятия объединены в триаду. Причем основным в этой триаде является понятие эвфемия, два же других занимают подчиненное положение.
В современном научном дискурсе наблюдается некоторый полиморфизм этих терминов. Под эвфемизмами понимаются а) в традиционном языкознании - слова и выражения, заменяющие грубые, резкие обозначения, которые представляются говорящему неуместными, не вполне вежливыми, и каузативной основой которых является стремление не обидеть, не задеть слушающего; б) в теории речевых актов как одном из аспектов речевой деятельности эвфемизмы описываются как речевые акты. Термин эвфемизация в научном дискурсе имеет также два значения — системное и дискурсивное: а) языковой инструмент создания эвфемизма и б) процесс насыщения эвфемизмами речи. Под эвфемией традиционно понимается лишь явление словестного смягчения сути сообщаемого (часто исключительно в литературном языке) . Поскольку мы исследуем эвфемию в русле лингвистической прагматики и теории речевых актов, в работе будем опираться на прагмалингвистические определения. Тем не менее существующие понятия недостаточны для объяснения тех проблем, которые вскрываются в дискурсе. 1 См. [Москвин 2008:98]
Предлагая терминологизировать2 еще одно значение эвфемии, мы будем понимать под эвфемией адаптивную речевую стратегию особого типа. Суть ее кратко можно выразить так: эвфемия преобразует смысл в форму.
Анализ литературы по данному вопросу показывает, что имеющиеся классификации эвфемизмов, различаясь количеством таксономических градаций, совпадают в одном: все они представляют эвфемизацию речи как явление лексического уровня. Иначе говоря, с точки зрения большинства исследователей, эвфемизм — это два коррелирующих слова или словосочетания, составляющих «изысканное название» для «отвратительных вещей» (Г. Лебон). Нам представляется, что такой подход сужает объем понятий эвфемизм и эвфемизации речи. Эвфемизм - факт языка, ориентированный на речевую коммуникацию, отмечает М.Л. Ковшова, «оборот речи, семантика которого складывается из отношения между знаком, значением и говорящим» [Ковшова 2007:29]. С позиции новых парадигм лингвистического знания, эвфемизация должна быть рассмотрена как часть речевой стратегии, как явление коммуникативное, имеющее свои корреляты в языке. Четкое определение того, что эвфемизация речи - это явление речевой коммуникации, а не системной организации языка, позволяет снять многие сложные вопросы теории эвфемизмов.
Эвфемия проявляется исключительно в речи — это дискурсивное явление (текст рассматривается нами как одна из реализаций дискурса). Эвфемизм - это явление, с одной стороны, языка (эвфемизм как заменное слово), с другой, — речи (речевой акт «эвфемизм», по М.Л. Ковшовой).
Из названных шести понятий в триаду объединяются: 1) эвфемизм как речевой акт, 2) эвфемизация как насыщение речи эвфемизмами, т.е. речевая тактика и 3) эвфемия как дискурсивная стратегия.
Эвфемия - это дискурсивно-когнитивный феномен, вид непрямой коммуникации, направленной на видоизменение представления адресата о 2 Новый термин создается, в первую очередь, для объективации и последующей фиксации в языке определенной структуры знания.
7 мире с целью достижения того или иного перлокутивного эффекта.
Эвфемия рассматривается также в сопоставлении с персуазивными речевыми практиками. Персуазивным воздействием на слушателя мы называем такое языковое убеждение, которое предусматривает изменение отношения адресата к предмету речи, и как результат - совершение адресатом действий в интересах адресанта [Баранов, Добровольский 2001].
В работе также обобщаются результаты исследований эвфемизмов в системе языка (А.А. Реформатского, Б.А. Ларина, Д.Н. Шмелева, Л.П. Крысина, A.M. Кацева, В.П. Москвина, Е.П. Сеничкиной и др.), т.е. реализуется принцип «от системы к дискурсу».
Гипотеза исследования: предполагается, что исследование эвфемии в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы, где она рассматривается как средство непрямой коммуникации, позволит применить к «эвфемизму» как речевому действию и к «эвфемизации» как насыщению речи эвфемизмами приемы дискурсивного анализа и выявить те стороны элементов триады «эвфемизм—эвфемизация—эвфемия», которые оставались неизученными в традиционных системных изысканиях.
Говоря об актуальности исследования, необходимо отметить, что проблема эвфемизмов широко разрабатывалась в Европе и Америке на протяжении прошлого столетия, изданы многочисленные монографии и словари эвфемизмов в Англии, США, Польше. По разным причинам в русистике в течение всего XX в. эвфемизмы являлись темой не популярной, лежащей вне основных направлений языкознания. Эвфемизмы рассматривались только в историческом аспекте в связи с древними табу и анализировались преимущественно на индоевропейском и славяно-балтийском материале [Булаховский 1953; Ларин 1961; Реформатский 2005].
Описанием средств и целей эвфемизации в русском языке за последнее десятилетие занимались ученые разных школ: московской, петербургской, волгоградской, казанской (Л.П. Крысин 1994; 1996; В.П. Москвин 1998; 1999; 2007; Т.Л.Павленко 1996; В.З. Санников 1999; Е.П. Сеничкина 2006,
8 Н.И. Формановская 1989 и др.). Исследования сегодня ведутся в сферах личной (А.А. Андреева 1999; Е.Ю. Голованова 2005; А.С. Карпова 2001 и др.) и социальной (А.Д. Васильев 1999; Л.К. Граудина 1993; О.В. Обвинцева 2003; Е.И. Шейгал 1997; 2000 и др.) эвфемизации речи. Исследуются эвфемизмы художественных текстов (В.В. Андреев 2005; Л.Н. Вавилова 2004; Л.А. Горшкова 2005; Н.А. Давыдкина 2004; Е.П. Сеничкина 2003 и др.). Проблема эвфемизмов все активнее ставится в отечественной германистике (Ю.С. Баскова 2007; Т.С. Бушуева 2005; A.M. Кацев 1987; Е.И. Шейгал 2000 и др.).В российской лингвистике эвфемизмы изучались в их связи с комическим (A.M. Кацев 1988; В.З. Санников 1999). В последнее десятилетие эвфемизмы неоднократно рассматривались российскими учеными также в связи с актуальностью проблемы воздействия в политической коммуникации. Эффективность этого способа манипулирования в языке СМИ не вызывает сомнения (О.В Обвинцева 2003; Ю.С Баскова 2007; Н.В. Прядильникова 2007; М.Л. Ковшова 2007; 2009 и др.).
Однако, несмотря на изученность эвфемизмов в лексическом плане, мы не обнаружили более или менее основательных исследований явления эвфемии в дискурсивном аспекте. Нет общепризнанных ответов на вопросы: при каких условиях происходит обращение говорящего к эвфемии как способу воздействия на слушающего и каким образом слушающий интерпретирует эвфемизированный дискурс и реагирует на него. Интерпретация эвфемии -одна из важнейших проблем теории речевого взаимодействия (В.И. Шляхов). Этим, в частности, определяется актуальность исследования.
Актуальность исследования, таким образом, обусловливают следующие факторы: 1) неразработанность проблемы эвфемии как прагмалингвистической категории в дискурсивном аспекте; 2) особый потенциал эвфемии, позволяющий структурировать и концептуализировать действительность, что ставит эвфемию в один ряд с наиболее эффективными способами непрямого воздействия и привлекает все большее внимание лингвистов (а также — в соответствии с постулатом синкретичности научной парадигмы -
9 психолингвистов, социологов, когнитологов и политтехнологов); 3) необходимость изучения эвфемии в русле современного когнитивно-дискурсивного направления в непрямой коммуникации.
Новизна работы заключается в том, что эвфемия рассматривается как речевая стратегия, которая строится из речевых тактик «эвфемизации» — насыщения речи эвфемизмами, в свою очередь, состоящих из речевых актов «эвфемизм», т.е. реализаций эвфемизмов в речи.
Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке и введении в" научный оборот понятия «принудительная эвфемизация», в дальнейшей разработке проблемы убеждающего воздействия эвфемии, а также в расширении и дополнении разысканий в области когнитивистики и прагматики, уточнении результатов уже предпринимавшихся попыток исследований эвфемии как дискурсивного феномена.
Практическая значимость работы заключается в том, что сделанные в результате исследования выводы детализируют методику интерпретации сценариев русского речевого взаимодействия в части использования эвфемии как адаптивной стратегии. Учебные материалы, предназначенные для формирования рефлекторных умений распознавания эвфемистических тактик, могут найти применение как в процессе профессионального обучения филологов-русистов, так и при обучении русскому языку иностранных учащихся разных профилей.
Объектом исследования является непрямая коммуникация, а точнее — реализация авторской интенции убеждения, осуществляемой при помощи эвфемии, в текстах русской художественной литературы (классических и современных), в текстах газетной публицистики периода (2000 — 2010 гг.) и в разговорных дискурсах.
Предметом изучения явились эвфемия и средства ее выражения, ее лексико-грамматические, когнитивные и прагматические особенности, непрямые фигуры речи, эксплицитные и скрытые механизмы порождения и интерпретации эвфемии.
Цель исследования состоит в изучении и описании эвфемии как коммуникативной практики, т.е. дискурсивного феномена. Это значит, что анализ эвфемии нельзя сводить к характеристике заменных языковых единиц (слов, словосочетаний и т.д.). Нас интересует ответ на вопросы, при каких обстоятельствах эвфемия порождается, как она понимается и какое перлокутивное воздействие оказывает, другими словами, каким образом слушающий воспринимает этот вид словесного воздействия и реагирует на него.
В соответствии с вышеизложенной целью были поставлены следующие задачи:
Обобщить и систематизировать различные подходы отечественных и зарубежных ученых к проблеме эвфемизации.
Определить и категоризировать понятия «эвфемизм», «эвфемизация», «эвфемия», рассматривая их в совокупности как части трехуровневой триады.
Описать эвфемизмы как дискурсивные речевые произведения, цель которых - воздействие на адресата. Иными словами, определить роль эвфемизмов в индикации перлокутивного эффекта речевых актов.
Проанализировать иллокутивность эвфемии и показать, как с учетом иллокутивного воздействия строится эвфемистическое речевое выражение.
Выявить и представить способы опознания и интерпретации сценариев эвфемии как коммуникативной стратегии.
Проанализировать «принцип вежливости» как прагматическую составляющую эвфемизации.
Материалом исследования являются эвфемизмы различной структуры и разных языковых уровней (слова, словосочетания, предложения), а также тексты, в которых реализуется стратегия эвфемии: произведения русской литературы XIX и XX вв., начала XXI в., как художественные, так и публицистического и официально-делового характера, а также разговорная речь. Современным материалом для исследования служат, в первую очередь, такие тексты, чье манипулятивное воздействие наиболее очевидно (рекламы и агитационные тексты политического дискурса, телевизионные политические передачи). Была составлена картотека, включающая более трех тысяч примеров, отражающих особенности употребления эвфемизмов, из них выделено и подробно описано более пятисот, отвечающих критериям отбора (актуализация прагмалингвистической категории «эвфемия», неповторяемость, яркость). Существенная часть примеров была обнаружена благодаря поиску в Национальном корпусе русского языка () и поисковой системе Integrum. Также использовались лексикографические источники (14 наименований).
Применялись следующие методы исследования, определяемые его целью и задачами: метод системно-функционального анализа, словообразовательной характеристики, описательный и аналитический методы, метод дискурсивного анализа (дискурс-анализ), метод прагматической интерпретации, состоящий в выявлении различных типов коннотативных приращений.
В качестве целей дискурсивного анализа (в понимании Т.А. ван Дейка, А.Н. Баранова) выступали: 1) идентификация аргументативных стратегий, используемых собеседниками; 2) анализ взаимодействия собеседников с учетом вертикального и горизонтального контекстов; 3) выделение аналитических единиц, конструирующих некий объект дискурса.
На защиту выносятся следующие положения: 1. Триада «эвфемизм-эвфемизация-эвфемия» должна рассматриваться в дискурсе с учетом человеческого фактора. Только так можно ответить на вопросы, с какой целью и как использует эвфемию говорящий и каким образом слушающий понимает ее смысл. Разделяя эвфемизм и эвфемию, мы, тем самым, подчеркиваем важное различие системности и дискурсивности: эвфемизм - это лексическая единица, реализующаяся при помощи вторичной лексической номинации, явление ономасиологического плана, имеющее свои особые, зависящие от потребностей общения и коммуникативной тактики,
12 языковые способы выражения, в то время как эвфемия - это способ сокрытия «проблемных зон», воссоздания мира в иной конфигурации и обязательно с нейтральной или положительной коннотацией, т.е. явление прагмо-коммуникативной сферы. Эвфемию надо изучать как с позиции говорящего, так и с позиции слушающего. Метаязык системного описания недостаточен для решения проблемы эвфемии в когнитивно-дискурсивной парадигме. Поэтому необходимо использовать как метаязык, так и результаты исследований теории речевых актов (ТРА), теории речевой деятельности (ТРД) и дискурс-анализа.
В отличие от эвфемизмов, эвфемией мы называем дискурсивную стратегию адаптивного типа, искажающую смысл настолько глорифицированной формой, что она перенаправляет внимание адресата к близкому, но другому денотату, т.е. в этом случае речь идет, строго говоря, о подмене денотата вследствие крайней степени обобщенности и неопределенности его содержания, что приводит к неопределенности круга самих денотатов (эврисемии). Эвфемия рассматривается нами как частный случай непрямой коммуникации.
Применение эвфемии в непрямой коммуникации, как правило, имеет целью заставить адресата поверить в облагороженный обман. Изучение перлокутивного эффекта возможно только по результатам воздействия эвфемии и реакции слушающего на это словесное воздействие.
Апробация результатов исследования: материалы исследований и основные результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры теории и практики преподавания РКИ факультета повышения квалификации Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, по теме исследования были представлены доклады на IV-м Международном конгрессе исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» в МГУ, г. Москва, 2010 г., и международных конференциях: на Международной научной конференции «Ритуал в языке и коммуникации» в РГГУ, г. Москва, 2009; на VI Международной научно-практической конференции «Современная методика преподавания русского языка как
13 иностранного: проблемы и их решения» в Mill У, г. Москва, 2010 г.; на Международной конференции «Текст и подтекст: поэтика эксплицитного и имплицитного» в ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН, г. Москва, 2010 г.
По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объемом более 3,5 п.л., в том числе 3 из них - в журналах, рекомендованных ВАК.
Структура и объем диссертации определяются спецификой ее целей, задач и методов. Работа состоит из введения, трех глав, выводов к каждой главе, заключения, библиографии, включающей работы отечественных и зарубежных авторов на русском, немецком и английском языках, списка источников языкового материала, списка словарей, приложения.
Система координат и постулаты когнитивно-дискурсивной парадигмы
В современной лингвистике подход к изучению языка как действия не только вполне оправдан, но и приобретает в последние годы все большую актуальность. Именно в таком аспекте языковые явления рассматриваются в рамках современного направления языкознания — лингвистической прагматики (прагмалингвистики). К эмпирическим задачам прагмалингвистики относятся разработка когнитивной модели производства и понимания речевых актов, а также исследование коммуникативного взаимодействия [Кобозева 2003].
Эвфемия рассматривается нами в контексте когнитивно-дискурсивной парадигмы современного языкознания, выдвинутой и обоснованной Е.С. Кубряковой [Кубрякова 2004, 2007]. Это направление предполагает проведение анализа языковых явлений в двух системах координат - «на пересечении когниции и коммуникации» [Кубрякова 2004: 325], а также применение и развитие постулатов теории перформативности или теории речевых актов (Дж. Остин, Г.П. Грайс, Дж. Серль, А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин и др.), теории номинации и теории речевой деятельности А.А. Леонтьева. В русле этой парадигмы — в синтезе смежных наук (лингвистики, психолингвистики, философии языка) - изучаются мышление и общение, различные способы убеждения, роль языка в интеллектуальном созидании и в переработке знаний о мире.
Для нас важно, что коммуникативность в современной научной парадигме понимается не просто как передача информации, но как процесс взаимопонимания, как диалог в платоновском смысле, что приобретает особое значение в контексте изучения эвфемизмов, которые рассматриваются нами как речевой акт; когнитивность же понимается как способность языка отражать (т.е. концептуализировать и категоризировать) мир, а также анализировать явления самого языка.
В современной прагмалингвистической литературе наравне с понятием «языковая личность» (в понимании В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова) присутствуют также «речевая личность» (термин Л.П. Клобуковой), уходящая корнями в соссюровскую дихотомию «язык — речь», и «коммуникативная личность» (в работах В.В. Красных), постулирующая базовой эпистемой (по М. Фуко) современного гуманитарного знания биологичность, которая обеспечивает активность субъектов в коммуникативном процессе. Для нас важно, что эти термины не входят в конфликт друг с другом, а являются, в нашем понимании, результатом видоизменения идеи «homo loguens» в развивающейся научной парадигме.
В настоящее время в лингвистике развивается и так называемое «интерактивное» направление, которое дополняет информационно-кодовую модель общения. Если главным положением информационно-кодовой модели был тезис о том, что основное в общении — это такая передача информации, которая обеспечивает понимание, то в интеракционной модели общения на первый план выдвигается принцип кооперации, взаимодействия. Это общение, традиция которого восходит к школе Платона: истина рождается в диалоге, говорящий не стремится навязать свое мнение другому, но, ставя себя на его место, расширяет таким образом свой взгляд на проблему. Вместо коммуникативных ролей говорящий/слушающий выдвигается новый (или хорошо забытый со времен Платона) принцип кооперации, который направлен на осуществление взаимодействия в процессе диалогического общения. При таком диалоге особенно важна взаимная заинтересованность обоих участников в успехе коммуникации и равномерное распределение ответственности за нее между говорящим и слушающим. Некоторыми учеными коммуникация вообще понимается не как функциональная шестикомпонентная модель Р. Якобсона «адресант-контекст-сообщение-код-адресат-контакт», а как неразделимая сущность «говоряще-слущающий»: если подходить к этой проблеме не механистически, то даже монолог всегда подразумевает присутствие Другого, если не вовне, то уж, по крайней мере, во внутреннем мире самого говорящего. В теории коммуникации в настоящее время принято считать, что без учета конвенций общения и вклада слушателя в этот процесс нельзя построить модель коммуникации, понять, как с помощью естественного языка люди понимают друг друга [Шляхов 2009].
Понятие эвфемии в лингвистике и в других областях знания
В лингвистической литературе, посвященной явлению эвфемии, на сегодняшний день используются три многозначных термина — эвфемизм, эвфемизация и эвфемия. Терминологи отмечают объективные факторы, приводящие к терминологической дисгармонии (к ним относятся вторичный семиозис, полиморфизм, амбисемия и эврисемия терминов, антиномия «лексисной» и «логосной» их составляющих, сфер функционирования и фиксации терминов), что, в свою очередь, ведет к десемантизации научной языковой системы (см. [Татаринов 2006: 230-240; Комарова 2009]. Поэтому необходимо внести терминологические уточнения. Под эвфемизмами мы понимаем слова и выражения, заменяющие грубые, резкие обозначения, которые представляются говорящему неуместными, не вполне вежливыми, и каузативной основой которых является стремление не обидеть, не задеть слушающего. В современной лингвистике развивается также коммуникативное понимание эвфемизма с соответствующей дефиницией: эвфемизм как речевой акт с установкой на уменьшение негативного эффекта наименования — это непрямое, «прикрытое» обозначение какого-то предмета или явления, называть которое его прямым именем в данной обстановке неудобно, неприлично, не принято1. Термин эвфемизация, в нашем понимании, имеет два омонимичных значения: это а) языковой инструмент создания эвфемизма, т.е. процесс вторичной номинации и б) процесс насыщения эвфемизмами речи. Эвфемией мы называем адаптивную речевую стратегию особого типа.
Принципиальным для исследования является то, что эти три понятия объединены в триаду. Причем основным понятием в этой триаде является эвфемия, два же других занимают подчиненное ей положение.
Эвфемия - это дискурсивно-когнитивный феномен, вид непрямой коммуникации, направленной на видоизменение представления адресата о мире с целью достижения (тем, кто применяет эту стратегию) того или иного перлокутивного эффекта. Эвфемия рассматривается также в сопоставлении с персуазивными речевыми практиками. Персуазивным воздействием на слушателя называется такое языковое убеждение, которое предусматривает изменение отношения адресата к предмету речи, и как результат - совершение адресатом действий в интересах адресанта [Баранов, Добровольский 2001].
Эвфемизация базируется на а) номинации и б) оценке, которые, как известно, являются наряду с предикацией основой речевой деятельности человека. В первом значении — языковой способ создания эвфемизма — эвфемизация опирается на номинацию и оценку. Во втором - на предикацию, что придает эвфемизации статус речевого, дискурсивного явления.
Прежде чем перейти к краткому обзору лингвистической литературы по теме исследования, скажем несколько слов о том, как трактуется эвфемия как явление и связанные с ней понятия в других областях знания. Затем нам необходимо будет по возможности более точно определить категориальный статус понятий эвфемизм, эвфемизация и эвфемия. Начнем же с краткого изложения сути изысканий по теории эвфемизмов.
Слово эвфемизм греческого происхождения и означает «благоречие». Как термин риторики оно было введено в обращение в начале 80-х годов XVI века английским писателем Джорджем Блаунтом. Как философский термин эвфемия означает душевное спокойствие, истинное блаженство (Демокрит) и насчитывает не одну тысячу лет. Как термин религии эвфемия означала священную тишину. Как юридический термин слово обозначало в Византии выдвигаемую народом вежливую просьбу к правителям.
Лингвистическое значение эвфемии коррелирует с эстетикой античности: является свойством, прежде всего, души, противополагается дурным поступкам и сквернословию, является результатом уединенного самосовершенствования и созерцания2.
Попытаемся представить в хронологическом порядке — с некоторой долей условности - периоды наибольшей активности в эвфемизации языка.
Самые древние эвфемизмы связаны с первобытным табу: тотемный страх перед явлениями природы породил многочисленные табу или запреты на произнесение имен определенного класса. Для человека всегда существовали неназываемые вещи в окружающем его мире: добыча, которая могла убежать, услышав свое имя из уст охотников, злые духи, нечисть и болезни, призываемые по поверию на голову произнесшего эти имена.
Вторая волна архаичной эвфемизации речи приходится на период язычества.
Следующую породила христианская этика уже со своей шкалой добра и зла и градацией запретов. Расцветом эвфемии здесь можно считать куртуазную культуру с ее стремлением к утонченности и отказом от телесного. Даже священные тексты Библии переписывались и редактировались (конгрегационалистами, квакерами, англиканцами и пр.) неоднократно в соответствии со «взглядами и духом изящного века».
Четвертым этапом в культурной эвфемизации можно назвать язык тоталитарных обществ с его идеологемами манипулятивного типа и «лингвистическим насилием» (см. Купина, Беляева).
Эвфемия и дисфемия как частный случай вариативности
Эвфемия и дисфемия - две стороны одной медали. Однако, как это часто бывает, определить положительное труднее, чем отрицательное. Поэтому применим апофатический метод и начнем с определения дисфемии.
Параллельно с эвфемизацией в языке идет процесс дисфемизации, т.е. огрубления речи. Часто эти явления исследователи рассматривают в неразрывной связи. Дисфемизмы — грубые слова и выражения, инвективы, основанные на гиперболизации отрицательного признака и/или преуменьшении степени положительного признака. Например, можно сказать: баба вместо женщина ; «...человек с заплаткой на мозгах убеждал нас, что перестройка — это благо» (Г. Зюганов о М. Горбачеве).
Дисфемия - стратегия нарочитого огрубления речи, повышения уровня агрессивности последней, когда при назывании предмета, явления или действия (т.е. денотата) выбирается более вульгарный, грубый (по сравнению с нейтральной номинацией) способ. В речевом акте дисфемизм способен переключать оценочный знак проблемной ситуации с нейтрального на минус, подчеркивая негативные эмоции говорящего. Например:
«Мы будем сопли жевать здесь годами? С 1999 года рассматриваются проекты. И ни хрена не происходит» (В.В. Путин на обсуждении с министрами проблем в лесопромышленном комплексе, март 2006 г.; Аргументы и факты, № 15, 2006 г.).
У Ф.М. Достоевского в «Селе Степанчикове» Фома Фомич воплощает стратегию дисфемии, прикрываясь высокими принципами:
Видели вы Фалалея?
-Видел, Фома...
- А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели. Можете полюбоваться на ваше произведение... в нравственном смысле. Поди сюда, идиот! поди сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся! Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением. - С намерением назвал я его голландской рожей, Павел Семеныч, - заметил он, развалясь в кресле и слегка поворотясь к сидевшему рядом Обноскину, -дай вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в каком случае. Правда должна быть правдой. А чем ни прикрывайте грязь, она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться, смягчать? себя и людей обманывать! Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий. Скажите -беру вас судьей, - находите вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное, возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?
Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым равнодушием. - В нем прекрасное? - отвечал Обноскин с какою-то нахальною небрежностью. - Мне каэюется, это просто порядочный кусок ростбифа - и ничего больше...
Множество дисфемизмов в адрес оппонентов обнаруживаются у В.И. Ленина. Среди них были и общепринятые, почти избитые "дурак", "сволочь", "гад", "мерзавец", "паразит". Но были у него и собственные творческие находки - "жалкий комок слизи", "помойная яма" или знаменитое "политическая проститутка". Однако считается, что самым талантливым и изобретательным ругателем был Лев Троцкий, внесший значительный вклад в сокровищницу колоритных русских выражений: "алкоголик, физиономия которого окружена ореолом из плевков и пощечин", "дрянная фигура из мусорного ящика человечества", "покрыт плевками общественного презрения" - все это лишь небольшая часть из его наследия (По материалам «НГ», 2000-02-20).
Специфика эвфемии как адаптивной стратегии, по нашему мнению, состоит в том, что она применяется в случае, когда говорящему на пути к достижению основной цели - видоизменению представлений адресата о мире -приходится уходить от отрицательных коннотаций, и, уменьшая риск коммуникативной неудачи, создавать собеседнику комфортные условия восприятия, применяя при этом языковые средства, которые размывают семантический контур денотата вплоть до подмены последнего. Эвфемия понимается нами как прагмалингвистическая категория, основным содержанием которой являются адаптивные стратегии представления говорящим (в своих интересах или в интересах определенной группы) внеязыковой действительности средствами иллокутивного смягчения, митигации1 и глорификации , служащие оптимизации речевого убеждения.
Другими словами, эвфемия - это стратегия адаптации мира к нашему представлению о нем в условиях, когда окружающий человека реальный мир оказывается агрессивным или слишком сложно организованным, непонятным, непредсказуемым, а значит, опасным. И проявляется она на разных лингво-социальных уровнях — от бытового до идеологического. Пример бытовой эвфемии: «Кто съел варенье? - Мамочка, я варенье не «съел», я только попробовал . Ну, пару ложек! (варенья осталось на дне банки) - Значит, ложка тебе о-очень большая попалась!» Здесь ребенок с помощью приема приуменьшения действия старается избежать выговора за отрицательно оцениваемый матерью поступок: денотат «съеденное варенье» подменяется денотатом «варенье, которое только попробовали», при этом ясно, что сам референт «почти пустая банка варенья» не меняется.