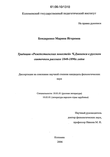Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Полемический контекст «духовной эстетики» «Маяка»
1. «Маяк» и русская литература (к вопросу о репутации журнала) 41-58
2. Духовная критика «западной эстетики» и «новейшего романтизма» 59-98
3. «Эстетическое» - «духовное» («художественное» - «поэтическое») в «духовной эсте/гике» «Маяка» 98-117
4. «Эстетика по-русски» против романтической эстетики Н.А. Полевого , 117 -140
5. «Духовная» полемика с «неистовым» Белинским: (парадоксы «духовной эстетики») 140-158
Примечания 158-170
Глава вторая. Поэтическая практика «Маяка» (литературы 40-х годов) и архетипы лермонтовской поэзии
1. СО. Бурачек и критика 1840-х годов о романтической поэзии Лермонтова 170-188
2. Поэзия в журнале «Маяк»: христоцентричные поиски в полемике с поэзией Лермонтова и «лермонтовским направлением» 188
2.1. Поэзия в «Маяке»: общие вопросы стиля 188-201
2.2. Духовные трансформации мотивов лермонтовской лирики 201-215
2.3. «Дума» Лермонтова: жанрово-тематические трансформации 215-235
3. Лермонтовская поэма и творческий диалог в русской поэзии 40-х годов 235-247
3.1. «Елена» Бернета и «Демон» Лермонтова: сюжетный и миросозерцательный диалог 247-259
3.2. «Богатырские сборы Ильи Муромца» А. Тимофеева и «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Лермонтова 259-269
4. Поэмы «Две судьбы» (А.Н. Майков) и «Разговор» (И.С. Тургенев) в зеркале «духовной эстетики» 269-287
Примечания 287-295
Глава третья. Опыт теории «русского романа» и «антипечоринская» проза «Маяка»
1. «Герой нашего времени» в оценке СО. Бурачека. Полемика с Ф.В. Булгариным 295-336
2. Типологические аспекты «антипечоринской» прозы «Маяка» 336-354
3. Альтернативный образ «героя времени» и жанровые архетипы романа: «Мечтатель» А.И. Иваницкого, «Свет и тень» П.А. Корсакова 354-373
4. «Герои нашего времени» СО. Бурачека как эксперимент «русского романа» 372-399
Примечания 394-399
Заключение (культурно-исторический смысл «духовной эстетики» «Маяка») 399-415
Примечания 415-416
Список сокращений -417
Библиография 418-455
- «Маяк» и русская литература (к вопросу о репутации журнала)
- Поэзия в «Маяке»: общие вопросы стиля
- «Богатырские сборы Ильи Муромца» А. Тимофеева и «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Лермонтова
- Альтернативный образ «героя времени» и жанровые архетипы романа: «Мечтатель» А.И. Иваницкого, «Свет и тень» П.А. Корсакова
«Маяк» и русская литература (к вопросу о репутации журнала)
Литературная эпоха 1840-х годов изучена достаточно обстоятельно, но что касается исследований общеэстетических проблем этого периода, то здесь ученые ограничивались, главным образом, идейно-эстетическим наследием Белинского. Это вполне закономерно. Исследование русской литературы 40-х годов невозможно без осмысления активного участия знаменитого критика в ее жизни. Позитивное восприятие литературно-критических статей Белинского, его определений искусства стало привычным; порой не допускается мысль о существовании альтернативных версий творчества Пушкина, Гоголя, Лермонтова; эстетических вопросов, порожденных сложным и поступательным движением литературы. Журнал «Маяк», ставший темой проведенного исследования, трудно отнести даже к малоизученным явлениям.
У современников «Маяк» пользовался скандальной репутацией «журнала-доносчика», утвердившейся за ним благодаря отчасти Белинскому, иносказательно назвавшего его статьи «юридическими» [1]. В развернувшейся жестокой борьбе «литературных партий» Белинский и не мог относиться к появлению такого издания, как «консервативный» «Маяк», по-другому. Критик решил сразу указать на «периферийный» статус издания, желая лишить его полноценного участия в жизни литературы. Белинский словно предвидел, что надолго установится парадоксальная связь между критическим отделом «Отечественных записок» (во главе с Белинским) и «Маяком» в лице его главного идеолога СО. Бурачека.
В рецензии на книгу Александрова (Н.А. Дуровой) «Ольга» (ОЗ. 1840. Т. 12. № 10) Белинский «Маяку» и его идеологам дал убийственную характеристику. Назвав Бурачека «Дзун-Кин-Дзыном» (что означало: «сукин сын»), он сообщал, что в лице только что появившегося журнала повеяло духом «заплесневелых китайских книг»: «... этот журнал... издается где-то, на маньчжурской границе, под названием «Плошка всемирного просвещения, вежливости и учтивства». Его признаки он определил, настаивая на «совершенном отсутствии всякого таланта» у издателей, акцентировав их «бездарность, пустоту, резонерство, задорный тон...» [Белинский, т. 3, 433]. Чуть позже в письме к В.П. Боткину он сообщал: «за Дзункинадзына» редакторы «Маяка» Корсаков и Бурачек «подали и напечатали» на «Отечественные записки» «донос, но, кажется, дело обошлось ничем» [Белинский, т. 9, 410]. Белинский намекал на полемическую статью Бурачека «Система философии «Отечественных записок» («Маяк». 1940. Ч. 9), не заслуживающую такого обвинения. Ответная реакция «Маяка» подтвердила; что его идеологи отнюдь не собираются довольствоваться пассивным участием в литературной жизни. Характерен пример с М.А.. Марковым (1810-1876) - автором «Повести о русской народности» (1843), где с возмущением говорилось о приемах рецензента «Отечественных записок», выписавшего из «Маяка» «место с пропусками слов», чтобы затем «вдоль посмеяться» над своими противниками. Вот как выглядел оригинал: «Смирим же свою неуместную гордость, отринем свою мнимую непогрешительность, сознаемся падшими человеками и, под таким назидательным уроком милующей десницы Промысла, раз и навсегда перестанем повторять вот хоть этакие порожние речи». В передаче рецензента «Отечественных записок» намеренно пропущены слова: сознаемся, десницы Промысла, вот хоть этакие, после чего следовал вывод: «Вот уж подлинно порожние речи! Как бы хорошо было, для чести здравого смысла и русской литературы, если бы они перестали повторяться» [2]. Эти аспекты полемики враждующих «партий», по всей видимости, носили болезненный характер, да так, что и «Маяк», и «Москвитянин» часто заостряли их [3].
Поэтому следует трезво относиться к оценкам «Маяка» в разных культурно-исторических контекстах, как правило, восходящим к «мнению» «Отечественных записок». Относительно полемических установок этого журнала современники лишены иллюзий. Как раз об «Отечественных записках» замечено, что журнал «отличается своею тонкою критикою», но критика эта не всегда беспристрастна: его рецензенты «хвалят своих сотрудников, прозаиков и стихотворцев», но «чужих бранят». И.Ф. Студитский, один из наиболее последовательных оппонентов «Отечественных записок» в стане «Москвитянина», напомнил: «Выписывая стихи довольно слабые из «Импровизатора» г. Кукольника, они («Отечественные записки») нападают на следующее, действительно странное выражение:
Бывало слова, будто утки плывут. Дело: мы за уток и не заступаемся... но в 0.3. напечатана с почетом баллада постоянного участника г. Струговщикова:
Дни за днями идут, словно гуси плывут. Спрашивается: почему 0.3. так строги к уткам г. Кукольника и так снисходительны к своим собственным гусям!» [4].
Относительно исторической роли «Маяка» в литературном контексте существуют, восходящие к 1840-м годам, два мнения, внешне антагонистические, но внутренне связанные друг с другом, - И.В. Киреевского и В.Г. Белинского. Журнал «Маяк» в этой связи послужил предметом долгого спора между оппонирующими друг другу критиками.
Киреевский в «Обозрении современного состояния литературы» («Москв.», 1845) поставил рядом и сопоставил полярные по мировоззрению «Отечественные записки» и «Маяк», обнаружив между ними парадоксальное типологическое сходство. Оно базируется, как чутко он отмечает, на том, что оба журнала «проникнуты своим резко определенным мнением и выражают каждый свое, одинаково решительное, хотя прямо одно другому противоположное направление». Оба журнала характеризуются им как «односторонние», одинаково склонные к «крайностям», но Киреевский в их противостоянии видит залог некоего равновесия, устойчивости в культурной жизни: в движении литературы «односторонность одного из этих» изданий «полезно уравновешивается противоположною односторонностию другого»; а постоянная полемика журналистов двух изданий свидетельствует об их «неразрывной связи» [Киреевский, 196-198].
Сходство между двумя органами, по мнению Киреевского, просматривается даже в их толковании творчества русских писателей. «Отечественные записки» с опорой на «современное мышление» Запада (имелось в виду влияние гегелевской школы) стараются «уменьшить литературную репутацию Державина, Карамзина, Жуковского, Баратынского, Языкова, Хомякова»; критики из «Маяка» также несправедливы к тем, кто «составляет славу нашей словесности» (в частности, к творчеству Пушкина). Таким образом, по мнению Киреевского, «крайности» литературной идеологии «Маяка и «Отечественных записок» позволяют ставить вопрос об их внутреннем единстве и неразрывной связи [Киреевский, 197, 198].
Статья Киреевского «Обозрение современного состояния литературы» открывала первой номер журнала «Москвитянин» за 1845 год. Думается, вполне справедливы намеки Киреевского на жизненную связь между «Отечественными записками» и «Маяком»: существование консервативного издания не «случайно», напротив, оно служит своего рода источником для полемического вдохновения Белинского. Пока «Маяк» активно участвовал в литературной жизни, ему удавалось отвести от «Москвитянина» и принять на себя основную силу антиславянофильской энергии Белинского; для «неистового» критика «Москвитянин» находился несколько в тени, он к нему не допускал и привычного в случае с «Маяком» тона. В 1846 году в «Москвитянине» в упомянутой статье И.Ф. Студитского, прямо направленной против «Отечественных записок», прозвучали слова о том, что отныне «Москвитянин» не станет «принимать во внимание ложные нападки» (то есть обвинения в доносительстве) оппонентов в лице сотрудников «Отечественных записок» и «будет строго, решительно судить, говорить правду» [5]. Таким образом, он от имени славянофильского журнала ручался так же активно отвечать нападкам Белинского, как это делали авторы из «Маяка».
В полемических репликах в адрес «Москвитянина» Белинский с той же последовательностью, как Киреевский, проводил аналогии между идеологией «Маяка» и славянофилов: « ... Многие славянофилы не любят вспоминать о «Маяке», как будто чуждаются его, никогда не высказывают свое мнение ни за, ни против него .. . «Маяк» был самым крайним и самым последовательным органом славянофильства .. , и если знаменитейших представителей русской литературы, от Ломоносова и Державина до Пушкина, он объявил зараженными западною ересью ... - он сделал это ... по строгой последовательности, строгой верности началу своего учения. В нем все было едино и цело ... и язык, и манера выражаться, и литературное и художественное достоинство его стихов и прозы. Он больше славянофил, чем «Москвитянин»...» [Белинский, т. 8, 294]. Белинский, бесспорно, прав, когда сопоставляет «Маяк» с «Москвитянином»: сходство между культурными и литературными стратегиями двух изданий не требует даже доказательств. Журнал Корсакова и Бурачека, появившийся на год раньше, чем «Москвитянин» (1941-1856), с момента его издания заявил о своей приверженности «русским началам». Постоянным мотивом публикаций «Маяка» является мысль о том, что источник «бесплодия нашего и в науках, и в искусстве, и в жизни, и в словесности» заключается в «уклонении от родных стихий русской народности и падении в стихии Запада» [6].
Поэзия в «Маяке»: общие вопросы стиля
В отечественной науке о поэзии XIX века удается найти единственный случай обращения к поэтическому творчеству авторов из «Маяка», в книге К. Чуковского «Мастерство Некрасова». В главе «Работа над фольклором» ученый привел несколько строк из стихотворений А. Градцева и П. Шарш, опубликованных в журнале в 1844 и 1845 годах и посвященных «мужицкой» теме, и оценил их как неудачные [26]. Между тем творчество поэтов (и писателей), объединившихся вокруг журнала, заслуживает пристального внимания. Без поэтических опытов, появившихся в «Маяке», картина литературной жизни 40-х годов предстает неполной. За кругом внимания остаются немаловажные для художественного становления эпохи закономерности.
Поэзия «Маяка» неоднородна. В нем, как и в любом другом издании того времени, встречаются талантливые стихотворения (написанные Глинкой, Хомяковым, Бенедиктовым, Щербиной, а также такими вообще не изученными поэтами, как П. Корсаков, Н. Тархов, В. Зотов, А. Глинка (жена Ф.Н. Глинки), И. Бороздна и др.), но, может быть, еще больше попадаются неудачные поэтические тексты. Особенно впечатляет творческая биография П. Корсакова. Автор оригинальной прозы и переводных стихотворений, а также литературно-критических статей, он был одним из самых почитаемых в кругу «консервативных» представителей русской литературы. Для многих единомышленников «Маяка» его поэзия служила образцом. С восторгом о его «Опытах нидерландской антологии» (1843) писал Шевырев, обративший внимание, в частности, на стихотворные переводы «Век поэтов» и «К новому Аристарху (сатира из Бильдердейка)». Если бы не авторитет Корсакова и не глубочайшее уважение к его личности, то Шевырев назвал бы эти сатиры мистификацией, настолько его поразило современное, злободневное звучание стихотворений
Интересно, что Корсаков поддержал установку «Москвитянина» на развитие и углубление принципов духовной поэзии, предложив ему оду «Бог. Сочинение М. Рейнфиса Фейта. Перевод с голландского», опубликованную в группе стихотворений: «Два века» Михаила Дмитриева, «К присланному мне распятию» М. Лихонина и «Три блага» некто N. [28].
Корсаков входил в круг общения Пушкина; когда возникли цензурные трудности в процессе издания «Капитанской дочки», Пушкин воспользовался поддержкой именно цензора Корсакова.
Корсаков, знавший восемь иностранных языков, гордился, что он первым в русской литературе познакомил читателей с нидерландской поэзией, чему он посвятил ряд работ: «Очерки голландской литературы», «Иоста Фандер Фандель» (эта книга об основателе голландского национального театра) и «Иаков Кате». Книга, посвященная нидерландскому поэту Якобу Кат-су (1577-1660), вышла отдельным изданием в 1839 году [29]. Классику голландской поэзии Катсу принадлежали такие произведения, как, «Борьба с самим собою, или сильные движения плоти и духа», «Брак», «Зеркало старины и новейшего времени», «Бумажные дети», «Старость, сельская жизнь и мысли о хозяйстве в Зоргфлите», автобиография «Восьмидесятилетняя жизнь»
Работа Корсакова отражает любовь русского переводчика и критика к творчеству великого голландца: «Имя Катса сливается с приятнейшими воспоминаниями моей молодости. Он был первый поэт в Голландии, заставивший меня ознакомиться с произведениями его соотечественников» [с. 7]. В ней содержались важные теоретические положения, помогающие глубже осознать своеобразие поэтического творчества поэтов-«маяковцев».
Кате известен как создатель «особого рода поэзии» - «иносказаний», точнее «любовных и умственных изображений». Темой своих поэтических произведений он избирает «какой-нибудь видимый предмет, по большей части ничтожный, и прямым, естественным образом переходит сперва к любви, а от нее к какой-либо высокой нравственной или религиозной мысли». Его произведения частью обращены к молодежи и заключают в себе своего рода «курс практической морали», но не разрушающей сущность поэзии. Кате не довольствуется только «поэзией», то есть приматом эстетического в творчестве: к каждому стихотворению он прибавляет «по одному латинскому или голландскому прозаическому отрывку», который «подкрепляется у него словами Библии и св. Отцев, а иногда цитатою из философов, историков, поэтов или ораторов древности и новейших времен» [с. 14].
В книге Корсакова исключительное внимание уделено философско-дидактической поэме Катса «Брак». Сюжет поэмы строится на рассказе о ходе брачного состояния, на уровне внешней композиции делится на «разряды»: Дева, Возлюбленная, Невеста, Жена, Мать и Вдова. «Брак» оценивается Корсаковым как высочайший «образец ума, чувства, мысли и необыкновенного дарования». Моральные «выводы» Катса не умозрительны, они опираются на житейский опыт человечества - «дышат библейским величием и евангельскою простотою. В них открывается душа поэта, взлелеянного христианскими истинами, столь близкими сердцу каждого человека». Поэтические сравнения Катса «многообразны, как Природа, из которой он почерпает свои заманчивые иносказания»; русский критик называет голландского классика «пламенным поэтом», «христианским философом» [с. 55], поэтом, наделенным «христианским вдохновением» [с. 119]. Катсу дано «облечь и сухую дидактику в грациозные формы», подчиненные простоте и естественности звучания слова. Содержание и форма поэтических опытов Катса показались русскому критику оригинальными и самобытными. Поэт представляет свои думы в виде «игрушек воображения», доступных «всем и каждому» в качестве «азбуки житейской нравственности» [с. 87]. Особенно запоминаются следующие слова, приведенные Корсаковым со ссылкой на голландского поэта: «Что есть человек? Свеча, поставленная под Богом» [с. 85].
В статье Корсакова Кате предстает Поэтом («который с вершины гражданских почестей добровольно сошел на смиренную чреду вертограда»), мыслителем («как из рога изобилия рассыпал такую бездну высоких мыслей, облеченных в формы») и «мужем совета» (преподававшим «столько спасительных правил и наставлений») [с. 120].
На страницах «Маяка» в разное время печатаются стихотворные переводы Корсакова, по праву принадлежащие к безусловным достижениям русской переводной поэзии и впоследствии вошедшие в его «Опыты нидерландской антологии»: «Две Катсовы думы», «Нидерландские гезы», «Две думы Бильдердейка», «К дитяти», «Хлоя», «Спасенная дева», «Два новых сонета» и другие. Творчество одаренного поэта, прозаика, критика заслуживает отдельного исследования. Приведем только одно стихотворение («С голландского»), свидетельствующее о его поэтической зрелости
Стихотворение это наглядно характеризует особенности поэтического стиля авторов «Маяка», по большей части критически относившихся к «выспренности» романтической лирики, особенно ее массовой разновидности; и поэтике «натуральной школы» с ее склонностью к «фактографическому» изображению. У того же Корсакова встречается стихотворение «Пчела в цветке» (Маяк, 1840, ч. 1.), где сильно ощущается влияние поэтических опытов Катса. Корсаков останавливает свое внимание на безудержной «жажде жизни» пчелы, при этом органически сочетая «учительский» тон с созданием конкретно-предметных образов (таких, как «почка», «жало», «шелест крылышек», «чашечка цветная», «росинка ароматная»)
Приведенный пример отнюдь не образец невинной, бессознательной поэтической игры. Для Катса, как можно судить по суждениям Корсакова, тип поэтического миросозерцания непосредственно связан с духовным опытом писателя. Наивысшее воплощение предметных явлений в искусстве происходит на путях религиозно-духовного созерцания. Этот урок голландского классика, вошедшего в литературную жизнь России благодаря Корсакову, очень высоко ценили поэты из журнала «Маяк».
Талантливое стихотворение под названием «Цветок», на этот раз уже Шевцова, одного из постоянных сотрудников «Маяка» (хотя оно и опубликовано в четвертом номере «Сына отечества» за 1842 год), показывает, как найденные Корсаковым особенности поэзии Катса находили в лирике «Маяка» достойное воплощение. Шевцов сделал предметом изображения необычайно простое явление - цветок, избегая каких-либо символических толкований образа, до конца сохраняя его предметность. Эпитеты, используеме им, словно бы взяты из естественной, повседневной речи; они не претендуют на оригинальность, яркость. В стихотворении заметен только «констатирующий» голос поэтического «я», видна его наблюдательность, но в нем как бы отсутствует «субъективное» и «рефлексирующее» начала
«Богатырские сборы Ильи Муромца» А. Тимофеева и «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Лермонтова
«Богатырские сборы Ильи Муромца» вышли в 1843 году [101]. Автором поэмы является А.В. Тимофеев (1812-1883). Сотрудничество поэта с «Маяком» началось в 1843 году. В этом году в журнале опубликованы его стихотворения («Не страшно умереть», «Время», «Жажда покоя», «К поэту»), написанные в жанре, очень близком философской лирике Шевырева.
На полемичность «Богатырских сборов Ильи Муромца» впервые указал рецензент «Журнала Министерства...». Было отмечено, что главное содержание поэмы А. Тимофеева составляет «борьба христианства с язычеством». Рецензент высоко отозвался о «русской простонародной речи» произведения, подчеркнув мимоходом, что ближайшим полемическим предшественником «Богатырских сборов Ильи Муромца» можно считать «Песню...» Лермонтова [102]. В поэме А. Тимофеева нет прямых ссылок на лермонтовскую поэму, но «Богатырские сборы...» и «Песня про царя Ивана Васильевича...» сопоставимы с точки зрения понимания авторами принципа историзма, в контексте художественного изображения исторического прошлого.
А. Тимофеев талантливый поэт, хотя и с противоречивой репутацией. Будучи идеологическим противником «Отечественных записок», он в основном сотрудничал с журналом «Библиотека для чтения». Имя поэта обычно упоминается рядом с именами Бенедиктова, Кукольника. Считается, что поэзия А. Тимофеева функционировала в качестве массовой разновидности так называемой «поэзии мысли», в свою очередь, проникавшей в низовую литературу «вульгарного романтизма», отвечающего читательским интересам «николаевского мещанства и чиновничества» [103]. Утверждение парадоксальное, если учесть, что тот же официальный «Журнал Министерства...» отнюдь не в панегирическом тоне писал о поэзии Тимофеева. По поводу его стихотворений, опубликованных в «Библиотеке для чтения» в 1839 году, сказано: «Прискорбно видеть, что прекрасное дарование А. Тимофеева часто переходит за пределы, предписываемые эстетикой и очищенным вкусом» [104]. Непонятно и то, каким образом могут быть соотнесены парадигмы так называемого «вульгарного романтизма» и идейно-художественный состав «Богатырских сборов...», драматической поэмы, которая если и не принадлежит к «вершинным» явлениям поэзии 40-х годов, то уж точно не вписывается в представления о «низовой» литературе.
Поэма А. Тимофеева во внешнем композиционном плане состоит из четырех «явлений», замкнута на воспроизведении диалогов в «крестьянской избе». Участники диалогов - Илья, Марья Савишна, его мать, «калики» и отец Ильи - Иван Тимофеевич. Сюжет поэмы отнесен к истории Древней Руси, ко времени княжества Владимира («Красного Солнышка»), повернувшего Русь в сторону Христианства (Православия); смысл деятельности киевского князя отмечен его решительным неприятием «язычества», «страшных идолов», грозящих основам православной веры.
Внутренняя композиция «Богатырских сборов...» имеет трехчленную структуру, с одной стороны восходящую к поэтике народного былинного творчества, а с другой, по всей видимости, - к христианскому символу Троичности. Так, в первой части трижды к Илье, обреченному вот уже тридцать лет на бездействие, обращается Марья Савишна. Здесь автор использует прием усиления. В начале она с горечью произносит слова о том, что ее сын, «мило детище», «ясный сокол», тридцать лет сидит, «не вставаючи»:
А и Господи наш, Православный Бог!
Уж о чем-то тебе, мило детище,
Уж про что-то тебе стать и радоваться!
Как и мы, старики, на тебя смотря,
Стары очи свои все расплакали! Скоро борода «через грудь пойдет», а грудь «как широкая река раскинулась», и «сверстники все вон из глаз ушли», - говорит Марья Савишна,
- А ты все-то сидишь, ясный сокол мой; Нет ни рук, нет ни ног, - не дает Господь! Бог наградил семейство «добром и богачеством», «всякой всячиной», но все эти преимущества не доставляют радости, ведь ее «чадо милое» лишено возможности «на добро на свое нагулятися», «про богатство свое похвалитися».
Вторая часть ее диалога с сыном построена на мысли о том, что ее мольбы, «слезы горькие» не доходят до Бога: «Не угодны-то мы Православному!» Старушка «думает» и никак «не надумается»: чем же они с мужем «провинилися» перед Богом; чем они его «на своем веку так разгневали». Третья часть ее монолога, большая по объему, расширяет и углубляет мотив «жалобы». Смысл ее речи в том, что отец семейства был и остается верующим православным. Он одним из первых начинает бороться против «старинных богов», «древних идолов». Теперь же времена словно бы возвращаются назад: поднимаются «древние боги», руководимые «могучим Соловьем», на «Русь ополчаются». Люди кругом, будто предвидя бунт «язычников», служат двум богам. Многие из них «в яве Богу истинному поклоняются», а тайно -держатся «старины еще». Появляется «искушение» слиться с «двойственной» верой всех:
Говорили уж мне люди старые, Худо сделал Иван Тимофеевич, Что всех древних богов перевел он здесь, Заповедный их лес сам повырубил. А и можно бы нам, как в других местах, Православному-то поклониться, Да и их стариков не замать бы стат!.. Заключительная часть третьего монолога Марьи Савишны возвращает читателя в круг ее «жалобных слов», отраженных в первом монологе:
Как другие отцы, поглядишь кругом, На своих на детей не нарадуются, Благодатью своей не нахвалятся; Дал един Господ Бог нам детище, Да и тем не дает нам порадоваться! Дожили мы, старики, до преклонных лет, Нет у нас, стариков, ни помощника, Нет у нас, стариков, ни приспешника, Словно мы сироты век свой маимся. Трижды парирует «жалобы» матери Илья, отсылая ее первый раз к «воле Божьей»: «Осударыня ты, моя матушка! / Видно мне молодцу уж талан таков, / Видно так на роду мне написано!». Второй раз он настаивает, чтобы «милая матушка» не «пытала Божьих дел», не входила в суд с «вышней волей»; третий раз, по мере того, как возрастает нота ропота в словах матери, Илья, изображенный как последовательный сторонник Православия, остерегает от соблазна «гневить» Бога: «Осударыня ты, милая матушка! / Полно Бога еще гневить ты великого! / Полно всяких людей тебе слушать...»
Трижды сам Илья подходит к порогу «искушения», когда стремится толковать приснившийся ему сон. Герой убежден, что «испытание», посланное ему Богом, не лишено высшего смысла. Бог его к «чему-нибудь да сберегает». Илья готов с честью выполнить «свой обет», совпадающий в этом случае с его «сердечным желаньем». Он верен служению «великому Богу» «верой, правдой, животом своим»; полон жажды очистить Русь от «древних богов, глупых идолищей»; готов померяться силой с самим «Соловьем, злым разбойником», преграждающим православным путь к «славному Киев-граду». Далее Илья вспоминает пришедшее ему ночью «видение». Оно повторяется третий раз. Все три части внутреннего монолога начинаются строкой: «Третью ночь, все одно видение». Ему видится, что стая журавлей перед его избой опустилась на землю, указывая ему вдаль:
Высунул я в окно буйну голову, Поглядел будто, нет уж села, и избы нашей нет; А где же было село, - непроходной бор. И я сам уж стою в збруе ратной вес, А и возле меня богатырский конь.
Видение переносит Илью в «Киев-град», где его встречает князь с боярами, «с богатырями могучими» и сажает на почетное место. Вторая часть монолога переносит мотив видение в более «низкий» план. Ему кажется, что это «лживый сон»; колдовские силы «завораживают» богатыря. Однако сомнение мимолетно. Дальнейшие внутренние размышления «снимают» сомнения Ильи, возвращают героя к исходной позиции: «А и буди во всем воля Божия».
Трижды «толпа ребятишек» возвещает о приближении «калик перехожих» [105], песня коих исполнена в русле фольклорного песенного творчества - форма, отразившаяся и в лермонтовской поэме: Не багряная заря в поднебесий, Не румяная-то занимается; Не златая гора над Днепром рекой, Не серебреная то воздымается...
Песня калик подтверждает вещий характер сна Ильи. Она сообщает о том, что рядом с князем много богатырей. Тут и Добрыня («матерый богатырь из Новгорода»), и Александр («золота гривна»), и Рахдай («слава русская»), Ян Усмошевич («печенегов гроза») - всего их тридцать «молодцов». Только одно место рядом с князем еще «не занято». В появлении калик Илья видит знамение, чувствует, что они - Божьи посланники. Он просит Бога, чтобы воля, данная ему, не была «в посрамление», чтобы он не «послужил духу темному».
Альтернативный образ «героя времени» и жанровые архетипы романа: «Мечтатель» А.И. Иваницкого, «Свет и тень» П.А. Корсакова
Во всех приведенных выше примерах художественной прозы «Маяка» антиромантические и «антипечоринские» тенденции не поднимаются до стилевого мировоззрения, идейно-художественной целостности. Энергия противостояния романтизму и «печоринству» так велика, что авторы, сами того не желая, попадают от них в обратную зависимость - тратят много сил на их де-сакрализацию, «обытовлению». Процесс демифологизации и дегероизации романтического героя подготавливал почву для утверждения принципиально иных стилевых традиций в изображении персонажа, но сами эти произведения в целом не выходили за рамки авторского монологического видения мира. Позиция «обвинения», пусть даже от имени безусловного авторитета (традиция, вера, Бог), - лишает писателей именно творческой свободы, сводит их художественный азарт к «разоблачению» ненавидимого им героя; одновременно, выступая от имени «авторитетов», они невольно принимают на себя функцию «резонера», который будто заботится о необходимости непрямого высказывания и косвенного изображения. Художественно-стилевые приемы «духовного направления» в прозе, впоследствии ставшие органичными для русских писателей (в первую очередь, для Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского), рождались и утверждались трудно, ценой не только завоеваний.
Правда, оправданием здесь может служить то, что прозаики «Маяка» находились словно бы в зоне «пограничного» противостояния романтизму и Лермонтову, включая их противостояние тенденциям «неистовой» словесности, а также «физиологическому» очерку 40-х годов. С этой точки зрения в полемической прозе «Маяка» слишком много переплелось; ее полемический заряд, слишком разнонаправленный, затруднял создание художественно целостного произведения. Проза эта озабочена «собиранием» разнородного (преимущественно «духовного») материала жизни, ускользнувшего от внимания и романтизма, и «натуральной школы». Обстоятельство, позволяющее с пониманием относиться к их литературным опытам.
В «Маяке» параллельно функционировали тенденции прозы, претендующие на создание мировоззренчески активного стиля, подразумевающие более свободное, пусть даже ироническое, отношение к «роковой» судьбе и «недугу» романтического героя, к различным проявлениям «печоринства», На этом пути сказалась ориентация на архаичные (точнее архетипические) структуры романного жанра. Так, в «Маяке» параллельно появляются повести, сопоставимые с архетипами романа испытания и романа воспитания («Туринские супруги» В.И. Беркова, «Как иногда женятся» О.М. Бодянского (1808-1877) , «Мертвецы» П. Пискарева, «Девица Фаншета и вздорные книги» некоего М. С-кий, «Новый Недоросль» С. Навроцкого, «Голос за родное», «Два призрака» Ф. Фан-Дима). Нет ничего удивительного в том, что процесс создания нового типа романа, именно «русского романа» в журнале «Маяк» остался незавершенным. В 1840-е годы еще только складываются черты русского классического романа. Зато в художественных опытах авторов «Маяка» заметно предчувствие, пунктирное изображение пластов русской действительности, характеров и типов, обещающих в будущем составить органическую часть русского реалистического романа. Большой интерес представляют произведения С.Н. Навроцкого и Ф. Фан-Дима.
С.Н. Навроцкий (1808-1865) создавал свои произведения под псевдонимом С. Москворецкий. Его активная литературная деятельность продолжалась с 1840 по 1843 годы в журнале «Маяк». Комедия «Новый Недоросль», опубликованная в «Маяке» (1840), воссоздавала знакомые читателям по комедии Фонвизина «Недоросль» персонажи. Основные герои комедии Навроцкого - это Простакова, страдающая недостатком религиозного образования; Митрофан, представляющий молодое поколение, воспитанное на книгах для «легкого чтения». Автор создает под именем Кутейкин пародийный образ Белинского, выступающего в произведении апологетом немецкой философии. Параллельно появляются образы-антиподы: Правдина - самого отрадного, по мнению автора, явления в русской действительности, человека религиозного, искренне любящего свое отечество; и Софьи, олицетворяющей добродетель и черты аскетической нравственности.
Белинский в статье «Русский театр в Петербурге» (03, 1840, № 10) отрицательно отозвался о «Новом Недоросле», что послужило причиной «Литературного объяснения» Навроцкого (СП, 1840, 29 окт.), где он написал о том, что «один из Кутейкиных (то есть Белинский) откликнулся». Позже в «Письме деревенского читателя журналов к издателям «Северной пчелы» (СП, 1841, 10 февр.) Навроцкий в драматической форме высмеял литературное направление и стиль «Отечественных записок», продемонстрировав блестящее умение сильного и прямого полемиста. В повести «Испытание солдатскому сердцу» (Маяк, 1842) Навроцкий с еще большей последовательностью отстоял тему истинного, православного благочестия, идею необходимости религиозного воспитания.
Романы Фан-Дима [50] «Голос за родное» («Маяк», 1841) и «Два призрака» («Маяк», 1842) также направлены против печоринства и романов для «легкого чтения». Фан-Дим - это псевдоним Е.В. Кологривовой (Поповой), известной в русской литературе 40-х годов прежде всего как автор талантливого перевода на русский язык «Ада» из «Божественной комедии» Данте (1843).
В 1843 году романы «Голос за родное» и «Два призрака» были объединены и изданы отдельной книгой в Санкт-Петербурге. Известен отзыв «Отечественных записок» на произведения писательницы. Рецензент подчеркнул, что Фан-Дим является одним из авторов «Маяка», что и предопределило характер оценки ее созданий: «Книга не то, чтоб уж чересчур нелепо, да и не то, чтобы и очень отличалась смыслом... крайняя ограниченность взгляда и чрезвычайная бездарность выполнения» [51]. В этих словах поражает нелепость обвинений автору в бездарности и, главное, отсутствие даже малейшего желания оценить книгу романов объективно.
По форме оставаясь традиционными, будучи даже несколько растянутыми, «Голос за родное» и «Два призрака» отличались новаторством содержания, созданием противоречивого образа русской девушки и критическим отношением к печоринствующему герою.
Особенно удачен роман «Два призрака», где, впрочем, рядом с увлекательной, живой речью автора и героев, талантливым описанием живого чувства и пылкого воображения молодой светской девушки много такого (произвольные разговоры о литературе, о светской жизни, о театре, о Шекспире, о Байроне, о Шиллере), что, безусловно, снижает художественные достоинства повествования. Но новаторством отличается канва, ставшая основой изображения жизни молодой светской девушки - «жертвы семейных отношений и своей преданности» идеалу «неистовства». Главную героиню зовут Агата. Она обрекает себя на то, что чтобы разыгрывать роль «глупенькой красавицы» в свете, а между тем в то же время пишет самые «пылкие письма предмету своей страсти». Все существо ее раздвоено - одна сторона души страдает от условий семьи и общества, другая — эмансипируется, тайно освобождается от оков светских и семейных условностей. Героиня уходит в грезы своей фантазии. В образе Агаты автор дает иллюстрацию русской жизни, находящейся на стадии нового - «европейского периода ее бытия». Отсюда раздвоение - между бытом внешней, «фальшивой» действительности, «созданной подражанием»; и между миром фантазии - «произведением тоже подражания новым явлениям западной жизни». Автор противопоставляет Агату мужским образам. Русская женщина выше русского мужчины, хотя ее нынешнее положение идеально. Если женщина Запада открыто свергает с себя узы семейные и общественные, то в русском обществе такое освобождение совершается в мире воображения, оптическим обманом («мороком»).
Образы Владимира Марлина (намек на Марлинского) и Смельского -отражали два варианта печоринства. Марлин обрисован «простаком», с восторженными порывами; Смельский - с виду скептик, прикрывающий сомнения свои натянутыми остротами; он внутри пустой добряк, способный разве только на то, чтобы стать «сельским добрым мужем». Образ Смельского в зародыше содержит важнейшие элементы, привлекавшие позже внимание Писемского («Тюфяк») и Салтыкова-Щедрина («Талантливые натуры»).
Для более полного анализа в настоящей работе выбраны повести А.И. Иваницкого (1812-1850) «Мечтатель» и П.А. Корсакова «Свет и тень», как наиболее концептуально отразившие идеи «духовной эстетики» и «русского романа» журнала «Маяк».
А. Иваницкий принадлежит к центральным фигурам-прозаикам в журнале «Маяк». В разное время им публиккются повести «Мечтатель», «Сыновняя обязанность» и «Восток и Запад». Проза этого писателя представляет большой интерес для понимания идейных и художественных тенденций «антилермонтовской» литературы «Маяка». Его повесть «Мечтатель» [52], опубликованная в 1840 году, является ранней полемической реакций на роман «Герой нашего времени». Иваницкий, сохраняя привычные рамки «светской повести», переносит изображение в провинциальное общество. «Мечтатель» полностью вписывается в жанровую систему светской повести 30-40-х годов, но при этом отличается воспроизведением «архаичной» модели противостояния героя и светского общества. Одновременно повесть Иваницкого явно ориентирована на идеи «русской эстетики» «Маяка».