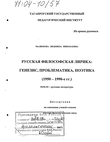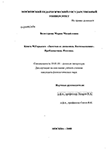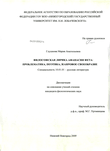Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ТВОРИМОЙ ЛЕГЕНДЫ». ПРОБЛЕМЫ «РАМОК» КАК КОМПОЗИЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА
1. Заглавие и его функции в тексте «Творимой легенды» 23
2. Формулы «начал» как делимитаторы и интеграторы текста «Творимой легенды» 27
3. Своеобразие и назначение «концов» в трилогии Ф. Сологуба 42
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ «ТВОРИМОЙ ЛЕГЕНДЫ». ОСНОВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕДИНСТВУ И ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕКСТА РОМАНА-ТРИЛОГИИ 47
1. Контрапункт как формообразующий принцип «Творимой легенды» 51
2. Особенности персонажной организации «Творимой легенды». Со- и противопоставления как основной приём «сцепления» различных фрагментов текста трилогии 79
3. Структурообразующая функция символики пространства и цвета 1<}1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 149
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 157
ПРИЛОЖЕНИЯ 170
- Заглавие и его функции в тексте «Творимой легенды»
- Формулы «начал» как делимитаторы и интеграторы текста «Творимой легенды»
- Контрапункт как формообразующий принцип «Творимой легенды»
Введение к работе
В сегодняшней духовной атмосфере общества, много лет назад отвергнувшего элитарно-замкнутое искусство, «искусство для художников, а не для масс» (Х.Ортега-и-Гассет), остро ощутима нехватка уникального, некоего высшего авторитета от культуры, интеллектуального и эстетического образца. В поисках его современные литературоведы обращаются к авторам и произведениям, долгое время считавшимся отлученными от широкой публики или ею не воспринятым. Множатся ряды незаслуженно забытых и «возвращенных» писателей.
Ф. Сологуб (1863-1927) не относится к числу клопштоков, почитаемых реликвий, преклонение перед которыми передается из поколения в поколение по наследству и поддерживается отрывками в школьных хрестоматиях с обстоятельной биографией перед текстом. Его имя и сейчас нередко вспоминают по инерции, говоря о поэзии Серебряного века. Апелляция к « одинокому, многодумному и загадочному Федору Сологубу» (155.53) становится демонстрацией утонченного вкуса.
Обострившийся в наши дни интерес российских и зарубежных ученых к литературному наследию рубежа Х1Х-ХХ веков, в силу его недостаточной изученности, так или иначе актуализировал и внимание к творчеству Ф.Сологуба. Анализ его произведений явился темой многих исследований. Однако все работы, посвященные феномену зрелой сологубовской прозы, выглядят некими подступами к изучению фундаментального вопроса о специфике ее проблематики и поэтики. Применительно к центральному произведению Ф.Сологуба, роману-трилогии «Творимая легенда» (1907-1912), данная проблема в том объеме и в том контексте, которые предлагаются нами, ранее не рассматривалась.
Актуальность темы нашей работы определяется двумя обстоятельствами.
Во-первых, постепенно претерпевает изменение литературная репутация Ф. Сологуба. Плодотворное развитие научных исследований стимулируется сменой читательской ориентации. Как отмечает В.Е.Хализев, «на протяжении последних десятилетий заметно повысились репутации писателей, запечатлевающих бытие как дисгармоничное и склонных к универсализации трагизма, к скептицизму и пессимистическим, безысходно-мрачным умонастроениям» (314.138). Стал более читаем и тот, у кого, по меткому замечанию К. Чуковского, «всегда отчаянье, боль, последняя мука рождает ... мечты» (330.73) . Критик А.Горнфельд, считая, что «история культуры, история душевной жизни не обойдется без его (Сологуба. - М. Л.) книг, без его личности», как самое ценное в творчестве художника
2 выделяет то «страшное... безотрадное, отталкивающее и страдальческое» (96.62), что есть в сологубовском «облике».
Загадочным казался современникам сам образ поэта. «Сологуба считали колдуном и садистом»,- вспоминала Н. Тэффи (299.87). Поэт-символист А.Белый признавался: «Мне казалось порой: он какой-то буддийский монах, с Гималаев, взирающий и равнодушно и сухо на наши дела, как на блошкин трепых» (55.484). Столь же загадочным представлялось и творчество этого «странного человека» (Тэффи). Вот только несколько высказываний на эту тему: «Магия какая-то в каждой вещи Сологуба, даже в более слабой» (89.95); «Впрочем, целиком-то мы и вообще не знаем его: так он еще загадочен и темен для нас - этот наиболее загадочный из современных писателей» (103.120). Не случайно много рецензировавший Сологуба А. Измайлов, возведя художника на «Литературный Олимп», использовал, однако, для характеристики писателя античный иррациональный образ-символ: «Северный Сфинкс» (так названа одна из его статей). Но Сологуба любили за его умение «задавать вопросы». Философ Л.Шестов, разделивший с Ф.Сологубом судьбу писателей «для немногих» (Измайлов), видел в своем собрате по перу и по участи избранника божьего: «Сологуб-оракул. Его проза не реализм, а одуряющие пары, его поэзия, как ответы Пифии - вечная и мучительная загадка» (336.71). Этой особенностью творений мастера другой критик В. Боцяновский объяснил сложность в понимании произведений Сологуба. «Трудно, да и пожалуй, и вовсе невозможно назвать во всей нашей литературе писателя более оригинального и загадочного, как Федор Сологуб... Каждая новая повесть его, каждый новый роман, всегда очень похожий на старый и тесно связанный со всем предшествующим, до такой степени ошеломлял, что многие прямо отказывались не только понимать, но и толковать этого столь непохожего на других автора» (64.142).Современники Сологуба совершенно справедливо подчеркивали, что творчество писателя не может вместиться в одну какую-либо формулу (103.123). И потому сколько бы ни предлагалось трактовок сологубовских произведений, анализ их, связанный со сложностью художественного освоения самого предмета исследования, во многих своих аспектах будет нуждаться в дальнейшей проработке. Сам писатель, видя в своем читателе прежде всего соучастника в размышлениях, прозрениях о мире, времени, человеке, настаивал на свободе в прочтении своих творений. По мнению мастера, «единственный комментатор писателя - его читатель» (129.261). Свободный от диктата авторских толкований, реципиент (если пользоваться современной терминологией) сам творит миры понимания. Безусловно, в этом случае процесс смыслопорождения детерминируется духовным потенциалом воспринимающего субъекта, его целями, жизненными ориентирами и т.д., но, как утверждает сам Сологуб, «это ничего, что один поймет так, другой поймет иначе. В этом и сила, и смысл творчества» з (129.262). Энигматизм как характерное свойство сологубовских произведений и обеспечил им защиту от попадания в «вакуум» понимания. «Художественное произведение, до дна истолкованное, до глубины разъясненное, немедленно умирает; жить дальше ему нечем и незачем», - утверждает автор «Творимой легенды» (13.835). Произведения Сологуба потому и не прекратили своего бытия как явления искусства, что не могут быть поняты «раз и навсегда». Последнее, в свою очередь, обусловлено и их собственной уникальностью, и их принадлежностью к символистским текстам. Многомерность образов, апелляция автора к человеческой фантазии, интуиции и интеллектуализм, шарм и изощренность формы, оригинальность мотивов - все эти «родовые качества» символистских произведений (158.5),к кругу которых относятся и творения Сологуба, сделали искусство символизма бесценным наследием. Подвергнувшись переоценке в последние десятилетия XX века, оно вновь стало актуальным. И творчество Сологуба, независимо от существующих интерпретаций, будучи по природе своей тайнописью -мира и души автора, долго еще будет требовать к себе внимания со стороны всех, кто хочет постигнуть не только тайны писателя, но и художественную ипостась духовной жизни эпохи, вошедшей в историю под названием русского религиозно-культурного ренессанса. По признанию современного исследователя, Сологуб дополняет картину этой эпохи «естественно и гармонично» (215.199).
Во-вторых, актуальность нашей работы поддерживается назревшей необходимостью восстановить своего рода историческую справедливость. Особенности идиостиля писателя и многочисленные критические разборы создали определенный стереотип представлений о творчестве Сологуба: однотипность тематики («певец смерти»), однотонность используемьк поэтических средств, однообразие приемов. И это при том, что сама личность художника и его творения получили в отзывах современников самые противоречивые оценки - от восторженных до иронических. « ... В глазах утонченников модернистов, в оценке, например, « Весов», где он всегда был почетным и желанным гостем, - Сологуб отец русского модернизма, тонкий и изящный писатель, явно нащупывающий новые пути в искусстве, редкий стилист, достигающий исключительных красот, русский Бодлэр и т. д., -для других это поэт извращенник, «страшная, вывихнутая, исковерканная душа», - так описал ситуацию, сложившуюся вокруг имени Сологуба в начале века, один из известных критиков тех лет А. Измайлов (134.268). Между двумя крайностями, которые он констатировал, располагаются все остальные оценки.
Начав писать «одновременно с Чеховым» (64.143) , Сологуб приобрел популярность лишь в середине 1900-х годов. «Не будь Сологуб так талантлив, как он есть, мимо его произведений прошли бы, не обратив внимания. Его романы и рассказы очень легко назвать «ерундой», кривляньем или даже бредом больного. Так многие и поступали. Но Сологуб талантлив», - утверждал критик (64.143) . Что Сологуб - «без сомнения сильный художник» (87.113) ,вынуждены были признать и те, кто не смог расшифровать иконографические референции «заумного» сологубовского текста. Никогда не льстя читателю, не стремясь добиться быстрого и громкого успеха, этот в прошлом провинциальный учитель математики сумел стать фигурой «первого ранга» в русском символизме. Его место поистине «узкое, но высокое» (123.32). Несмотря на то, что в 1908-1910-х годах Сологуб, наряду с Андреевым, Куприным и Горьким, вошел в четверку «наиболее знаменитых писателей» (55.488), канонизация не состоялась: Сологуб не стал литературным святым, как тот же М. Горький. В отличие от Андреева, снискавшего репутацию «властителя дум», Сологуб был « слишком интимный, слишком индивидуальный поэт, чтобы занять своим именем десятилетие, создать эпоху, школу ...» (123.32). Причина отсутствия окаменелой славы, как явствует из отзыва современника писателя, одна: Сологуб никогда не был артистом, исполняющим арию большинства.
И потому, не приняв революции 1917 года, он не смог адаптироваться на Сумасшедшем Корабле (метафора О.Форш) новой, постреволюционной жизни. Сологуб предпочел «медленно, мучительно разлагаться в сообществе маститых и «бессмертных», заполняющих мертвецкую буржуазной идеологии», а не, «овладев резцом исторического материализма, гранить свой череп и черепа современников...»(347.173) .Его камерное, келейное творчество в эпоху «глубинной запашки жизни» было неактуально. По признанию Иванова-Разумника, «Сологуб, как писатель, совершенно забыт в СССР, точно его и не было («Вот - и памяти уж нет!») ; он заслонен десятками калифов на час, память о которых погибнет без шума как раз тогда, когда вновь воскреснет имя Федора Сологуба» (122.324). Слова критика оказались пророческими: конец XX века ознаменовался многочисленными публикациями и самих произведений мастера, и разнообразной литературы (мемуарной, критической) о нем. Время все расставило по своим местам, и то, что казалось незначительным, слабым, странным, искусственным критикам писателя в начале и середине века, сегодня получает совершенно иное толкование.
Последние десятилетия принесли яркие и весьма любопытные вариации критического восприятия произведений Ф.Сологуба. Его творчество становится предметом анализа в книгах и статьях (Х.Барана, D. Greene, С.П.Ильева, В.А.Келдыша, Л.А.Колобаевой, С.В.Ломтева, S.J.Rabinowitz, Г.Селегень, Ul.Schmid и др.), рассматривается в различных ракурсах в целом ряде появившихся на исходе XX века диссертационных исследований (Л.Д.Бугаевой, Е.А.Виноградовой, И.Ю.Гавриковой, Л.В.Евдокимовой, О.О.Козарезовой и др.). За всем тем ни у кого нет, наверное, сомнения, что изучение обширного литературного наследия Ф. Сологуба только начинается. Столь многообразно и самобытно творчество этого
5 мастера, столь специфичны его художественные поиски, что серьезное и вдумчивое постижение сологубовских произведений представляется безусловной потребностью.
Наследие художника многолико, сложно, содержит не только неоспоримые ценности, подлинные художественные открытия, но и свидетельства неразрешенных противоречий, растерянности перед лицом жизненных трудностей -полные эклектизма работы. Думается, наследие Сологуба нельзя измерить лишь одними позитивными или только негативными мерками. Оно требует более гибкого и многогранного подхода. Сологуб вошел в литературу как поэт, став на первом этапе русского символизма одним из видных представителей школы декадентов. Но для Сологуба периода его славы-1907-191 Згодов - именно проза играла конститутивную роль. По мнению многих дореволюционных исследователей творчества художника, Сологуб равен себе, своему таланту и в поэзии, и в прозе. «Он отличается ровностью творчества, проза его не слабее его поэзии, и в обеих областях он плодовит»,-писал А.Блок (63.282). Прозаические тексты Сологуба мыслились как своего рода продолжение и интерпретация «первичных» поэтических текстов. Романы и рассказы художника прочитывались критиками начала века под углом зрения его поэзии. «Я не делаю разницы между его стихами и его прозой. У него проза полна той же поэзии, что и стихотворения»,- совершенно справедливо утверждал В.Боцяновский (64.143). Не отрицая генетического сходства прозаических и поэтических текстов Сологуба, иные ценители творчества писателя замечали и то, что «русский Шопенгауэр» (Волынский) прозой сильнее, чем поэзией умел выразить «чудовищное жизни» (Блок). В своих стихах Сологуб, по выражению Л.Шестова, «бессмысленно воет», а «в прозе - и того хуже ... хуже, чем животный крик» (336.60). Так стало общепризнанным (вспомнить хотя бы ставшую уже сакраментальной фразу Е.Замятина, что «с Сологуба начинается новая глава русской прозы» (109.6)), что именно прозаические произведения писателя отмечены наибольшей оригинальностью. Видимо, это и определило нюансы возвращения Сологуба в постсоветское культурное сознание.
Поколение, встретившееся с этим мастером на исходе 80- в начале 90-х годов 20 века, попало в ситуацию, отчасти зеркальную той, которая сложилась вокруг имени Сологуба на рубеже веков. Читатели начала нашего столетия, зная Сологуба-переводчика, драматурга, теоретика символизма и прозаика, более ценили Сологуба-поэта. Его считали «интереснейшим и значительнейшим из лириков современности» (245.215). Но, если верить В.Полонскому, Сологуб как прозаик, беллетрист был малоизвестен «широким кругам читающей публики» (223.117). Ив 1912 году, когда уже были опубликованы «Навьи чары», рецензент «Современного мира» писал: «Талантливый поэт-лирик и автор не менее талантливого «романа» - «Мелкий бес» других произведений, правда, весьма неравного
6 достоинства, Ф.Сологуб подошел к драме...» (48.238). Из прозаических произведений широкую популярность получил только реалистически-сатирический роман «Мелкий бес».
В течение десятков лет имя Сологуба ассоциировалось преимущественно с этим произведением и ограниченным числом поэтических творений. Наверное, мы не ошибемся, если скажем, что о рассказах и пьесах Сологуба русский читатель (за исключением, конечно, узкого круга специалистов) и понятия не имел.
Читатели начала 90-х годов, напротив, смогли познакомиться сразу с двумя - первым и итоговым (не хронологически, а онтологически) - романами Сологуба (в 1990 году опубликованы «Тяжелые сны», в 1991 - «Творимая легенда») и его рассказами. К нам пришел прозаик мирового масштаба, романтик и философ, мечтатель-тайновидец и сатирик-бытописатель. Мы заново открыли и другие грани сологубовского таланта. Увидели свет (и в этом несомненная заслуга авторов сборника «Неизданный Федор Сологуб») произведения, которые до сих пор были лишь достоянием архивов.
К концу XX века совместились два лика художника: поэт и писатель-беллетрист. Переакцентуация, обусловленная сменой читательского интереса, свидетельствует о востребованности прежде всего прозы Сологуба. Однако, несмотря на довольно большое число появившихся в последнее время работ, в которых анализируется прозаическое творчество Сологуба, следует отметить неразработанность в литературоведении и критике отдельных «сологубовских» тем.
Произошедшая ротация оценок творчества Ф.Сологуба не поколебала репутацию «Мелкого беса». Безусловно, внимание к этому произведению Сологуба со стороны литературоведов оправданно и закономерно, если учесть тот успех, который сопутствовал появлению романа в 1907 году. Нельзя не согласиться с многочисленными критиками «Мелкого беса», уже тогда утверждавшими, что роман является «ценнейшим и типичнейшим произведением Сологуба» (3327.223), «крупным явлением, книгой огромной ценности, равной «Мертвым душам» Гоголя» (76.306). Оказавшись в фокусе внимания современных исследователей, «Мелкий бес» заново открьш поистине бесконечную (это, как мы уже говорили, справедливо для всех сологубовских текстов) перспективу творческих актов смысловоссоздания. Роман идентифицировался на принадлежность к неомифологическим текстам (З.Г.Минц), символика, идейно-композиционное своеобразие «Мелкого беса» получили интересные истолкования в работах М.Козьменко, М.М.Павловой, Н.Г.Пустыгиной, Г.Селегень, И.Ю.Симачевой и других.
Приходится констатировать, что и современному читателю, и современному исследователю творчества Сологуба по душе более «тяжелые сны» писателя, нежели «сны радужные, его мечтания» (такую классификацию произведений Сологуба предложил
7 В.Боцяновский (64.147)).По крайней мере, «проб разгадывания» (Джонсон) другого шедевра Сологуба -«Творимой легенды»- не так много. Этот роман писателя как будто изначально был обречен на непонимание. Конечно, с одной стороны, в переходные эпохи, какой и был рубеж веков, читательская среда менее консервативна. Затронутая авангардистскими веяниями, она ждет от авторов, по меткому замечанию В.Е.Хализева, «не соблюдения правил и норм, не чего-то устоявшегося, а, напротив, безоглядно-смелых смещений, разрушений всего привычного» (314.117). «...Ожидали вкусить нечто необычное... - расстраивался критик после выхода в свет «Королевы Ортруды», - а вкусили нечто обычное...» (236.140). Но, с другой стороны, - и это существенно для понимания судьбы «Творимой легенды», -читатели, за кем и существует атмосфера господствующих художественных, нравственных и прочих оценок, так называемое большинство, имеющее определенный «горизонт ожидания», все равно требует повторений, но не прямых, а повторений с коэффициентом на «индивидуальность» и новизну в допустимых дозах. Последнего автору «Навьих чар» как раз и не удалось соблюсти: «передозировка» оказалась губительной для признания нового романа. Критика решила, что «Мелкий бес» (а не «Творимая легенда») и есть главное в Сологубе, тогда как это была лишь та площадка, в которую «Архимед» уперся, чтобы столкнуть тяжелый шар натуралистической прозы и вообще переменить литературную инерцию, плоскость изображения. Прав, на наш взгляд, был критик Б.Садовский, утверждавший, что «Навьи чары» далеко оставляют за собою «Мелкого беса», не говоря уже о «Тяжелых снах» (255.94). Безусловно, без «Мелкого беса» не было бы и «Творимой легенды». Как считает В. Малахиева-Мирович, «в отмщение этой обычности, злой, назойливой и торжествующей передоновщине, Ф.Сологуб после своего «Мелкого беса» почуял непреодолимое желание создавать легенды о жизни...» (185.235). Нельзя не признать, что многими нитями трилогия связана с предыдущими работами мастера. На эту связь, в частности, указывали А.Е.Редько и К.И.Чуковский (они выстраивали цепочку: Логин - Передонов - Триродов - как эманации творца, Сологуба). В.Кранихфельд видел в «Тяжелых снах» и «Творимой легенде» варианты «Мелкого беса». В 70-е годы литературовед Е.Старикова писала: «Мелкий бес» занимает некую среднюю центральную точку развития творчества Ф.Сологуба... сравнение «Мелкого беса» и с ранее написанным Ф.Сологубом романом «Тяжелые сны», и с позднее написанным романом «Творимая легенда», отчетливо указывая на существование двух разных и враждебных реализму тенденций в творчестве писателя - натурализма и декаданса, также помогает увидеть те превращения, которые претерпевают реалистические открытия при возникновении рядом и вместе с ними данных тенденций» (280.180-181). Идентификацию метода «Мелкого беса» проводили В.Ерофеев, В.А.Келдыш, М.Козьменко, Р.Куллэ, но, надо заметить, что и сам
8 писатель считал свой роман «пограничным произведением». В 1908 году Сологуб говорил: «Каждому писателю кажется, что он совершенствуется в приемах и способах писания. Так и мне кажется на счет приемов моих последних работ. В «Навьих чарах» оказался сильнее фантастический элемент. В этом разница. Но если не фантастический, то утопический элемент был уже и в «Тяжелых снах». И там я как бы высказывал свои планы переустройства человеческой жизни. В дальнейших вещах это заметнее. В «Мелком бесе» я осудил жизнь, -такую, какою она слагается для многих. Там уже есть и фантастичность» (136.3). От «Тяжелых снов» - через «Мелкого беса» - к «Навьим чарам» - таким виделся путь его восхождения к славе самому художнику. «Я творимой легендою кончил Чарования грешной земли», - от лица Сологуба писал его друг и ученик В.Смиренский (270.424). Если жизнь произведения искусства - это всегда многолосие различных пониманий, то наиболее «живучим» произведением Сологуба оказался именно «Мелкий бес». В то время как трилогия «Творимая легенда» на долгие годы «умерла» для русского читателя и исследователя и только начинает испытываться смыслами, начинает возрождаться, воскресать в научном творчестве нынешних поколений (в работах Н.В.Барковской, А.А.Городницкой, Ю.Гуськова, С.П.Ильева и др.)
Объектом данного исследования является «Творимая легенда». Однако прежде чем представить итоги нашего прочтения сологубовского романа, надо обратиться к обзору источников и литературы, с тем чтобы, во-первых, сообщить необходимые сведения о произведении, во-вторых, описать существующие в критической литературе попытки его анализа и, в-третьих, сформулировать предмет настоящей исследовательской работы.
Обзор источников и литературы
Трилогия «Творимая легенда» начинает создаваться в период, знаменательный для Сологуба многими событиями: только что отгремела первая русская революция, на которую, демократ по происхождению, писатель откликнулся целым рядом злободневных произведений; после 25 лет добросовестной службы скромный школьный инспектор Сологуб был отправлен в отставку по причине того, что, по его собственному признанию, «испортил красоту какого-то протокола неприятным и не по форме написанным особым мнением»(135.5). В июне 1907 года умерла и друг-сестра Федора Кузьмича, Ольга. «С сестрою была связана вся моя жизнь, и теперь я словно весь рассыпался и взвеялся в воздухе. Как-то мне дико, что умер не я», - писал убитый горем Сологуб (324.234). И, наконец, в том же году в жизни писателя появилась Анастасия Чеботаревская. Эту женщину - даже принимая во внимание неоднозначную оценку ее роли в судьбе Сологуба (163.293) - можно по праву назвать единственной и большой любовью художника. Итак, революция, смерть и любовь - роковое триединство - определило биографический контекст, в котором рождался
9 новый мистический роман Сологуба (собственно это доминирующий триколор тематического спектра романа). Публиковалось произведение в то же время, когда и писалось - между 1907 и 1912 годами. Оно выходило в свет частями. Первоначально их было четыре: «Творимая легенда», «Капли крови», «Королева Ортруда» и «Дым и пепел». Все они, за исключением последней, появились в книгах литературно-художественного альманаха издательства «Шиповник» (Санкт-Петербург) - соответственно в третьем (за 1907 г.), в седьмом (за 1908 г.) и в десятом (за 1909 г.) выпусках. Четвертая часть вышла отдельно от предыдущих: после длительного перерыва (в три с лишним года) и в другом альманахе -«Земля» (Москва). «Дым и пепел» не покрывался общим для первых трех частей названием «Навьи чары» и публиковался как самостоятельное произведение с подзаголовком «роман». Сологуб счел необходимым издать его частями, которые увидели свет в десятом и одиннадцатом номерах сборника «Земля» за 1912 год. Окончательную редакцию трилогия обрела в 1914 году в собрании сочинений Ф.Сологуба (СПб.: Сирин, 1913-1914; т. 18-20). В этом, втором, своем издании роман получил и новое, окончательное название - «Творимая легенда» (вместо «Навьи чары»). Теперь он состоял уже из трех (в соответствии с числом томов) относительно самостоятельных частей: «Капли крови» (они стали результатом стяжения «Творимой легенды» и «Капель крови» из первой редакции), «Королева Ортруда» и «Дым и пепел». Поток оскорблений и насмешек, которому подвергалось произведение в течение всех тех лет, пока продолжалась его публикация, очевидно, подвиг Сологуба изъять из «сириновской» редакции целый ряд эпизодов. Другие он ввел или переставил, не удовлетворившись архитектоникой отдельных сюжетных линий (некоторые моменты этого процесса творческого препарирования и реанимирования описаны в монографии И.Хольтхузена). Так что второе издание «Творимой легенды» можно считать и вторым ее вариантом. Поскольку именно этот вариант свидетельствует о конечном замысле автора, текст романа в нашем исследовании цитируется по изданиям, являющимся перепечаткой последней опубликованной редакции (текста «сириновского» издания):
Сологуб Ф. Капли крови. Избранная проза.- М.: Центурион, Интерпракс (Серия «Серебряный век»), 1992.
Сологуб Ф. Творимая легенда. Роман.- М.: Современник, 1991.
Ценным источником для нас явились и рукописные черновики «Творимой легенды», входящие в состав архива Ф.Сологуба в Отделе рукописей Института русской литературы (фонд 289, оп.1, ед.хр.531-534). Их изучение позволило дать объяснение любопытным особенностям окончательного текста, выявить происхождение его отдельных тем и образов. По мере необходимости в процессе анализа «Творимой легенды» привлекались и другие художественные произведения Ф. Сологуба, а также его публицистические статьи.
10 «Творимая легенда» вызвала к жизни целую массу критических откликов уже в первое десятилетие своего существования. Реакцию на появление первых частей «Навьих чар» точно сформулировал А.Измайлов, «наиболее доброжелательный, если не самый тонкий критик трилогии» (44.235): «... едва ли он (читатель) забыл свое смутное и недоуменное впечатление и общую почти растерянность критики перед этим романом»( 133.3). Произведение не было подверстано под ожидаемое: коды отправителя и реципиента не совпали. Критик, знакомый с предыдущими работами мастера, вряд ли мог бы предсказать появление «Творимой легенды». Несмотря на присутствие в трилогии тем, мотивов и характеров, типичных для творчества писателя в целом, «вся эта огромная книга» (133.3) -произведение иного масштаба и в прямом, и в переносном смысле, дающее возможность оценить истинные размеры сологубовского таланта. Автор «Тяжелых снов» и «Мелкого беса» позволил себе поместить созданных им фантастических героев в знакомую среду, пойти на рискованное сопряжение пространств и времен, «странные прозрения в прежние перевоплощения»( 132.2), вывести на сцену Иисуса Христа - одного из самых литературных (наряду с сатаной) из всех мыслимых литературных персонажей. Подобная вольность редко обходится без рьяных нападок со стороны блюдущей каноны критики. «Кажется, ни одно из произведений Сологуба не подвергалось такому усердному критическому обстрелу, как именно «Навьи чары», - писал Измайлов (135.6). В 70-е годы М.Дикман заметил, что «Сологуб и его произведения, особенно скандально известный роман-трилогия «Навьи чары», привлекли внимание критиков всех направлений» (105.59). Несмотря на многообразие оценок, исследовательских позиций и дававшихся роману интерпретаций, большинство писавших о произведении сходятся в одном: «Творимая легенда» Ф.Сологуба не может быть признана целостным эпическим произведением. Х.Баран, уже в наши дни проведший тщательную работу по разысканию и систематизации первых критических откликов на «Творимую легенду» и локализовавший эти отзывы в зависимости от объекта критики (ст. «Федор Сологуб и критики: споры о «Навьих чарах» (44)), в качестве основной их темы выделил композицию сологубовского творения. Однако целый ряд составляющих проблемы композиции остался недостаточно хорошо исследованным, а некоторые моменты получили даже искаженную интерпретацию.
Анализ тех замечаний, что были сделаны критиками и исследователями Сологуба, дает возможность уловить определенные тенденции в подходе к постановке и решению проблемы композиции «Творимой легенды». Так, многочисленные рецензенты трилогии уже при первой публикации «Навьих чар» выделили несовместимость повествовательных элементов и отсутствие мотивировки в композиционной структуре нового произведения Сологуба. Вот несколько наиболее типичных отзывов: «...попытка соединить, по-видимому, несоединимое
11 - отклик на злобу дня с самым откровенным фантазированием... Ни один из старых романистов не рисковал на такое сочетание реальной, прямо «газетной», хроникерской правды с цветами фантазии и уклонами мистики» (129.309); «Необузданная игра фантазии рядом с картинами и образами реальной жизни» (156.75); «В чем заключается «творимая легенда»? Чем проявляются «навьи чары»? Для чего вообще нагромождены эти исключимости, представлено несуразное месиво из наивных «заинтриговывающих» таинственностей?» (201.223). Будучи в принципе не против самого художественного приема, «сплетающего фантастику с реализмом в один непрерывающийся клубок» (156.75), критики педалировали мысль о «дисгармонизме», печатью которого, по их мнению, отмечен стиль сологубовского произведения. По мнению В. Кранихфельда, этим приемом часто пользовался Салтыков-Щедрин и «достигал при этом изумительных эффектов», Сологуб же «превратил его в свою специальность» (156.75), и ему перестали удаваться по-настоящему талантливые вещи. Другой критик утверждал, что у Сологуба в «Творимой легенде» «в соединении реализма с вымыслом отсутствует главное и необходимое условие - разумность такого соединения» (223.119). Главный упрек состоял в том, что Сологуб не только не сплетал реальность и фантастику в «один непрерывающийся клубок», но специально разделял. Как заметил один из исследователей третьей части романа, «действительность и легенда у Сологуба не проникают друг в друга, а лишь перемежаются» (44.353).
Попытки мотивировать нарушение нормальных условий связности текста «Творимой легенды» по преимуществу предпринимались не с целью понять, а с целью развенчать творение писателя. Семантическая и композиционная неоднородность текста «выводились» из неумелости автора: «Все эти неряшливо нагроможденные друг на друга куски, даже не склеенные и не сшитые, - из которых состряпана вторая часть «Навьих чар»...»(156.51-52) или объяснялись задачами словесного эпатажа: «Пестрота почти намеренная. Почти явные анахронизмы. Намеренное смешение тонов и стилей. Намеренная эксцентричность языка...»(128.3). Нарочитую сложность произведения пытались по-своему «оправдать»: «К сожалению, печать такого торопливого творчества лежит на новом романе Федора Сологуба. Роман как будто совсем не написан и даже не задуман... В сущности говоря, это не роман, а груда отдельных глав и заметок, еще не координированных между собой» (44.261). Объяснять своеобразие «Творимой легенды» исключительно недоработкой со стороны признанного мастера, своего рода «производственным» браком было неверным: роман был так задуман и так написан.
Гетерогенность и «бессвязность» композиции «Творимой легенды» критик А.Измайлов относит к «клиническим признакам». «Я давно жду появления в русской литературе, -признавался критик, - серьезной работы врача-психиатра, который бы взглянул на многие
12 наши литературные явления последних лет не с точки зрения человеческого вырождения, как это делал Макс Нордау, но с простой точки зрения врача, изучающего неврастеников. «Навьи чары» - типичнейшее явление этой категории. Эта развинченность воображения, эта капризная смесь реального с чистой фантастикой, эти невольные там и здесь проявления не совсем здорового эротического чувства, этот, наконец, разбросанный и нервный лапидарный стиль, напоминающий небрежный черновик или заметки записной книжки, - все это несомненно симптомы больного века»(129.316). Инкриминирование сумасшествия всему, что не укладывается в прокрустово ложе обыденного, устоявшегося, стало своего рода национальной привычкой. Один из «знатоков» российской истории и по совместительству ценитель сологубовского творчества «интерпретировал» его как «кликушество»(277.279). Интересно, что когда критика начала века пыталась осмыслить «уродливость» и странность героев Ремизова («Часы») в рамках известных идеологических и художественных моделей, то она отмечала в его произведениях влияние Ф. Достоевского и Ф. Сологуба(видимо, как родоначальников «больной» прозы)(см. работы А. Рыстенко, А. Измайлова). А эксцентричность внешней манеры изображения Ремизова тоже определялась словом «юродство». «Зачем юродствовать, отчего не говорить человеческим языком?» - восклицал критик Гершензон, выражая, по-видимому, чувство большинства читателей Сологуба и Ремизова (88.770). «Юродивой» речью при этом считалось такое словоизлияние, которое не только имело затемненный, иносказательный смысл, но и строилось как «случайный» текст: «В явной форме требовалось, чтобы пророки свободно ассоциировали, говоря все, что приходило на ум...» (344.47).
Измайлов, безапелляционно заявивший, что «после «Навьих чар» положительно нельзя сомневаться в болезненном надломе таланта автора» (129.316), оказался прав в другом. Попытавшись - и неудачно - пересказать фабулу первой части романа («Уже по некоторым упомянутым мелочам, таким разнородным, таким причудливым, - от вызова мертвецов до митинга с казаками, от магических комнат и потайных дверей до споров об эс-деках и кадетах, - вы видите, как трудно передать фабулу романа» (44.241)), он одним из первых указал на многоплановость «Творимой легенды», сложность ее сюжетно-композиционного решения. Мы позволим себе ради интересов собственной проблематики отвлечься от магистральной линии обзора критической литературы с целью дать рабочее пояснение.
Композиция «Творимой легенды» строится на видимой сюжетной, событийной основе. Но, во-первых, сюжет трилогии «ослаблен», во-вторых, он многолинеен, «сложен» из нескольких самостоятельных узлов (в произведениях с таким сюжетом, по мнению Хализева, «ярко выражен монтажный принцип» (314.278)). На традиционность основной сюжетной линии указывал А.Е.Редько: «... все, как полагается в старом, хорошем романе, который в
13 старые хорошие времена наши бабушки читали вперемежку с поварской книгой» (239.61). История любви красивой и умной девушки, дочери прогрессивного помещика, и одинокого, страждущего учителя-мечтателя на фоне ужасов провинциальной жизни была уже известна читателям Сологуба по «Тяжелым снам», только Василий Логин стал Георгием Триродовым, а Анна Ермолина - Елисаветой Рамеевой. Но не перипетии их взаимоотношений интересуют писателя в первую очередь, а те мелочи, из которых складывается человеческая жизнь -частная и общественная, те события и лица, с которыми так или иначе оказываются связанными главные герои. Х.Ортега-и-Гассет, характеризуя роман рубежа веков, совершенно точно замечал, что в нем «не сюжет служит источником наслаждения, нам вовсе не важно знать, что произойдет с тем или иным персонажем... Мы хотим, чтобы автор остановился, чтобы он несколько раз обвел нас вокруг своих героев. Мы лишь тогда получим удовольствие, когда по-настоящему познакомимся с ними, поймем, постигнем их мир, привыкнем к ним, как привыкаешь к старым друзьям...» (211.102) На принципе «крупного плана» героя и строится «Творимая легенда», где сюжет играет второстепенную роль. «Все остальные действующие лица, - иронизировал современник писателя, - служат как бы фоном, на котором выступают два главных лица, Сологубовских персонажа, - Елисавета и Триродов - пылающие друг к другу, идущей все crescendo, страстью» (97.2).
Хотя наличие событийной канвы свидетельствует об известном «рабстве» писателя (в то время как «отказ от сюжетного построения может служить признаком творческой свободы и желания свободы» (181.42)), «обыденность» основной сюжетной линии делает ее менее «тиранической»: она не требует к себе всей полноты авторского внимания и предоставляет писателю большую творческую свободу. В.Ходасевич отмечал, что, собирая стихи в книги, Сологуб «руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составлял книги приблизительно так, как составляют букеты...» (318.434) (Сологуб не был первооткрывателем: начало такой структуре, объединяющей стихи в книги, положил А.Блок). Особенно поражала современников та легкость, с которой писатель мог разрушать прежний порядок: «Порой, когда ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания...» (318.434). Сологубу необходима была эта перестановка стихотворений, расположение их без заголовков и отделов для того, чтобы, как вспоминал А.Измайлов, читатель сам улавливал их внутреннюю связь, а «целые книги казались бы правильно развивающейся психологической повестью». В беседе с критиком писатель признавался: «Было такое настроение, и написалось такое стихотворение. Этими стихотворными строками я сказал то, что мне хотелось в данную минуту сказать» (129.298).
14 «Обыкновенное чудо простого мгновения» (Х.Ортега-и-Гассет) продиктовало Сологубу способы построения не только его поэтических сборников, но и романа.
Существенно, что отдельное переживание, настроение становились основой того или иного поэтического творения Сологуба. Стиховая речь - это речь в бытовом восприятии необычная, выходящая из нормального ряда: «... язык поэзии, язык трудный, затрудненный, заторможенный...» (337.113). Не будет лишним вспомнить, что еще А.С.Пушкин различал поэзию и прозу: для последней необходим «язык простой», а «стихи дело иное» (175.60). Формалист В.Шкловский по этому же поводу писал: «... мы приходим к определению поэзии, как речи заторможенной, кривой. Поэтическая речь - речь построение. Проза же -речь обычная...» (337.113). Будучи речью условной, стихи и допускают условность. Они в большей степени, нежели проза, позволяют уклоняться от всего привычного и общепринятого (потому «отнесенье поэзии к «вымыслу» (56.15) оправданно). В известном смысле в мире стихов художник чувствует себя вольнее, чем в прозе: в своем повествовании он может опускать некоторые обязательные для прозаического произведения связи и мотивировки, смешивать временные и пространственные планы, уходить от сюжета («Для поэзии главное - познание, для прозы - действие» (83.136)) и снова возвращаться к нему -иначе строить произведение, руководствуясь «философией мгновения» (именно к этой философско-эстетической идее романтизма и восходит сологубовская концепция «абсолютной свободы» творца). Утверждая экзистенциальное (индивидуальное, единичное) время, поэт разрушает объективное время и создает новую реальность — «творимую легенду», освобождаясь как личность от оков объективной действительности. Потому проникновение поэзии в прозу изменяет и саму художественную природу последней, и ее возможности, а главное - отражается на структуре художественного мира произведения. Как пушкинский «роман в стихах», сологубовские «стихи в прозе» (так определил жанр «Творимой легенды» один из критиков трилогии (240.89)) - это свободный роман. Неудивительно, что читатели «Евгения Онегина» и «Творимой легенды» отказывались видеть в этих произведениях организованное художественное целое, называя их «рядом картин» (175.75), лишенных внутренней связи. Свобода проявилась прежде всего в неограниченной строгими сюжетными рамками игре фантазии. Так, прибегая к интриге (параллельная жизнь Елисаветы «в качестве» королевы Ортруды), писатель ничего не проясняет. При всей своей простоте сюжет «Творимой легенды» носит в себе черты запутанности, незаконченности, известной конспективности. В нем очень заметны разрывы в событиях, отсутствие полноты связей, глубины мотивировок. Все фабульные линии трилогии («скородожская» и ее ответвление - «пальмская») сами выступают как дискретные, «разрезанные на кусочки-эпизоды и перемешанные». Но и этого Сологубу мало: роман
15 организуется перерезыванием сюжетных линий лирическими отступлениями, побочными эпизодами, всплывающими внезапно, в результате вольного, не сдерживаемого логическими преградами течения ассоциаций. Сюжетно-композиционная схема «Творимой легенды» рисуется в форме отрезков, которые не всегда крепятся непосредственно один к другому. Они могут увести читателя далеко от того сюжета, разработки которого он ожидает от автора, поверив его намекам. Так, например, А.Измайлов вспоминал: «И читатель, и критик, перенесшиеся из усадьбы загадочного химика и мистика Триродова в царство королевы Ортруды ... не знали, как связать это несвязуемое» (133.3). А ведь роман «Королева Ортруда» - просто самый большой из таких отрезков, между которыми Сологубом сознательно разрушается логическая связь. «В движении событийного сюжета, - пишет Н.В.Барковская, - есть «белые пятна», нарушение логической связи, непроясненность (например, происхождение богатства Триродова), незавершенные линии (оживление отца Матова), побочные сюжетные ходы (история с ограблением монастыря)» (45.172). О том, что могло создать у первых читателей «Творимой легенды» «впечатление художественной неотделанности», пишет в своем исследовании и Х.Баран: «Текст пестрит мотивами и повествовательными элементами (например, потайная дверь в кабинете Триродова), которые, обладая довольно большим сюжетным потенциалом, создают атмосферу чудесного, но пути вероятной развязки этих ходов не указаны. Одни событийные ряды так и остаются нераскрытыми ... решение таких (других, тех, которые проясняются в последних частях трилогии. - М.Л.) повествовательных ходов почти непредсказуемо...» (44.244).
Если фабульные линии в их хронологической протяженности читатель вынужден искусственно восстанавливать, если фабула «движется» посредством присоединения, «нанизывания» разнородных кусков текста, то возникает вопрос: существует ли вообще в кажущемся хаосе «произвольных» сологубовских «ассоциаций» продуманная и достаточно четкая организация? Безусловно, есть. Об этом пишет и современник писателя критик В.Волин. Анализируя роман Сологуба, он замечает: «Навьи чары» - редко художественное произведение: это музыкальное творчество, где, постоянно чередуясь, проходит перед читателем смена самых разнообразных гармонических сочетаний» (44.241). Современный исследователь С.В.Ломтев, обращаясь к изучению «Творимой легенды», утверждает, что структурное единство романа создается посредством композиции темы. Тематические вариации, по его мнению, соединены в «Творимой легенде» по принципу музыкального контрапункта, и он проявляется на всех уровнях композиции: «Внутри многих глав сталкиваются персонажи... Контрастируют друг с другом главы... Наконец, по принципу контрапункта построена и макрокомпозиция. Первая часть романа («Капли крови») наполнена русской конкретикой. С ней контрастирует... опоэтизированная куртуазная
16 вторая часть («Королева Ортруда»). В третьей части («Дым и пепел») происходит слияние обоих (мечты и действительности. - М.Л.) тем и творится новая фантастическая действительность» (172.78). Исследовательница Н.Барковская, отмечая алогизм в развитии сюжета, подчеркивает: «Вместе с тем, в романе существует внутренняя целостность. Она наиболее отчетливо выявляется в движении лейтмотивов и в симметричной организации отдельных главок по отношению друг к другу, обнаруживающих формирующую, творческую волю автора» (45.172).
Когда манеру Сологуба возводили к импрессионизму (328.238), это было, наверное, не совсем верно: импрессионизм характеризуется избытком цвета, но отсутствием конструктивной силы. Композиция «Творимой легенды» скорее тяготеет к «нагромождению поверхностей», которым отличаются полотна кубистов, или воспроизводит сюрреалистические «неожиданные встречи» разных планов и объектов. Но ближе всего к истине о структуре сологубовского романа оказался, как нам думается, критик В.Полонский, указавший в своем исследовании «Навьих чар» на появление в текстах Сологуба новых, по происхождению кинематографических, композиционных приемов. «Словно в кинематографе, - пишет китик, - мелькают перед нами картинки, не имеющие никакой связи между собой, ничего общего ни с какими легендами на свете, а главное, никакого отношения к здравому смыслу» (223.118). И ломка устоявшихся семантических единиц, и использование монтажа для создания новых семантических комплексов - приемы, демонстрирующие влияние кинематографа на композиционную технику Сологуба 10-х годов. Монтажом называется «способ построения литературного произведения, при котором преобладает прерывистость (дискретность) изображения, его «разбитость» на фрагменты» (314.276). Французский художник-модернист Ф.Леже в начале XX века очертил будущую кардинальную линию развития искусства: «Прогресс пойдет в направлении персонификации увеличенной детали, индивидуализации фрагмента. Воздать должное этому феномену жизни помогает кинематограф» (106.39). Интересно, что А.Редько, анализируя «Тяжелые сны», ужасался способности Сологуба-художника видеть мир фрагментарно: мир, разложенный на части, предстает в каком-то уродливом виде. Гипертрофированная деталь (на дальнем расстоянии рассмотрев женщину за деревом, герой романа Логин увидел «только ухо (!) и часть спины» (239.58)) организует новое пространство - пространство сна, и «ни в крупном, ни в мелочах он (Сологуб. - М.Л.) не знает, когда сообразуется с действительностью в своих переживаниях и когда ему - что называется - чудится...» (239.58). Так в зеркале злого тролля из андерсеновской сказки веснушки или родинки расплываются во все лицо (ср. с бородавкой Руслан-Звонаревой, о которой упоминает К.Чуковский в своем «Путеводителе по Сологубу»). Критик Боцяновский писал: «У Гоголя он взял увеличительный аппарат, при помощи которого легко раздувать каждое явление в карикатуру» (64.147), но суть в том, что «увеличение» у Сологуба не только средство создания гротеска. То, что в обыденной жизни незаметно - равно прекрасное и безобразное, может быть дано художником «крупным планом»: «жутики-шутики», недотыкомки и турандины имеют такое же право быть увиденными, как и предметы быта. Картина мира воссоздается Сологубом из окрошки, калейдоскопа осколков малых (разных) миров. Само наличие этой «калейдоскопической пестроты» (Измайлов) вводит «Творимую легенду» в ряд произведений, где основным композиционным приемом служит монтаж. И обращение к метатекстам Сологуба позволяет заключить, что текст художественного произведения, по мысли писателя, должен строиться наподобие «ломаной линии». Хотя приходится констатировать, что процесс работы Сологуба над трилогией остался тайной (черновой вариант произведения не раскрывает исследователю плана «Творимой легенды»), все же обнаруживаются архивные документы, фиксирующие некоторые соображения Сологуба о композиции. Вот один из них - не увидевшая свет статья 20-х годов о писательнице Л.Чарской, которую признанный мастер пытался поддержать в сложное для нее время. Среди других достоинств произведений Чарской Сологуб особенно выделяет их «превосходное построение». Он пишет: «И в этом отношении Чарская отошла от разбросанности и неконструктивности большинства писательниц. Течение рассказа развивается естественно, живо, стремительно и не загромождено ничем лишним. Приемы торможения этого стремительного рассказа всегда художественно оправданны и целесообразны. Торможения описанием, воспоминанием, лирическим отступлением, психологическим анализом всегда очень скупы и кратки и даются в меру совершенной необходимости, с точным учетом внимания читателя. Торможения побочными эпизодами всегда совершенно необходимы для наилучшей подготовки того или иного приключения как части целого рассказа» (230.163). Все, сказанное Сологубом о композиции произведений Л.Чарской, может быть отнесено и к «Творимой легенде». Особый интерес в связи с нашей проблематикой представляют принципы дробления мастером текста: в качестве мерила для описания этого дробления он использует приемы ретардации, эксплицирующие монтажное начало композиции произведения.
Интерес к форме «Творимый легенды», особенно характерный для критики начала века, постепенно угас. Сейчас исследовательская литература незаслуженно мало, на наш взгляд, уделяет внимание вопросам композиции романа-трилогии Ф.Сологуба, в большинстве случаев ограничиваясь краткими, часто косвенными, возникающими в связи с другими проблемами научного анализа, замечаниями. Даже в самом фундаментальном и единственном в своем роде исследовании «Творимой легенды», принадлежащем
18 И.Хольхузену, о структуре романа сказано немного. Только вскользь ученый касается вопросов композиционной роли начала и инструментов связи романов внутри трилогии.
Нет нужды говорить, что анализ художественной структуры позволяет лучше понять мысль художника, что композицией, как верно заметил С.Эйзенштейн, определяется отношение писателя к изображаемому. С.П.Ильев предлагает подвергнуть анализу структуру романов Ф.Сологуба, В.Брюсова и А.Белого «с точки зрения символа и мифа», чтобы идентифицировать жанр (символистский роман или нет). Он рассматривает архитектонику романов Ф.Сологуба: по мнению исследователя, она «представляет один из трех основных типов композиции русского символистского романа» (139.16). И, соглашаясь с выводами исследователя, все-таки хотим отметить, что момент механической аналитичности -аналитичности, проведенной исключительно на уровне рассудка («теоретического разума» в кантовском смысле) - подход подчеркнуто структуралистский - обедняет интересное исследование ученого. Скрупулезно соблюдая исходный тезис, Ильев менее всего учитывает то, что жесткая системность мешает свободе конкретного (от текста идущего и текстом порождаемого) анализа. Мы пытаемся избежать механицизма в исследовании сологубовского текста.
Предметом исследования в данной работе является художественно-философская проблематика и поэтика «Творимой легенды». «Материал не спасает произведение, как золото, из которого отлита статуя, не придает ей святости. Произведение искусства в большей степени живо своей формой, а не материалом. Именно структуре, внутренним строением, обязано оно исходящему от него тайному очарованию. Это и есть подлинно художественное в произведении, и именно на него должна направить внимание эстетическая и литературоведческая критика», - писал Х.Ортега-и-Гассет. Разделяя мнение видного философа и памятуя о том, что требование структурированности - «кристаллической», максимально информативной в эстетизме и «органичной», присущей самой природной жизни и менее строгой в панэстетизме (Ханзен-Леве) - было едва ли не основным в русском символизме на разных его этапах, мы избираем в качестве достойного анализа предмета именно форму. Тем более, что Сологубу не было равных по ее обработке (это отмечают в своих статьях И.Анненский, В.Брюсов, Н.Гумилев, Б.Эйхенбаум). Поскольку тяготение к решению философско-эстетических и этических вопросов изменило облик сологубовской прозы, породив новые аспекты в традиционных и хорошо знакомых формах романа, исследователя не интересовать сами эти вопросы. Через анализ структурной организации мы будем осуществлять изучение семантики текста. Через освоение формы романа мы стремимся постичь его подлинную проблематику.
19 Целью данного диссертационного исследования является целостное и системное рассмотрение структуры «Творимой легенды» как носителя художественно-философского потенциала произведения Ф. Сологуба.
Названная цель преследует решение следующих задач: показать упорядоченность и мотивированность композиционного рисунка трилогии; изучить те «кинематографические» рифмы, которые жестко скрепляют, казалось бы, произвольно чередуемые главы, эпизоды, части «Творимой легенды»; выделить и проанализировать основные композиционные приемы, проследить, как они связаны со всеми уровнями предметности и речи, с содержанием произведения; исследовать особенности функционирования образов и мотивов, интегрирующихся во фрагментарном смысловом поле романа в элементы символической структуры; вьывить первообразы, закодированные в формализованной сюжетно-композиционной системе «Творимой легенды», указать на роль мифологических, фольклорных и литературных реминисценций в организации художественной структуры; наметить место романа в культурном (философском, научном) контексте начала XX века; выявить единство семантики текста «Творимой легенды» и его структуры, проследить, как формальный «язык» произведения отражает философское и художественное видение автора романа.
Новизна данной работы прежде всего обусловлена самим предметом исследования и характером поставленных задач. Еще первые читатели «Творимой легенды» сумели почувствовать, распознать и главную мелодию произведения и те побочные тоны, выявление которых стало задачей последующих комментаторов трилогии. Лишь неясность приемов интерпретирования текстов «символистского толка» привела к тому, что многое в произведении Сологуба осталось незамеченным. И, обращаясь ныне к «Творимой легенде», мы связываем прерванные нити, продолжаем начатое еще современниками писателя исследование (как не вспомнить слова Триродова, сказанные им, правда, по другому поводу: «Мы никогда не начинаем...Мы - вечные продолжатели») и в то же время открываем свое в сологубовском романе «без дна» (Мескин).
Новизна заключается в том, что мы впервые предпринимаем всесторонний анализ структуры «Творимой легенды». Наиболее логичным и плодотворным нам видится такой его путь: от внешней композиции и решения проблемы «рамок» к анализу основного корпуса текста.
Новизной характеризуется и сам подход к трилогии как к роману о Жизни. Сологуб ставил перед собою задачу изобразить целую историческую эпоху, за вымышленными
20 героями, судьбами, картинами быта и нравов показать жизнь России в переломный момент -в период первой русской революции. С таким замыслом писателя должна была быть, безусловно, связана и композиция романа: в произведении, ограниченном по объему, но далеко не ограниченном по художественном целям, нужна свобода для быстрого перехода от темы к теме, от настроения к настроению, для не стесняемого никакими ограничениями движения художественного материала и движения авторской мысли. Основной принцип построения «Творимой легенды», сама его свобода, потому неотделим от замысла романа о революции, о современной российской жизни и о жизни вообще. А поскольку «...жизнь не знает категорий начала и конца», «понятие композиционной завершенности ей чуждо в такой же мере, как и организация событий по принципу фабулы» (175.76), особую актуальность приобретает проблема «рамок» «Творимой легенды». На значение данной проблемы в романе Сологуба указывают И.Хольтхузен, С.П.Ильев, Н.В.Барковская. Сам Сологуб всячески подчеркивал психологически ощущаемую им необходимость как-то отмечать границы между созданным его воображением миром и миром повседневным (см. воспоминания Н.Тэффи, З.Гиппиус и др.). «Грустное слово - конец! Милое слово - предел!» - писал поэт. Мы подвергаем анализу «рамки» сологубовского романа на предмет их интегративных потенций.
Новизна связана с тем, что мы рассматриваем мифопоэтический (языческий, христианский, буддистский), философский и научный подтекст романа, а также устанавливаем взаимосвязи между сологубовскими принципами номенологии и портретирования литературных персонажей и феноменом двойничества, предпринимаем попытку исследования символики цвета как формосодержательного начала романа-трилогии.
Теоретической и методологической основой нашего исследования стали труды: по теории и истории искусства Ю.М.Лотмана («Лекции по структуральной поэтике», «Семиотика кино и проблемы киноэстетики», «Структура художественного текста»), Б.А.Успенского («Поэтика композиции»); по теории и истории языка и литературы М.М.Бахтина («Вопросы литературы и эстетики», «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса»), В.В.Виноградова («Поэтика русской литературы»), Д.С.Лихачева («Поэтика древнерусской литературы»), О.М.Фрейденберг («Поэтика сюжета и жанра»); по теории пространства, времени и энергии А.Эйнштейна («О специальной и общей теории относительности - общедоступное изложение); философские, культурологические и эстетические работы А.Белого («Магия слов», «Священные цвета»), Н.Бердяева («О власти пространств над русской душой»), Д.Мережковского («Грядущий Хам»), Ф.Ницше («Антихристианин»), В.Соловьева («Смысл любви», «Идея сверхчеловека»), Е.Трубецкого («Смысл жизни»), П.Флоренского («Имена»), А.Шопенгауэра («Мир как воля и представление») и др.; а также исследования в области теории символа и мифа А.Ф.Лосева («Очерки античного символизма и мифологии», «Философия имени»), Е.М.Мелетинского («Поэтика мифа» «О литературных архетипах»), В.Н.Топорова («Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического»), М.Элиаде («Аспекты мифа», «Мифы, сновидения, мистерии»), К.Г.Юнга («Архетип и символ») и др.
В диссертации учтены достижения отечественного и зарубежного литературоведения: концептуальные положения работ С.П.Ильева, С.В.Ломтева, З.Г.Минц, Н.Г.Пустыгиной, А.Ханзен-Леве, И.Хольтхузена, К.Эберт, У.Шмидта и др.
Методика исследования представляет собой комплекс подходов к изучению феномена словесного творчества: структуралистский подход дополняется элементами метода мотивного анализа, привлекается также инструментарий сравнительного литературоведения, в поисках архетипов и контекстов мы обращаемся к историко-генетическому методу, к аппарату психоанализа и культурологии. На наш взгляд, только такое многообразие методов позволяет дать полноценный анализ романа-трилогии Сологуба.
Апробация работы. Проблемы, ставящиеся в работе, стали предметом выступлений на научных конференциях: «Иное царство» в трилогии Ф.Сологуба «Творимая легенда»: попытка интерпретации» - Ярославль, 1998; «О некоторых лирических приемах портретирования у Сологуба-прозаика (на материале трилогии «Творимая легенда») -Ярославль, 1999; «Особенности композиции «Творимой легенды» Ф.Сологуба» - Ярославль, 2000. Основные положения диссертации нашли свое отражение в публикациях автора: в тезисах докладов конференций, а также в статье « О композиции «Творимой легенды» Ф.Сологуба: к вопросу о роли алхимических реминисценций в организации структуры романа» (в печати).
Материалы исследования были использованы в процессе работы автора в качестве преподавателя гимназии (г.Ростов Ярославской области) и Провинциального колледжа (г. Ярославль). Отдельные результаты исследования были изложены на заседаниях аспирантского объединения при кафедре русской литературы ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.
22 Практическая значимость. Изучение композиции «Творимой легенды» дает возможность полнее представить художественный мир Сологуба, проникнуть в специфику сологубовской образности, понять эстетико-философские и этические взгляды писателя в зрелый период его творчества. Исследование помогает читателю определить место «Творимой легенды» в литературном наследии русских символистов.
Материалы диссертации могут быть использованы в практике преподавания такой дисциплины, как история русской литературы XX века и при разработке и проведении спецкурсов и спецсеминаров.
Структура работы. Работа включает в себя введение, две главы, заключение, список источников и использованной литературы (всего 356 наименований), приложения.
Заглавие и его функции в тексте «Творимой легенды»
Критик П.С.Владимиров, анализируя роман «Мелкий бес», дал разъяснение понятиям Айсы и Ананке, в философской интуиции Сологуба наделенных онтологическим статусом. Царство Айсы - это «повседневная обыденная жизнь со всеми ее мелочами, удачами и неудачами, со слезами и радостями, с хаосом сплетений высокого и низкого...» (76.308). Прихотливости, случайности, антиномичности мира Айсы противостоит строгость, целесообразность и единство мира Ананке, судьбы, чье царство - царство рока, необходимости, если угодно, жестких схем. Концепция мира-текста, которую символисты, наследуя мистические идеи Каббалы, положили в основу своей креативной (одновременно и познавательной и эзотерической) деятельности, позволяет и нам миры Айсы и Ананке уподобить двум аспектам композиции художественных произведений. Та композиционная сторона, что «всецело задана, предначертана автором каждому из читателей» (314.279), сторона Ананке, в переводе с языка сологубовского мифологизма на язык структурализма является синтагматической. В отличие от парадигматики, то есть не фиксированных последовательностью текста со- и противопоставлений, повторов и вариаций, составляющих «царство Айсы», синтагматический аспект композиции наделен полнотой структурной определенности, и с него мы и начнем наш анализ.
Торжество логики момента, проповедуемой Сологубом и самой жизнью, лишает художественное бытие организованности и тем самым отменяет единожды предписанную последовательность. Фантазия поэта становится своеобразным «супрессором» (специфическим регуляторным элементом), направляющим экспрессию структуры трилогии. Но, несмотря на то, что для «Творимой легенды» не столь значима последовательность глав и эпизодов (Измайлов не случайно назвал ее «беглыми заметками»), во временной организации сологубовского текста особая роль принадлежит началу.
«Исходная и конечная части художественного строения, - пишет В.А.Грехнев, - всегда попадают под сильный смысловой акцент» (314.123). Современник Сологуба, блестящий стилист И.А.Бунин придавал большое значение первой фразе: «Не готовая идея, а только самый общий смысл произведения владеет мною в этот начальный момент... Какое-то общее звучание всего произведения дается в самой начальной фразе работы... Да, первая фраза имеет решающее значение» (308.10). «Алхимик слова», польский писатель Я.Парандовский соглашался, что «самое важное - это первые слова»: «Первые слова - это «запев». Они дают тон, в них сразу же выявляются характер и стиль всей вещи» (215.232). Атмосфера «Творимой легенды» выражена уже первым словосочетанием, отколовшимся от предисловия и ставшим основным компонентом предтекста - заглавием.
Заглавие, занимая первое место в ряду важнейших структурных фрагментов, выполняет в тексте двойную композиционную функцию. С одной стороны, находясь в позиции начала дискурса, оно отличается относительной семантической самостоятельностью, самозамкнутостью и изолированностью от основного корпуса художественных высказываний. Это своего рода «текст в тексте». С другой стороны, заглавие романа Сологуба не просто является неотъемлемой частью текста: оно своей внутренней и внешней формой указывает на родство с главным (первым) предложением. «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду...» - начинает повествование Сологуб. Современное короткое заглавие, как известно, исторически выросло из (по В.Рудневу, отпочковалось от) первого предложения художественного текста. Д.С.Лихачев в одной из своих работ отмечает, что пространные названия древнерусских литературных памятников были одной из характерных черт их поэтики и входили «в саму суть художественной системы» (170.71). Развернутые заглавные конструкции с обязательным указанием жанра произведения настраивали «читателя или слушателя на нужный лад», заранее предупреждали, «в каком «художественном ключе» будет вестись повествование» (170.71-72). О двух особенностях архаического заглавия говорит и В.Руднев: «То, что в современном заглавии ушло в пресуппозицию (или в глубинную структуру), в старом заглавии лежало на поверхности, - его указательно-рефлексивное значение. Вторая особенность состояла в том, что старое заглавие очень часто эксплицировало жанр того произведения, репрезентантом которого оно являлось - повесть, слово, сказание, моление, песнь» (247.50). У Сологуба обнажается сам механизм перехода от первого предложения текста к заглавной формуле: «творю...легенду» - «Творимая легенда» - метаморфоза глагольной формы, и образуется словесный «клон». Это - «оплодотворенное яйцо», несущее полную «генетическую» информацию, и прежде всего о специфике жанра романа. Ильев пишет: «В свою очередь это название («Творимая легенда») выступает как знак целого текста, заключенного в жанровые границы, поскольку в названии дано жанровое определение произведения, а именно: легенда» (139.13). Существенно, что в этой (второй) своей части заглавие стереотипно, ибо ориентирует на «знакомое»: легенда известна как древний жанр устного народного творчества. В ней - «элементы чудесного, фантастического, но воспринимаемого как достоверное, происходившее на границе исторического и мифологического времени или в историческое время» (166.45)
Формулы «начал» как делимитаторы и интеграторы текста «Творимой легенды»
Как мы показали, заглавная формула генетически восходит к предисловию первого романа. Оно выступает непременным маркером начала сологубовских романов. «В архитектонике романа Федора Сологуба главную роль играют авторские предисловия как служебные тексты, своеобразно описывающие текст художественного произведения» (139.11). Рефлексия над феноменом предисловия в прозе Сологуба в критической литературе началась еще в начале века. Редько обратил внимание «на две существенные черты Сологуба: во-первых, в его романе самая убийственная вещь - гордое предисловие...» (239.79). Отчасти вторя своему коллеге по перу, современная исследовательница пишет: «Его (Сологуба. - М. Л.) громадный трехтомный роман, получивший в целом программное название «Творимая легенда», но также широко известный под экзотическим заголовком первого издания его первой части «Навьи чары», открывается декларацией, ставшей широко известной и самым, вероятно, крайним выражением отказа русских декадентов от каких-либо обязательств нравственного и эстетического характера, кроме полной отдачи художественным прихотям своевольной фантазии: «Беру кусок жизни...» (280.193). По ее утверждению, заявленный уже в предисловии «произвол воинственного авторского субъективизма пронизывает каждую страницу всех трех частей романа...» (280.193). И.Хольхузен считает, что часто цитируемые начальные строки «Творимой легенды» являются яркой экспликацией такой (монологической) манеры изображения, при которой «я» рассказчика растворяется в «я» автора (353.18). Начиная роман в духе экспериментаторства - на что указывают глаголы в стандартной перформативной позиции (беру, творю) и акцентуализация предметно-личного местоимения (я), - Сологуб, по мысли исследователя, заявляет о пренебрежении всем традиционным и известным. Таким образом, являя собой тезис, проблему и тему романа (Ильев определяет такое выражение как «изречение» и, видя в нем характерное начало сологубовских произведений, постулирует: «С изречения (и даже с двух изречений) начинается повествование в романе «Творимая легенда» (139.15)), предисловие обеспечивает связность художественного целого. Но ограничиться только констатацией этого факта было бы не совсем правильным, настолько витиевата и интересна связь зачина как служебного текста с «основным» корпусом текста романа, что представляется необходимым изучить сам ее (этой связи) механизм.
«Беру кусок жизни, грубой и бедной, - начинает Сологуб, - и творю из него сладостную легенду, ибо я - поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, - над тобою, жизнь, я поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном. В спутанной зависимости событий случайно всякое начало. Но лучше начать с того, что и в земных переживаниях прекрасно, или хотя бы только красиво и приятно. Прекрасны тело, молодость и веселость в человеке - прекрасны вода, свет и лето в природе» (15). Напоминая сказочный зачин ( Измайлов говорит о «начале, похожем на запевку» (132.2)), это предисловие играет роль прелюдии и не только настраивает на особый - мистический - лад, но и оттягивает собственно начало романа, начало «творения», усиливает предвкушение того, что затем последует. Заметим, что такие словесные приставки, не имеющие почти отношения к содержанию рассказа, в новеллистике Сологуба - редкость. В большинстве случаев начало прозаических произведений Сологуба предстает как описание места и времени действия (в рассказах «В толпе», «Мудрые девы», «Неутомимость» и др.) или как характеристика персонажа («Красота», «Рождественский мальчик», «Червяк» и др.). В терминах «точки зрения» такое начало может свидетельствовать только об одной системе восприятия, одной - внутренней по отношению к повествованию - точке зрения, исходя из которой даже чудесное имманентно жизни. Совсем иной подход в обозначении границ текста манифестируется в новелле «Красногубая гостья» и в «Творимой легенде» (хотя в романе начальное изречение находится в пределах текста и графически не выделено, а в новелле оно обусловлено непосредственным и наглядным предисловным соотнесением, их подобие кодируется по-другому). В обоих произведениях инсценируется спасение «от злых чар ночного волхования» («Красногубая гостья»). Так Сологубом предлагается своеобразная интерпретация эсхатологического мифа. Констатация чуда в сказке или былине обычно встречается только в начале повествования. Б.А.Успенский пишет: «Действительно, в фантастическом мире былины и сказки чудо, вообще говоря, не удивительно, а закономерно. Сама необычность чуда может быть констатирована только с позиции принципиально внешней по отношению к повествованию... которая возможна в данном случае только в начале повествования» (305.190). Сологуб, прибегая к этому фольклорному конструктивному приему, аналогично решает проблему начала. В зачинах «Красногубой гостьи» и «Творимой легенды» появляется первое лицо рассказчика, «фиктивного» автора. Ср.: «Хочу ныне рассказать о том, как спасен был в наши дни некто, хотя и мало достойный, но все-таки брат наш, спасен от злых чар ночного волхования словами непорочного Отрока... всегда побеждает Тот, кто родился, чтобы оправдать жизнь и развеять смерть» и «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду...». Начало рассказа - пародия на житийные зачины (маска рассказчика - монах или современный агио-Боян) - напомним, что «Красногубая гостья» бьша опубликована в 1909 году, спустя два года после «Творимой легенды», где, по словам Редько, Сологуб выступает уже «философски окрепший проповедник зла» (240.89). Оценочная, внешняя по отношению к повествованию точка зрения рассказчика «Красногубой гостьи» зеркально совпадает с внутренней, с которой как раз чудо должно быть совершенно естественным. Чудо воскресения (о чем мы еще будем говорить) как демонстрация Божественной воли не принимается Сологубом. Использование в предисловии первого лица (рассказчика), представляющего внешнюю по отношению к тексту точку зрения, уже изначально задает разные повествовательные перспективы, с одной стороны, с другой - предостерегает читателя от излишней доверчивости, от веры в чудеса, которые будут описаны. Предисловие к «Творимой легенде» подчеркивает условный характер предстоящего рассказа, вводит нас в ситуацию игры, в мир чистой эстетики. Сологуб играет - играет словами, повторяя их и противопоставляя (грубый -сладостный, жизнь - легенда), нанизывая ряды однородных членов и разворачивая изоколон («Прекрасно тело, молодость и веселость в человеке - прекрасны вода, свет и лето в природе»). Так уже в предисловии эксплицируются определяющие структуру «Творимой легенды» повторы и антитезы. Эти композиционные приемы не просто доминируют в романе, но составляют самое его существо. Несмотря на словесную игру, на которой строится зачин, он совсем не является несерьезной и необязательной частью текста. «Балагурство» рассказчика мнимо, заведомо ложно. Это игра всерьез. Сологуб не столько «человек играющий» (Homo ludens), сколько человек разыгрывающий.
Контрапункт как формообразующий принцип «Творимой легенды»
Как было уже сказано, структурное единство книги Сологуба обеспечивается контрапунктной организацией темы и ее вариациями на различных семантических уровнях. Вопрос, какую «мелодию» взять за основу.
Главная, как нам кажется, тема «Творимой легенды», заявленная, кстати, и в заглавии, в первой же фразе романа, - это тема творения, «гордой мечты о преображении жизни силою творящего искусства, о жизни творимой по воле» (159). В других «регистрах» она звучит как: тема власти и насильственной (тотальной) переделки мира - индивидуальной свободы и изменения (внешнего) собственной жизни - самосовершенствования, внутреннего преображения в акте любви, смерти и творчества. Несомненно, что вдумчивый читатель обнаружит еще множество тем и мотивов, являющихся общими для разных линий, эпизодов романа-трилогии, но мы сосредоточим свое внимание на «многоликой» теме творения и ее выше перечисленных нами синонимах.
При всей силе своей фантазии Сологуб-писатель был прочно связан с общественной и политической реальностью, шла ли речь об эпохе Екатерины Великой (ее представляет в романе маркиз Телятников) или о правлении реально не существовавшей иноземной королевы Ортруды. В этих столь различных на первый взгляд обществах художника прежде всего интересовали черты сходства с его собственным временем. А они были: всюду Сологуб видел господство сильных, власть, основанную на насилии или стремящуюся к нему.
Одна из центральных сцен «пальмской» линии - беседа помилованного королевой лидера повстанцев доктора Филиппо Меччио и Ортруды. Опытный политик, Меччио долго раздумывает, прежде чем пойти на встречу с «главою враждебной власти»(335). «В уме складывались доводы за и против, а чувство гордого пролетария настойчиво говорило: «Не надо. Не ходи. Будь непримирим» (335). Но пролетарий и королева встречаются. Роман об Ортруде и «скородожские» главы взаимосвязаны через прием повтора: «Революция, -замечает А.Измайлов, - подготавливается и там, и здесь» (128.3). Эпизоды встречи организаторов «новой жизни» и их противников имеются и в «российской» части третьего романа: «истинный пролетарий»(442) Триродов беседует с маркизом Телятниковым («...маркиз отдал Триродову визит» (509)) и вице-губернатором Передоновым («К Триродову командировали для объяснений скородожского вице-губернатора...»(523)) -образ Передонова «пришел» в «Творимую легенду» из «Мелкого беса»; этот интертекстуальный повтор свидетельствует об автоцитации как осознанном художественном приеме Сологуба. Если королева сама изъявляет желание увидеть подчиненного, то ее российские «коллеги по власти» таким желанием не горят. Во всех трех сценах разговор идет о том, что составляет предмет вожделений в любой революции - о власти. «Интерес всякого человека в господстве, - говорит «бессильная узница власти»(330), королева Ортруда. - Но господствуют только сильные. Они и законы дают, и права устанавливают. Только в силе -основание всякого права» (340). В этих словах не столько согласие, сколько полемика с ницшеанской концепцией «воли к власти», допускающей неравенство, а значит и несвободу индивидов. Субъект «морали господ» - сверхчеловек - пародийно дан в образе Передонова. Эта «белокурая бестия» рычит свирепо Триродову: «За мною не аргументы, а высокий авторитет власти... Власть опирается на силу - вы это слышали? О волевых импульсах слышали? Кузькину мать знаете? Власть - этим все сказано» (525). Признавая право сильного и мня себя таковым («С вами говорит не какой-нибудь шелкопер, а скородожский вице-губернатор, действительный статский советник Передонов!» (525)), российский «сверхчеловек» пытается доказать свое право повелевать уже самой своей внешностью и манерой держаться: с «тупою важностью»(523) он смотрит на собеседника и с забавной, для Триродова, серьезностью говорит. Передонов не допускает мысли о неповиновении начальству: «Спрашивать разрешения всегда и на все надобно. Всякий станет делать, что захочет, так никакого порядка не будет» (524). Меччио утверждает как раз обратное: «Кто хочет, тот и может»(337). Вспомним, эту фразу дословно повторяет Триродов в начале третьего романа (она «рифмует» «скородожские» и «пальмские» главы романа). Ортруда, в отличие от Меччио и Триродова, не верит в свои возможности: она - слабая, а участь слабых у власти людей - смерть. Королева по-ницшеански проповедует индифферентность «воли к власти» к происхождению: « Я скоро умру, - говорит она. - Престол мой будет праздным. Изберите опять короля, человека, не рожденного царствовать, но достойного этой доли. Изберите гения, поэта, - из иной, далекой страны, - хоть из Америки или из России» (340) -этим королем из пролетариев и станет Триродов. Подчеркнутая тупость, злобность и агрессивность российской власти диссонирует с той позицией, которую занимает Ортруда: «Мы враждуем внешне, как поставленные вы там и я здесь. Но, как люди, мы можем смотреть друг на друга без злобы. И о вас я сохраню приятные воспоминания» (341). Королева понимает главное: в социализме «с республикою и с революциею» (339) нельзя забывать о человеке. Сологуб едва ли не первым в русской революции точно понял, что и в периоды социальных потрясений человек остается главной темой и предметом литературы, и с этим сознанием он изобразил революцию, в которой полагалось видеть противостояние «масс» столь же обезличенной в своей многоликости власти. Революция, показал Сологуб, не выдерживает испытания человеком, равно как человек не выдерживает испытания революцией.