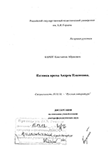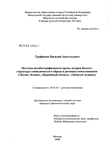Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Жест в семиотике культуры . с. 14
Из истории вопроса с. 14
Классификация жестов с.32
Глава 2 Пластический жест и образная система романа «Петербург». с.46
О художественных особенностях романа «Петербург». с.46
Банальные жесты. с.52
Идея разъятия мира : марионетки, тени, абрисы, силуэты . с.59
Ритуальные, мистические, оксюморонные жесты. с.70
Глава 3 Жест как знак и символ ситуативного общения с.87
На подступах к «детской теме»: эмбриональные жесты в повести «Котик Летаев». с.87
Психологические и художественные жесты, с. 101
Другие проявления жестовой образности в повести «Котик Летаев». сЛ12
«Крещеный китаец»: от мифологии к истории.Детерминанты творчества. с.120
Некоторые особенности нарративной структуры произведений Андрея Белого / о нарративной роли жестов с. 133
Жестовое выражение амбивалентных отношений героев . с. 142
Некоторые графические особенности прозы Белого. с.152
Заключение. с. 157
Список использованной литературы. с.165
- Из истории вопроса
- О художественных особенностях романа «Петербург».
- Идея разъятия мира : марионетки, тени, абрисы, силуэты
- На подступах к «детской теме»: эмбриональные жесты в повести «Котик Летаев».
Из истории вопроса
Жесты, телодвижения, мимика и другие поведенческие нюансы как совокупность видимых проявлений личности, чаще всего остаются без внимания. При этом автоматически они как бы лишаются статуса опосредованных выразителей онтологической сущности человека. Ценность и значимость невербальных средств коммуникации отмечают, прежде всего, прикладные науки, находящие широкое практическое применение. Психологи и психоаналитики все активнее изучают несловесную деятельность человека, подтверждением чему служат интересные работы последних лет (хотя они и имеют сугубо прагматический, социальный вектор направленности).1 В такого рода исследованиях ключевым является понятие о теле как индикаторе отношений человека с миром: «Пластика тела выражает наши ключевые отношения к людям и событиям. Бели мы меняем эти отношения, тело продемонстрирует это изменение присущим ему способом».2 Потребности изучения языка тела для исследования поведения человека вызвали к жизни новую науку — кинетику; кинетика, или язык тела, изучает «поведенческие проявления бессловесного общения между людьми. ...Гораздо важнее понимать человека по его движениям и взглядам, так как слова могут быть лживы»3, — считает исследователь кинетики Дж. Фаст. Но, разумеется, человеческое общение не могло строиться только лишь на языке тел. И здесь мы сталкиваемся с проблемой соотнесенности вербального и невербального аспектов коммуникации, с их долей информативной насыщенности. Пластика тела, выражение глаз, движение рук и ног, всего тела, то есть целостная пластический образ человека, в процессе коммуникации может нести 60-80% информации, тогда как слова — лишь 20-40%. Именно эти данные позволяют некоторым исследователям делать весьма убедительный, но все же не бесспорный вывод: «Особенностью языка телодвижений является то, что его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания, и отсутствие возможности подделать эти импульсы позволяет нам доверять этому языку больше, чем обычному, вербальному каналу общения».4
Нам представляется возможным подчеркнуть, что без жестов, пластических движений, мимических реакций наша речь, наше общение были бы сплошным, трудно понимаемым актом говорения. Жесты вносят смысловую ясность, маркируют то или иное пространство диалога, речи, текста, становясь своеобразными «знаками препинания». О подобной смысловой и эмоциональной ценности жеста говорил артист В.Папазян: «Речь без жеста также нелепа, как текст без знаков препинания».5
Но поскольку жестом не ограничивается и не исчерпывается весь спектр телесной, пластической воплощенности человека в мире, то мы будем говорить и обо всех прочих возможных данностях физического тела — мимике, позах, движениях и действиях персонажей. Понятия «телодвижение», «мимика», «жест» тесно связаны между собой, часто они «работают» в единстве в ситуации, когда речевое общение невозможно или недостаточно полно. Поэтому, не случайно возникает такое интегративное определение как «мимико-жестовая речь» {или «мимико-жестовое общение»). Мимико-жестовая речь в энциклопедическом толковании — это «совокупность неязыковых средств человеческого общения, связанных с движением рук, тела, мышц лица».6 Любопытно, что даже сам акт говорения может быть отнесен нами мимико-жестовой речи. Б. Эйхенбаум в размышлениях о поэзии Анны Ахматовой точно подметил этот факт: «...становится ощутимым самое движение речи — речь как произнесение, как обращенный к кому-то разговор, богатый мимическими и интонационными оттенками».7 «Слова стали ощущаться не как «звуки», — продолжает свою мысль Эйхенбаум, — и не как артикуляция вообще, а как мимическое движение».8 Сходные особенности поэтики и стилистики характеризуют, по нашему мнению, и творчество А. Белого, чьи тексты требуют именно произнесения, проговаривания, на что неоднократно указывал и сам Белый.
Существуют частные, укоренившиеся определения интересующих нас понятий (ими мы и предполагаем оперировать в данном исследовании). «Мимика (греч. mimikos) — «подражательные, выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств, настроений человека».9
О художественных особенностях романа «Петербург».
Традиционным уже представляется взгляд на «Петербург» как один из сложнейших в плане «перевода», прочтения, понимания романов Андрея Белого. Однако трактовка других его произведений вряд ли покажется исследователям простой и очевидной. Дело не только в том, что «Петербург» /опять-таки традиционно, канонически/ считается вершинным произведением Белого-прозаика.1 Роман был изначально рассчитан на многообразие прочтений, многообразие интерпретаций, в чем немалую роль сыграли неоднократные переработки автором начальной редакции романа. Это в свою очередь составляет существенную трудность для исследователей в плане установления «законченного», завершенного текста в его безотносительности к динамике и процессуальности различных редакций. Существует несколько редакций романа, по мнению Л.К. Долгополова, их шесть. Примечательно, что рукописного варианта хотя бы одной из них полностью не сохранилось. Поэтому текстологический анализ подчас затруднен из-за разноголосицы предлагаемых исследователями редакций. Свои наблюдения над поэтикой романа мы проводили, используя, так называемый, «сириновский» текст «Петербурга», ныне опубликованный в собрании сочинений А. Белого. Безусловно, сопоставление редакций романа важно и необходимо, сам текст романа постоянно отсылает нас к этому; так, в частности, упоминание словесного ряда «лак, лоск, блеск» восходит к одному из предполагаемых названий романа «Лакированная карета». Но мы не задавались целью проследить трансформации поэтики романа в процессе его редактирования автором. Споры о том, какую редакцию романа считать по значимости первостепенной, еще долго будут актуальны и востребованы исследовательским и читательским вниманием. Своеобразное решение этого спора предложил О. Клинг, не отказываясь при этом от признания, в первую очередь, сокращенного варианта: «Создавая сокращенную редакцию, Белый лишь до конца реализовал замысел — написать прозаический роман, решенный поэтическими средствами изображения. И потому мы должны читать «Петербург» в последней редакции - согласно авторской воле. В тех же случаях, когда нужно восстановить влияние романа Белого на читателей начала века, следует обращаться к «сириновской» редакции. Безусловно, будущее академическое издание «Петербурга» должно состоять из двух вариантов - полного и сокращенного» .3
Вывод, сделанный О. Клингом, весьма убедителен, но все же вызывает некоторые сомнения: разве влияние романа, скажем, на читателей конца века не представляется ценностным и значимым?
В «защиту» полного варианта редакции высказался П. Флоренский, считая, что в сокращенной версии с упрощенным языком Белый хотел придать роману псев до популярный характер. «Но общедоступным роман от этого, конечно, не стал, напротив, внутренний его смысл сделался менее доступным. Ведь суть «Петербурга» в передаче чувств мнимости, призрачности Петербурга, в тревоге, оторванности Петербурга от страны. С упрощением языка, с сокращением текста эти моменты ослаблены до неузнаваемости, тогда как никакой новой сути в произведение не вложено. Роман напоминает пересказ «своими словами» «Петербурга» в первоначальной редакции, бледную копию вещи очень сильной...».4 Текст произведения — всегда загадка для исследователя, в том, что он ультра личностей, сомневаться не приходится. Более того, по утверждению Р. Барта «текст обладает человеческим обликом; может быть, это образ, анаграмма человеческого тела?»5 Мысль Барта перекликается с размышлениями М. Ямпольского о А. Синявском, который «буквально видит отражение в тексте мимической игры склоненного над ним лица Гоголя».6 Именно с точки зрения изучения этой «анаграммы человеческого тела» нам прежде всего и интересен роман Белого «Петербург» и его творчество в целом. «Передо мною мир стоит / мифологической загадкой», — писал Белый в поэме «Первое свидание». 7И он был не одинок в подобном мироощущении: таинственная незнакомка Блока, «неясное грядущее» Бальмонта, мир, «как явленная тайна» Пастернака — феномены того же плана. Однако у Белого непроясненность бытия принимает всеобъемлющий характер; призраки, тени, двойники, маски наполняют другой мир, второе пространство. Очевидна несовместимость переживания жизненной реальности и поэтического видения творца. В «Петербурге» доминирующее мировосприятие героев приобретает устойчивую форму: «Все кругом было: тем — да не тем»/23/. Таков же лейтмотив повествования «Котика Летаева»: «Действительность — не сон; но она — не действительность... Действительность — дыра в древнем мире» /КЛ, 329/. Более того, границы другого мира лишены четких контуров и неустойчивы: «Явь ушла в полусон: в полусон вошла сказка» /КЛ, 359/. Белый сознательно уходит от простоты и определенности, соединяет несоединимое. Его мир — это фантасмагория, калейдоскоп эпох и культур, едва уловимая грань реального и призрачного, сущего и желаемого. Для одних этот мир — мифология, тайные письмена, для других — схема, жесткая регламентация, циркуляр. В размышлениях о судьбах русских символистов Эллис удивительно тонко подметил важнейшую доминанту творчества Бальмонта, указав на «двойственное противопоставление действительности и мечты, смутного и грустного бессилия «здесь» и бесконечного полета «там», горького одиночества и молитвенного искания христианского неба»8. Думается, столь же справедливо эти слова могли бы быть сказаны и по отношению к Андрею Белому, чьи духовные и душевные метания находили свое воплощение сложно-неясном философствовании.
Идея разъятия мира : марионетки, тени, абрисы, силуэты
Но видимая ясность, простота, незамутненность жеста в его банальном выражении — это не только одна из качественных констант данного вида жестов. Банальные жесты имплицитно содержат указание на их неприродный, механистический источник происхождения. Таким образом в романе оформляется мотив марионеточности, кукольности персонажей. Неестественность, неуклюжесть, нелепость — такими «отрицаниями» подчас строится образ. Гоголевский прием подачи персонажа с помощью негативов, типа «не, ни», Белый вводит в образную ткань «Петербурга». При этом формально может быть изменен вид отрицания, но семантика его останется прежней, поэтому образ может нести на себе отпечаток изъятия из него всего конкретного, органического. По этому типу во многом «сделаны» сенатор Аблеухов, его сын, подпоручик Лихутин и другие персонажи: «сухая фигурочка, без волос, без усов, без бровей ... выделялись лишь контуры зеленоватых ушей — где-то там, где-то там» /161/, «был ...высокого росту, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и чудесно блистающими глазами: но он был, к сожалению, в очках и никто не знал ни цвета глаз, ни чудесного этих глаз выраженья» /66/, и даже людская многоножка была «без головы, без хвоста, без сознанья, без мысли» /261/. В результате такого изъятия появляется ситуация, которую Белый в «Мастерстве Гоголя» определил как «не то».
«Не то» характеризует мироустройство Белого в целом. Художественное преломление категории «не то» становится лейтмотивом «Петербурга», о чем убедительно свидетельствуют такие примеры: жители островов — «ни люди, ни тени» /210/; «идущие были те, да не те» /270/; «окно — не окно; окно — вырез в необъятность» /89/; «стена — не стена, ...она проницаема и там есть какой-то невидимый свет, какие-то зоны бессмыслиц» /194/; «все, что было за дверью, было не тем, а иным» /238/ и т. д. В данном отношении предшественником Белого можно было бы назвать Ф.М. Достоевского, у которого «не то» стало фундаментальной категорией поэтики.17
Но само представление о внеконкретной, трудно опредмечиваемой реальности нам важно еще и потому, что на его фоне ярче отражаются марионеточность, автоматизм в поступках персонажей, «не тот» источник деятельности. Деформации тела, жеста у героев «Петербурга» — из стремления разъять на части, разрушить ту целостность, которая, собственно, и делает тело телом.
В этом видится нечто обратное от предшествующей традиции создания образа, когда психика и соматика персонажа представляла собой неделимое единство и формула типа «в этом не-теле» просто не могла быть востребованной.18 Для творческих же экспериментов Белого это вполне приемлемо: «Лишившийся тела, все же он чувствовал тело...; и в этом не-теле ...открылось чуждое «Я» /242/. Из современников в этом отношении Белому наиболее близок Ф.Сологуб, чьи «мелкие бесы» могли послужить автору «Петербурга» своеобразными прототипами собственных персонажей: «Глядя на его расторопные, отчетливые движения, можно было подумать, что это не живой человек, что он уже умер»; «как бы не живые, оловянного блеска, глаза. Как будто кем-то вынута из него живая душа и положена в долгий ящик, а на место ее вставлена неживая, но сноровистая суетилка».19 У Сологуба и Белого очень много общего в способах подачи персонажей, трактовке невербального в их произведениях, а также в оформленности тем и мотивов. Сравним: «Казалось, что в этом городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но все это только казалось» у Сологуба и «Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует» — у Белого. Многие персонажи «Петербурга» напоминают марионеток. Николай Аполлонович — домино, красный шут, богоподбный красавец с иконописным ликом, лягушонок. Петрушка; это все лишь разные маски одной и той же «куклы». Моторика образа соответствующая: Николай Аполлонович «равнодушно заметил, что ноги его совершенно отсутствуют: бестолково захлюпали в луже какие-то мягкие части, тщетно он пытался с теми частями управиться» /183/; «у него свисали с плечей две совершенно ненужных руки по обе стороны туловища» /116/. «Ненужность» рук и «отсутствие» ног не только декларируется, но и утверждается сопутствующей характеристикой — «совершенно». Телесность сенатора Аблеухова в некотором смысле ставится Белым под вопрос, ведь «совокупность сухожилий, кожи, костей» всего лишь именуются телом /182/. Он как ни кто другой зависим от «нитей кукловода», в качестве которых выступают жесткая регламентированность его воззрений и статус высокого сановника.
На подступах к «детской теме»: эмбриональные жесты в повести «Котик Летаев».
Ранее нами уже отмечался избирательный интерес ученых к «Петербургу», поэтическим циклам, мемуарной трилогии Белого, тогда как первые произведения из автобиографического цикла — «Котик Летаев» и «Крещеный китаец» — осмыслены менее детально и творчески. В автобиографический цикл «Моя жизнь» должны были войти романы «Котик Летаев», «Коля Летаев», «Николай Летаев», «Леонид Ледяной», «Свет с востока», «Сфинкс», «У преддверия Храма». Подобная номинация не случайна: внутренние ощущения сам о постигающего «Я» даются Белым через «образы юности, зрелости, старости в их пластически-живописной непрерывности».1 Эпохальные события пересекаются с «историей внешнего человека», по выражению М. Бахтина.
Однако воплотить замысел в полном объеме не удалось. Непосредственное продолжение «Котика Летаева» — роман «Преступление Николая Летаева» — было написано в 1921 году и при переиздании получило название «Крещеный китаец». Сложность художественной манеры А. Белого, способность проникать в «дочеловеческие и сверхчеловеческие» знания тонко подметил С.Есенин: «В «Котике Летаеве» — гениальнейшем произведении нашего времени — он (Белый — ОМ.) зачерпнул словами то самое, о чем мы мыслим лишь тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые в нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи».3
Сложность попытки «воскрешения впечатлений и переживаний, отмирающих или тускнеющих у взрослого человека»,4 понимал, конечно, и сам автор. Этим объясняется создание своеобразного пояснения Белого — предисловия к повести «Котик Летаев» (пояснение это в равной мере могло бы быть отнесено и к роману «Крещеный китаец»). Белый писал: «Природа наделила меня необыкновенно длинной памятью: я себя помню (в мигах) на рубеже третьего года; природа наделила меня способностью помнить трудноописуемые в слове моменты становления сознания».5 Именно эта тема становления сознания, данная через историю внешнего человека, является объединяющей для таких разножанровых произведений как «Котик Летаев» и «Крещеный китаец».
Один из первых отечественных «беловедов» — Л.К. Долго полов — считает, что лучшее из написанного Белым после «Петербурга» — это мемуары «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революциий».6 Но ведь после «Петербурга» Белый создал наиболее интимные, исповедальные произведения. Сам Андрей Белый (а для исследователя это уже священная ипостась) относил «Котика...» и «Крещеного китайца» к числу тех книг, в которых он сознательно выступал «как художник слова». Современники по-разному оценивали художественные прозрения Белого в младенчество: это и восторженный отклик Есенина, и сарказм Троцкого по поводу расходящихся в никуда кругов и бесплодности и мнимой глубине «воспоминаний Белого о младенчестве»,8 это и более объективное суждение В. Шкловского о «Котике Летаеве» как произведении «неудачном, но очень значительном».9 В современном беловедении интерес представляет взгляд на «Котика Летаева» как на результат «творческой переориентации Белого, роман, в котором экзистенциальное сомнение сменилось антропософской уверенностью, где «модернизм» ... был унаследован ... новым «мифическим реализмом».10
Повествовательная проза Белого, что подчеркивают многие исследователи, — это попытка рассказать о рождении (буквальном и метафорическом) загадочного, таинственного «Я» — «Я» собственно, Имя Рек, Индивидуум».11 Но как обычными словами описать тот путь, с которого оно начинается? Бытие Котика Летаева берет свое начало не с факта появления на свет, а гораздо раньше: «И в мимическом жесте (не в слове, не в образе) встает память о памяти, пересекая орнаменты мне в собственный жест мой в стране жизни ритмов: там был до рождения я» (КЛ, 4G3).12
Гносеологические посылки подобного утверждения очевидны: пластическое ощущение мира, непосредственные физические впечатления даются нам ранее логических построений. Вероятно, чтобы адекватно транслировать это, одного слова оказалось недостаточно. Самопознание— постижение мира в себе и себя в мире — мыслится юным героем (или автором, припоминающим себя) «пульсом без слова» : «И каждое слово я должен расплавить в текучесть движений» (365). Такое под силу человеку с феноменальной памятью, которой и обладал Белый-писатель.
Неоформленные ощущения младенца во чреве матери, попытка отразить первые проблески сознания в сопряжении с трансцендентной сущностью бытия — вот, что волновало автора, чье внимание к запредельному, мистическому в этом произведении повышено как никогда раньше. Дерзновенная и рискованная задача, с которой автор, безусловно, справился, хотя и сетовал на то, что «переживания, описанные в повести..., кажутся многим весьма надуманными; и от того непонятными».14 И далее в своих мемуарах Белый пишет: «... и не я виноват, что иные из подлиннных переживаний выглядят непонятными для тех, кто не в состоянии пережить их».15