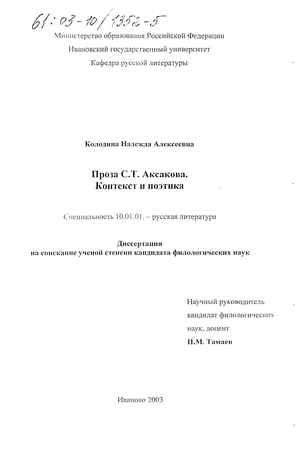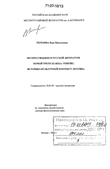Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Проблема «русской художественной школы» и проза СТ. Аксакова 25
1.1. Слово, мысль и душа прозы СТ. Аксакова 31
1.2. Понятие прозы СТ. Аксакова как художественно-смыслового единства 57
1.3. Дилогия или трилогия СТ. Аксакова? Границы художественности 81
Глава 2. Поэтика прозы СТ. Аксакова 109
2.1. Тема Домостроительства в прозе СТ. Аксакова. Поэтика и семантика мужских образов 112
2.2. Образ жены и матери в прозе СТ. Аксакова. Поэтика и семантика женских образов . 135
2.3. Мир природы и рода в прозе СТ. Аксакова 150
Заключение 171
Приложение 1. Место сказки «Аленький цветочек» в образно-смысловой системе дилогии СТ. Аксакова «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» 175
Список использованной литературы 191
- Слово, мысль и душа прозы СТ. Аксакова
- Понятие прозы СТ. Аксакова как художественно-смыслового единства
- Тема Домостроительства в прозе СТ. Аксакова. Поэтика и семантика мужских образов
- Образ жены и матери в прозе СТ. Аксакова. Поэтика и семантика женских образов
Введение к работе
Проза СТ. Аксакова до сих пор основательно не изучена, особенно в ее связи с исканиями русской литературы второй половины XIX века. Уже сложившиеся в литературоведении эстетические рамки не позволяют адекватно оценить и проанализировать те явления отечественной словесности, которые не вписываются в традиционные представления о жанрах, школах и направлениях русской литературы. В последние десятилетия современная филологическая наука предполагает выход за рамки стереотипного представления об отечественной словесности.
Рассуждая о закономерностях и антизакономерностях в литературе, Д.С. Лихачев выдвигает принцип дополнительности, следуя в своих суждениях за Нильсом Бором, доказавшим, что в физическом мире могут сосуществовать две картины, которые не исключают, а дополняют друг друга: волновая и в виде частиц, живущих сами по себе. По мнению Д.С. Лихачева, то же происходит и в литературе: есть некоторые общие законы, по которым развивается то или иное литературное направление, а есть произведения, которые живут независимо от этой общей внешней закономерности. Свои размышления Лихачев формулирует следующим образом: "Каждая литература представляет собой некоторое единство, состоящее из того, что можно назвать "отдельностями". Эти отдельности - не только произведения, а часто совокупности произведений, и эти совокупности не всегда совпадают с тем, что мы называем жанрами"1. Наиболее яркое свидетельство, подтверждающее это суждение, мы находим в творческом наследии СТ. Аксакова, представляющем уникальное явление отечественно!! словесности 40-60-х годов XIX века. 1 Лихачев Д.С. Строение литературы (К постановке вопроса). // Русская литература. 1986. №З.С27. Далее ссылки на то или иное издание приводятся в тексте работы в квадратных скобках с указанием порядкового номера по списку литературы к диссертации и страницы.
Произведения Сергея Тимофеевича Аксакова уже его современниками оценивались как явление редкое, небывалое, требующее особо пристального к себе внимания. Константин Аксаков говорил, что "сочинения СТ. Аксакова стоят совершенным особняком в литературе нашей", и подчеркивал, что они "требуют особого определения, особой оценки и имеют свое особое значение среди нашей литературы" [7;207; Курсив наш - Н.К.]. И.С. Тургенев в своем письме к Ивану Аксакову актуализирует эту мысль: "Вашего покойного батюшку до сих пор не оценили критически, как бы следовало" [112;369]. Суждения современников СТ. Аксакова, в процессе исследования первопричин его творчества, оказываются не просто историко-литературным материалом. Они являются концептуальными положениями, так как помогают понять и раскрыть "духовное бытие писательской личности после смерти" [194;60], ее "светоносное" (если воспользоваться гоголевским словом) воздействие не только на дальнейшее развитие литературы, но и на духовное человеческое сознание в целом.
Мысль о необходимости внимательного прочтения книг СТ. Аксакова поддерживается многими современными исследователями его творчества. Она является сквозной, определяющей в фундаментальном исследовании СИ. Машинского, который утверждает, что совершенно "не разработаны до сих пор некоторые вопросы, существенно важные для изучения творческого пути Аксакова" [276; 10]. Это суждение вполне корреспондирует с пафосом статьи В.В. Кожинова, писавшего о «Семейной хронике»: «...очень многие из тех, кто вообще-то знает об этой книге <...> на самом деле ее не прочитали, не пережили, их сознание не обладает этим бесценным сокровищем» [247; 19].
До сегодняшнего дня читателей поражает абсолютная универсальность и безусловная искренность книг СТ. Аксакова. До сих пор встреча с его творческим наследием доставляет не только эстетическое, но и глубоко духовное наслаждение. Все в его произведениях просто и открыто читателю.
Но именно эта обманчивая простота и явилась причиной того, что долгие годы книги СТ. Аксакова оставались не прочитанными, не осмысленными.
По нашему глубокому убеждению, возникает необходимость такого осмысления книги, при котором будут затронуты все струны читательской души, при котором вскроются все тайники авторского видения мира. И.А. Ильин, вслед за древнерусскими книжниками, так определяет методику проникновения в художественный мир писателя: "Читать - значит искать и находить, ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад" [149;231]. В этом заключается сокровенный, сакральный смысл книги, ее слова, открывающего тайну мира, объясняющего систему мироустройства. Этим объясняется то, что уже в XI веке в древнерусских текстах встретим мы своего рода наставление, поучение о том, как нужно постигать слово: "Когда читаешь книгу, не старайся быстро дочитать до следующей главы, но подумай, о чем говорит книга и слова ее, и трижды обратись к одной главе, ибо сказано: "в сердце моем сокрыл я словеса твои, чтобы не погрешить перед тобою" [107;34]. Проблема эта не утрачивает (и по прошествии нескольких веков) своей актуальности, ведь именно она отвечает на подчас очень трудный для читателя-исследователя вопрос: с чего начинается книга? Этот вопрос предполагает обращение к осмыслению, казалось бы, уже известных в отечественной филологии понятий: слово и текст.
В 40 - 50-е годы XIX века продолжается разработка национального языка -"языка национального реализма" , в котором бы органически слились язык богослужебных книг с живой простонародной речью. Долгое время духовный смысл русской литературы замалчивался, поэтому для нас принципиально важно суждение В.А. Котельникова о том, что "русское книжное слово возникло как слово христианское. Это было слово Библии, литургии, жития, слово Отцов Церкви и святителей. Письменность наша при начале своем подобна храму: она предстает устремленной ввысь и увенчанной крестом". ' См. подробнее: В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII -XIX в., М., 1982. с. 412-415.
6 [160;6]. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо говорить о разных сторонах или аспектах слова в прозе С. Т. Аксакова, которому в большей мере, чем Н.В. Гоголю, удался синтез духовного и народного начал русского национального языка.
Произведения СТ. Аксакова поражают обилием слов, номинирующих явления, факты русской действительности, мира, который еще не был открыт русскому читателю. География Зауралья, просторы заволжских степей, которые раньше (уже у древнерусских книжников) вызывали страх и ужас, не просто становятся новым местом действия в произведениях Аксакова, но осмысливаются писателем в качестве нового пространства повествования. В письме к Н.В. Гоголю от 26 июля 1847 года Аксаков уже обозначил пространство своих будущих книг: «К тому же вам необходимо поездить по России. Надобно заглянуть в глубь ее, в степную, приволжскую сторону» . Очевидно, что данное замечание не только расширяет географию повествования, но и подразумевает глубинное постижение этого пространства.
Поэтому особенно важно учитывать при анализе произведений русской литературы второй половины XIX века процесс синтеза "бытийной" и "бытовой", "духовной" и "светской" сфер, что наиболее яркое выражение нашло в творчестве СТ. Аксакова. Так, например, в образе Софьи Николаевны, получившей светское образование и учившейся "так прилежно, что скоро могла понимать французские книги, разговоры и даже выучилась немного говорить по-французски" (І;125), в судьбоносные моменты жизни обнаруживается стремление к высшему соединению с Богом в покаянии и молитве, что приносит героине исцеление (1;240) и приближает ее к истинному знанию (1;158). 1 Аксаков СТ. История моего знакомства с Гоголем. // Аксаков СТ. Собр. соч.: В 5 т. М.,1966. Т.З. С.343. Курсив наш - Н.К. Далее ссылки на это издание даны в тексте работы в круглых скобках с указанием номера тома и страницы.
При таком подходе к слову в творчестве того или иного писателя необходимым оказывается осуществление анализа литературного наследия в его совокупности, то есть исследование его произведений, записок, дневниковых записей, писем в их предельной целостности, при которой раскрывается "процесс соприкосновения литературного произведения и общественного сознания эпохи" [194;60].
Отношения между литературным произведением, литературным словом и общественным сознанием в разные эпохи были разными. Древнерусский текст открывал читателю истину христианского вероучения, помогал человеку открывать в себе нового внутреннего Человека. В XVIII веке слово в произведении выполняло идеологическую функцию. Лишь в конце XVIII-первой третьей XIX века в отечественной словесности устанавливаются новые отношения между жизнью и словом, словом и произведением, когда на первый план выходит эстетическое начало. Этот краткий историко-литературный экскурс вновь возращяет нас к мысли, что середина XIX века отмечена серьезными поисками синтеза вещного и вечного (светского и духовного, материального и идеального) в языке. Поэтому первый уровень литературоведения, в качестве филологической дисциплины, изучающей тексты светской литературы (особенно произведения отечественной словесности XIX столетия), должен быть связан с определением контекста "отдельного слова, изымаемого из, условно говоря, светского контекста и помещенного, условно говоря, в контекст религиозный" [200;231].
Феномен художественного творчества С. Т. Аксакова состоит в том, что в его произведениях "отражалась литературно-эстетическая жизнь от Г.Р.Державина до Л.Н. Толстого" [320; 188]. Поэтому слово Аксакова -писателя - слово бытовое, слово духовное, слово абстрактно-понятийное, слово - идеал, то есть ключевые слова самого времени, самой эпохи, обращенные к вневременным пространствам. Такое понимание слова С. Т. Аксакова выразил в эпилоге своей "Семейной хроники", в котором заметил, что он писал не о своих родных и знакомых, а о "добрых и недобрых людях" - образах, в которых "есть и светлые и темные стороны" (1;259). Они "не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли <.. > свое земное поприще" (1;260). Аксакова интересует их "внешняя и внутренняя жизнь" (1;260), которая была исполнена поэзии и поучительна для потомков. В этом заключительном отрывке "Семейной хроники" очевидны разные пласты русской словесности: реально-бытовой (тишина и безвестность земного поприща) и духовный (мир людей, в которых есть и доброе и худое).
Таким образом, "ближний" контекст позволяет осуществить связь с "дальним" контекстом.
Слово в литературном произведении должно рассматриваться нами и как средство реализации авторской воли; важно рассмотреть сцепление слов, "плетение словес", возникновение словесного полотна текста, которое обнаруживает "замысел его создателя" [174;9]. Чтобы понять авторский замысел, чтобы судить о "человеке, стоящим за текстом, надо прежде всего прочесть, изучить и понять сам текст" [134;83]. Необходимость концептуального анализа, когда предметом исследования выступают не слова, а мысли автора текста, связана со стремлением к реконструкции смысла и содержания литературного произведения. Отечественная словесность XIX века, и особенно второй его половины, отразила процессы расподобления духовного бытия человека и его творческих устремлений, что наиболее ярко обозначилось в писательских судьбах Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого; поэтому при анализе художественного текста прежде всего важны "интонация, ритм, ассоциативный ход, непрямая, намекающая на источник, цитация (не столько фрагментов, сколько мотивов) священного Писания" [200;235], принимающие на себя основную смысловую нагрузку, позволяющие осознать антропологию писателя, его понимание человека. Так, суровый и непреклонный Степан Михайлович Багров в переломные, драматические моменты судьбы и жизни всего дома становится носителем Истины, передает свои знания о мире другим.
Воспринимая созданный автором текст в качестве осознанного единства, читатель рассматривает его как "иерархию" кодов, которые выявляют скрытую семантику одного реального данного ему произведения искусства" [177;72]. Тем самым осуществляется связь между реально-историческим и контекстуальным пространствами художественного творчества.
Контекстуальное пространство прозы СТ. Аксакова (особенно его диалоги) поражает широтой и глубиной. Написанные, казалось бы, в документально-художественном ключе, выполненные в духе семейных мемуаров, его произведения, казалось бы, не заключают никакой тайны (особенно для близких писателю людей)1.
Возвращаясь к ранее высказанной мысли о необходимости бережного отношения к слову, его истинному смыслу, важно открыть контекст "дальний", увидеть, как из словесной вязи С. Т. Аксакова проступает другая реальность.
При таком подходе к слову принадлежность текста не только определенному жанру, стилю, эпохе, автору, но и какой-то особо важной писателю традиции не просто "заставляет рассматривать внетекстовые связи как нечто вполне реальное, но и показывает некоторые пути для измерения этой реальности" [177;66]. Стремление объяснить художественное явление указанием на его источники должно обращать исследователя не к концу, а к началу, к тому, "от чего повелось" произведение.
Высказанные выше предварительные суждения будут определять структуру нашего исследования и позволяют говорить о разных подходах к творчеству СТ. Аксакова, так как наблюдение над разными проявлениями слова в литературном произведении дает возможность проанализировать его максимально разностороннее и достаточно точно. В этом плане концептуально важно для нас суждение Ильина, в котором он призывает читать книги так, чтобы "с духовной зоркостью проникать до того главного помысла, из которого рождено все произведение" [148;191].
Уже дореволюционные, и тем более поздние, исследователи грешат стремлением "реконструировать" имена действующих лиц. Однако возвращение персонажем их "настоящих" имен разрушает художественную задачу автора и тот удивительно тонкий, но тем не менее надбытийный уровень его созданий.
Поиск этого "главного помысла" как творческого результата определяет цель данного исследования - выявить и осмыслить феномен содержания прозы С. Т. Аксакова, исследовать духовные основы и мифопоэтические пласты поэтики главных книг Аксакова - "Семейной хроники" и "Детских годов Багрова-внука", попытаться понять логику творческого пути СТ. Аксакова, особость его художественного мировидения. Поставленная цель определяет ряд конкретных задач: проследить путь философско-эстетических и религиозно-нравственных исканий СТ. Аксакова в литературном процессе середины XIX века; рассмотреть дилогию СТ. Аксакова как опыт «русской художественной школы» и «домашней» литературы; выявить основные проблемы, темы и идеи творческого наследия СТ. Аксакова в связи с нравственно-философскими и духовно-эстетическими исканиями отечественной словесности середины XIX века; охарактеризовать авторскую концепцию мироустройства в поэтике "Семейной хроники" и "Детских годов Багрова-внука"; раскрыть глубинный смысл образов в творчестве СТ. Аксакова; показать их духовно-сематическое единство.
Характер задач, поставленных перед исследованием, определяет его методологию. Современная филологическая наука предполагает системный и комплексный анализ литературных произведений, в котором бы органически сочетались историко-литературные методы (историко-генетический, типологический), мифопоэтический анализ художественного текста, помогающий открыть "дальние" контексты. В то же время обнаружение глубинных пластов требует осмысления духовных традиций произведения или, как замечает И.А. Есаулов, возникает необходимость осознания и постижения духовного подтекста русской литературы [141;56]. В ходе исследования принципиально важной для нас является мысль И.А. Ильина о том, что Искусство "подобно молитвенному зову, который должен быть услышан; и любви, которая требует взаимности; и беседе, которая не осуществима без л внимания и ответа" [148; 185]. Это и многие другие положения философа, теоретически осмыслившего и обосновавшего духовидческий опыт отечественной словесности, рассматриваются нами как концептуальные, и поэтому они найдут свое выражение на страницах данный работы.
История вопроса. Пожалуй, ни один из писателей прошлого столетия не получил наиболее единодушных и наиболее восхищенных отзывов о своем творчестве, как Аксаков. Эта особенность замечена всеми аксаковедами. В.В. Кожинов обращает внимание на то, что "Семейную хронику" всецело приняли "славянофил" А.С. Хомяков и "западник" П.В. Анненков, революционер Н.Г. Чернышевский, говоривший, что в ней "много правды" и что "правда чувствуется на каждой странице", и крайний консерватор Константин Леонтьев, "почвенник" А.А. Григорьев и "космополит" П.В. Боткин [247;20-21]. А.И. Герцен писал о "Семейной хронике", что это "огромной важности книга"; Щедрин назвал ее "драгоценным вкладом", обогатившим русскую литературу. Л.Н. Толстой отмечал, что в "Детских годах Багрова-внука" «... сладкая поэзия природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скучным, но зато необыкновенно успокоительно и поразительно ясностью, верностью <...> отражения» [109;463].
Обращает на себя внимание то, что люди, столь разные во взглядах своих на литературу и литературный процесс, признали Аксакова ярким, самобытным писателем еще при жизни. Все они рассматривают его появление в отечественной словесности как явление редкое, небывалое: "... сильный и замечательный талант проявляется в человеке уже старом, сумевшем осознать всю ложность того литературного направления, которому он следовал в молодости, и перейти к простому, естественному изложению своих впечатлений и воспоминаний ..." [292; 409].
Следует заметить, что историки литературы пытались вписать творчество Аксакова в то или иное литературное направление. Уже тогда наметились два подхода к осмыслению творческого пространства книг писателя, задавшие тон всем дальнейшим исследованиям аксаковедов. У истоков одной тенденции стоит "органическая" теория литературы А.А. Григорьева, который считал "Семейную хронику" - "рожденным художественным произведением" [229; 117]. Суждение критика привлекает не столько своим оценочным характером, но прежде всего тем, что имя Аксакова оказывается в ряду ведущих писателей-современников: А. Н. Островского, А.Ф. Писемского, Л.Н. Толстого.
Развивает суждение А. Григорьева создатель "психологической" школы Д.Н. Овсянико-Куликовский. В "Истории русской литературы XIX века" (1910) проза СТ. Аксакова осмыслена как "благословение к жизни <...> успокоение и примирение, которое вызывает в душе читателя чтение его мирных картин старины" [240;409]. Признавая высокое художественное значение произведений Аксакова, Д. Н. Овсянико-Куликовский считает, что творчество писателя следует рассматривать как отражение славянофильской концепции.'Однако еще П.Н. Полевой в своей "Истории русской словесности" (1900) отмечает, что Аксаков "не имеет, как писатель, никакого отношения к деятельности славянофилов" [292;403].
У истоков другого (идеологического) подхода к творческому наследию СТ. Аксакова стоит "реальная" критика Н.А. Добролюбова, который также считает Аксакова ведущим писателем времени. Тем не менее, эстетический анализ в его статьях ("Заволжские очерки", "Деревенская жизнь помещика в старые годы") сменяется социологическими оценками, и критик ставит СТ. Аксакова в один ряд с художниками, работавшими в русле "натуральной школы". Сам Добролюбов при этом в осмыслении художественной стороны аксаковских книг очень непоследователен. С одной стороны, он отказывается говорить о художественной специфике произведений СТ. Аксакова, с другой стороны, критик ставит писателю в заслугу создание типических характеров, то есть рассматривает один из основных признаков художественности [235;302].
Этого же мнения придерживался и Ю.Ф. Самарин, считавший, что творчество СТ. Аксакова и 11.0. Гоголя обязано славянофильству [306; 256 - 257].
Ряд работ историко-литературного характера посвящен осмыслению своеобразия творческого метода Аксакова-художника (С. А. Венгеров, A.M. Скабичевский). С.А. Венгеров подчеркивает своеобразие авторского метода Аксакова-отца: "Он творил тут поистине бессознательно, благодаря чему скрытые и задавленные дурным обществом (Венгеров имеет в виду "дурное влияние" на Аксакова театралов и противопоставляет ему "благостное влияние" Н. В. Гоголя - Н.К.) сокровища его духа и могли увидеть свет Божий" .[220; 197]. В то же время, исследователь акцентирует внимание на том, что СТ. Аксакова - проза факта, ориентированная на произведения "натуральной школы": писатель "окончательно понял свое литературное назначение, сознательно направив свой талант на почву действительности" [220; 198]. Более отчетливо эта мысль звучит в "Истории русской литературы" A.M. Скабичевского, где творчество СТ. Аксакова связывается с литературным процессом второй половины XIX века и рассматривается в рамках реализма, для которого, по мнению автора, главной является типизация явлений действительности [241 ;3].
Характеристика прозы СТ. Аксакова в качестве художественно-документальной продолжена в работе Ю. Айхенвальда "Силуэты русских писателей", где книги писателя рассматриваются с точки зрения отражения жизни как таковой, "в наиболее простой и скромной форме" [187;156]. Однако работа Айхенвальда отличается от предшествующих тем, что не ограничивается указанием на реалистически-натуралистическую сторону повествования. Исследователь отмечает сверхфактическое содержание прозы СТ. Аксакова, откликающееся "благородным рапсодом", "загоревшимся тихими красками очарования" [187; 156]. Свою последнюю мысль Ю. Айхенвальд подкрепляет тем, что ставит имя Аксакова между именами Н.П. Огарева и И.А. Гончарова, чьи романы были близки как лидерам "натуральной" школы, так и представителям "эстетической" критики.
Новая историческая эпоха (1920 - 1950-е годы) принесла с собой "новое" отношение к писателю и "новую" оценку его творчества. Этот период в аксаковедении можно назвать "эпохой безвременья" относительно исследований, посвященных творчеству писателя. При отсутствии монографических работ об Аксакове не было недостатка в поверхностных, подчас компилятивных статьях, в которых творчество писателя было своеобразно истолковано. Писателя преследовал "титул" "обеспеченного помещика крепостной эпохи", пафос творчества художника неизменно определялся как "реакционный" [276;6j. Анализ этого периода в аксаковедении дан СИ. Машинским в его книге "СТ. Аксаков Жизнь и творчество" (1961). С этого фундаментального исследования начинается новый этап прочтения прозы СТ. Аксакова .
Книга СИ. Машинского несет на себе печать отечественной науки, то есть тенденцию видеть в художественном мире СТ. Аксакова прежде всего натуралистический аспект изображения действительности в тесной связи с общественной жизнью XIX века, выявляет так называемый "ближний", исторический контекст. Исследователя привлекает не столько биография художника слова, сколько та общественная обстановка, в которой сформировался талант СТ. Аксакова, его роль в развитии и становлении реализма. Сам путь этого человека в литературе Машинский называет "странным, неожиданным, почти непостижимым чудом" [276; 12], обращая внимание прежде всего на внешнее несоответствие начала и завершения творческого пути писателя. Оценивая творчество Аксакова, своеобразие его писательской манеры, исследователь определяет метод художника как "созерцательный реализм": "... разумеется, мы не станем сравнивать общественную значимость творчества Гоголя и прозы Аксакова; да, естественно, было бы неправдой утверждать, что несколько "созерцательный" реализм Аксакова равен могучим обличениям Тургенева" [276;5]. 1 К. Пигарев отмечает, что монография СИ. Машинского представляет собой "серьезное и вдумчивое исследование, всестороннее освещающее жизнь и творчество Аксакова" [291;210].
Уже современники писателя указывали на созерцание как на ключевой элемент творческого наследия СТ. Аксакова. Так В.П. Острогорский связывал успех произведений Аксакова и интерес к его творчеству с желанием читателя в его книгах "почерпнуть хоть на минуту отдыха от злобы настоящего в созерцании вечной природы и ее патриархальной старины" [288;2]. В этом суждении важно осмысление термина «созерцание» в качестве духовно-нравственной категории, связанной с определенными условиями жизненного пространства.
Созерцание - ключевое слово для понимания книг писателя, в том смысле, к которому приближает нас высказывание И.А. Ильина о том, что "... все великое и гениальное, что было создано человеком, - было создано из созерцающего и поющего сердца" [149;234]. Это суждение отсылает нас к коренному, первоначальному значению этого слова, открытому В.И. Далем, трепетно относящегося к русскому слову: "Созерцать - внимательно или продолжительно рассматривать, наблюдать, смотреть со смыслом, вникая, разумом, углубляясь в предмет, изучая его, любуясь им <...> вникать во что мысленно, разумом, духом. Созерцая природу, созерцаем и величие Создателя" [75; 261].
Духовное пространство книг СТ. Аксакова всячески подчеркивалось самим автором. В отличие от Н.В. Гоголя, который акцентировал свое прямое обращение к святоотеческой книжной традиции, Аксаков исподволь, "ненавязчиво" своим повествованием, своими словами и образами, поименованием тех или иных явлений или фигур русской жизни вызывал в читательской памяти произведения древнерусской книжности. Таким образом, созерцательный реализм СТ. Аксакова есть одновременно изображение видных и познаваемых вещей и обращение к тем сферам мироустройства, которые составляют его метафизическое пространство. Такое созерцание носит глубинный онтологический характер, и ноті ому. именно такое определение данного термина наиболее точно отражает суть произведений СТ. Аксакова, направленных одновременно внутрь, в себя и во весь мир, во вне. Но именно
16 это свойство - всеобъятность - книг писателя долгое время оставалось вне поля зрения многих исследователей его творчества.
Существенно новым этапом в осмыслении прозы СТ. Аксакова стала монографическая работа М.П. Лобанова "Сергей Тимофеевич Аксаков" (ЖЗЛ; 1987), написанная в жанре духовной биографии писателя. Эта работа ценна своим новым подходом к осмыслению жизненного и творческого пути СТ. Аксакова. В ней автор показывает неразрывную связь жизни и творчества писателя с исканиями крупнейших представителей русской культуры XIX века. По духу своему, это биография Аксакова-отца, продолжающая, по мнению исследователя, "семейную хронику" и дающая возможность проследить общественную деятельность его сыновей Константина и Ивана Аксаковых, о чем автор монографии напишет в 1991 году - к 200-летию со дня рождения СТ. Аксакова: "Аксаков-отец не мыслим без его талантливых сыновей, немало сделавших для русской мысли" [265; 1]. Значение преемственности в семье Аксаковых позволяет говорить литературоведу о том, что жизнь писателя "была сосредоточена вокруг двух начал: семьи (созидания ее) и его преимущественно автобиографических книг" [265 ;5]. Это высказывание выводит исследование М.П. Лобанова за рамки традиционной оценки творчества писателя. Семья Аксаковых представлена в монографии как историко-культурный феномен.
К этой же мысли подводит нас в своих исследованиях, посвященных всему семейству Аксаковых, включая жену писателя Ольгу Семеновну и дочь Веру Сергеевну, Е.И. Анненкова. В ее работах большое внимание уделено проблеме творческих взаимоотношений Аксаковых с Н.В. Гоголем, при этом исследовательница отмечает, что Аксаковы "первыми приблизились к непостижимости гоголевской личности и многосложности его творческого создания" [193;362]. Приоткрывая новые страницы в исследовании авторской лаборатории СТ. Аксакова, ставя сю "хроники" в один ряд с "Капитанской дочкой" А.С. Пушкина, "Белой гвардией" М.А. Булгакова. "Летом Господним" И.С. Шмелева, Анненкова в то же время существенно ограничивает творческое пространство Аксакова-отца следующим замечанием: "Чаще сам семейный мир нес в себе такие качества", которые сохранялись на протяжении нескольких поколений, что "документально запечатлел СТ. Аксаков, а художественно -Гоголь" [193;5]. Думается, что нельзя согласиться с определением прозы Аксакова только как документальной.
Наиболее продуктивным в аксаковедении стал 1991 год. По решению ЮНЕСКО он был объявлен годом С. Т. Аксакова [190;62], Двухсотлетний юбилей со дня рождения СТ. Аксакова отрывает новый этап в осмыслении творческого наследия писателя, который характеризуется одновременно интересом к историко-краеведческим аспектам творчества писателя и попытками духовного прочтения его книг. Так, исследования Г.Ф. Гудкова и З.И. Гудковой раскрывают подлинные имена персонажей, фигурирующих в произведениях СТ. Аксакова, приоткрывают некоторые стороны родственных связей как самого писателя, так и его героев: "За всеми персонажами произведений СТ. Аксакова стоят не просто конкретные личности. Все, что происходит с ними на страницах его произведений, действительно имело место в их реальной жизни" [230;3]. Именно это, на взгляд исследователей, отличает творчество СТ. Аксакова от других писателей и делает его произведения особо ценными в краеведческом отношении. Таким образом, авторам рассматриваемых работ важен прежде всего "краеведческий колорит" творческого наследия писателя.
Несколько иначе рассматривается творческое пространство Аксакова в книге М. Чванова "Если не будете как дети", представляющей собой еще один опыт духовной монографии. В этой работе так же, как и в предыдущих, прослеживается идея слитности личной и творческой жизни Аксакова, но истоки ее Чванов видит в какой-то особой литературной, а точнее общекультурной традиции. Интересен контекст, в который вписана фигура писателя (СТ. Аксаков - М.В. Нестеров - Ф.И. Шаляпин). Чванов прежде всего видит в них художников, истоки творчества которых кроются в глубинно-народной идее землячества, объединяющей земляков - «рожденных в одном с кем-либо государстве, области, местности» - и имеющей в основах своих мысль о духовной близости «единоземцев», «одноземцев» [72;679]. Чванов видит в этом единстве общее начало, идущее из Древней Руси - с ее молитвенно-строгим созерцанием жизни, с ее вечными и прекрасно-вдохновенными образами, с ее силой и могуществом, отразившимися в русской душе, и саму ее предельную русскость. Такой подход к личности СТ. Аксакова, на наш взгляд, не является субъективным, но, напротив, отражает основные идеи, образы и мотивы творчества писателя, в котором ощутимо влияние традиции древнерусской книжности и древнерусской культуры, что мы и попытаемся доказать в нашем исследовании.
Своей работой Чванов открыл целый ряд исследований, посвященных творчеству СТ. Аксакова и объединенных поиском смысла творчества писателя. Акцент в них делается не столько на биографии художника, о которой написано к тому времени было немало, сколько на непосредственный анализ произведений писателя, на осмысление его основных тем и идей, на особенности его творческой манеры.
Пытаясь качественно переосмыслить творческий метод СТ. Аксакова, В.М. Шугаев обращается к образу "чувствительного сердца", пришедшего из эпохи сентиментализма. Анализируя книгу "Детские годы Багрова-внука", исследователь отмечает, что в центре книги находится образ "чувствительного сердца", который пронизывает все повествование. Шугаев актуализирует этот мотив, характерный для творчества Карамзина, ищет в его наследии истоки аксаковской "книги для детей" и считает необходимым "щедро возродить старинную тему чувствительного сердца в современном литературном процессе" [336:95]. Вместе с тем автор статьи отмечает очень важную традицию отечественной словесности, для которой вообще характерно изображение «чувствительного сердца». Память сердца как основной источник креативной энергии писателя, но мнению Ю. Нагибина, во многом определяет и разъясняет смысл творчества Аксакова, который еще "мальчиком жил перенапряженной душевной жизнью, каждодневность шла глубоким надрезом по сердцу, памятью которого и созданы его хроники. Старик Аксаков не разделался с прошлым, оно до последнего дня пело в него неостывшей крови, отсюда такая свежесть воспоминаний" [282; 10]. Обозначая писательский тип СТ. Аксакова, Нагибин так характеризует его авторскую манеру: «...он писатель автобиографический от начала и до конца" [282; 9].
Несколько иначе к анализу книги для детей подходит Н. Павлова, отмечающая, что "Детские годы" стали закономерным звеном в становлении русской классической литературы. Исследовательница считает, что появление на свет "книги для детей" СТ. Аксакова связано с мнением В. Г. Белинского о необходимости правильно развивать молодое поколение, которое из литературы должно узнать, что "только в честной и бескорыстной деятельности заключается условие наших успехов на избранном поприще" [210;504]. И если подходить к книге Аксакова с этой точки зрения и оценивать ее прежде всего как книгу, принадлежащую детской литературе, то бесспорным будет мнение исследовательницы, считающей, что книга эта была "первой автобиографической повестью, рассказывающей о детстве и предназначенная детству" и до Аксакова "русская литература ничего подобного не знала" [289;6]. В то же время, такое важное замечание Н. Павловой, что Аксаков в "Детских годах Багрова-внука" не поднимался над детским сознанием, должно быть углублено самим замыслом "книги для детей", в которой Аксаков мечтал показать мир, увиденный глазами ребенка, безо всякого назидания.
Для понимания творчества СТ. Аксакова интересны суждения не только историков литературы, но и художников слова. Наиболее примечательны в этом отношении работы В.А. Солоухина, который обращает внимание на то, что в центре повествования "Детских годов Багрова-внука" находится чуткая, пытливая, жадная до впечатлений детская душа. Поэтому и смысл книги, по мнению исследователя, нужно видеть в том, что она есть не что ионе, как "открытие мира человеком, пришедшем на землю и воспринимающим и видящим все в первый раз" [308;60]. В то же время, В.А. Солоухин говорит о своеобразии авторской манеры Аксакова, об особом неравнодушном созерцании мира. Именно это, по мнению исследователя, является причиной того, что человек, "прочитав книги Аксакова, очень часто начинает иначе относиться к русской природе, к ее неброской, но дивной красоте и вообще ко всему русскому" [308;63]. Особое отношение Аксакова к природе невольно передается и читателю, который, читая его книги, проникает их духом.
Новый подход в изучении феномена семьи Аксаковых как некого духовного явления общественной жизни второй половины XIX века мы находим в многолетних исследованиях В.А. Кошелева1. В своих работах, посвященных художественному наследию писателя, исследователь отмечает тесную связь с миром природы еще молодого Аксакова, говорившего об этом в письме к своей сестре Надежде от23 июня 1810г.: "Ты, мой друг, пишешь, что в деревне скучно гулять. Я удивляюсь сему: можно ли предпочесть наши каменные и кирпичные тротуары мягкой земле, травою одетой и испещеренной цветами, наши унылые сады <...> вашим веселым рощам, в коих свобода и радость царствует ..." [251; 49].
Не нужно особых комментариев, чтобы проследить то духовное начало, которое присутствует в письме 18-летнего юноши, и которое впоследствии проникнет в каждую строчку произведений талантливого 60-летнего мудреца. В то же время, по мнению исследователя, само состояние писателя, в котором были созданы его лучшие книги, отсылает нас к особой традиции писательства: "Мы, читатели, почти не сознаем теперь, что большинство своих классических произведений СТ. Аксаков написал посреди <...> старческих, телесных и душевых трудов, превозмогая боль, усталость, слепоту и постоянно ожидая конца" [250;9]. Кошелев справедливо отмечает, что одна из основных и центральных идей Аксакова - это тема "любви к родине - "большой" ли, "малой" ли, эти понятия у Аксаковых не разделялись..." [251 ;53]. В то же время Кошелев, как и многие его предшественники, склонен считать произведения СТ. Аксакова автобиографическими.
Автобиографическое начало книг Аксакова по-особому интерпретировано В.В. Кожиновым, отмечавшим в размышлениях о "Семейной хронике", что книга эта «возникла и сложилась в устном бытии задолго до того, как она была записана - сложилась и нашла высокого ценителя в лице самого Гоголя!» [247;20]. Это суждение является концептуальным для нашего исследования, так как позволяет рассматривать книги Аксакова - как особое художественное и жанровое образование. Кожинов доказывает, что книги Аксакова таят в себе множество загадок. Ответы на них исследователь предлагает искать не в конкретной историко-литературной обстановке. Главная мысль творчества писателя, по мнению Кожинова, - показать единство православного и народного начал в семейном укладе Багровых, что определило эпический размах повествования "Семейной хроники". Это наблюдение одного из ведущих специалистов в области русской литературы во многом созвучно высказыванию А.С. Хомякова, который уже в 40 - 60-е годы XIX столетия увидел в творчестве СТ. Аксакова качественно новое осмысление понятия созерцания как отражения природы, протекающего "не через стекло и не через глаз человека, а через душу человека" и принявшего "в себе отблеск души" [328;669].
А.С. Хомяков, одним из первых рассматривая феномен Аксакова (то, что он "на шестом десятке стал великим художником" [328;665]), уже в книгах об уженье и охоте увидел нечто интересное, что и попытался осмыслить. Критик обращает внимание на некую закономерность, с которой выходят в свет книги писателя. Пытаясь разгадать "странное явление" Аксакова в литературе того времени, Хомяков пишет: "оно получает свою разгадку в самой последовательности произведений, которыми Сергей Тимофеевич приобрел свое настоящее имя" [328;665]. В связи с этим критик выделяет три звена в его творчестве, три важнейшие для понимания Аксакова этапа. Первый из них - ' Работы В.А. Кошелсва привлекают прежде всего введением новых источников - в первую очередь эпистолярного населения СТ. Аксакова, которое до сих пор опубликовано лишь частично. "Записки об ужении рыбы"; второй - "Записки оружейного охотника Оренбургской губернии"; третий - дилогия "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука".
Пристальное внимание к статье А.С. Хомякова обусловлено, во-первых, ее невостребованностью аксаковедами, и, во-вторых, она позволяет оценить прозу СТ. Аксакова в художественно-эстетической системе, получившей название «русской художественной школы» .
А.С. Хомяков не просто отмечает последовательность возникновения книг писателя, а подчеркивает возрастание степени художественности в его произведениях, отмечает особые качества повествования - непреднамеренность авторского слова, не связанность с тем или иным литературным направлением. Бесспорно, те зримые вехи на пути к "Детским годам Багрова-внука" (или "книги для детей", как определял жанр произведения сам автор), обозначенные критиками и литературоведами, важны для нас и мы учитываем их в своей работе, подразумевающей рассмотрение темы "Проза С. Т. Аксакова. Контекст и поэтика" прежде всего как путь Аксакова к идее особой книги - "книги для детей" и воплощение этой идеи в соединении тех начал, которые "чаще бывают разрознены, а вместе взятые - характеризуют разнонаправленные поиски русского сознания <...> XIX века" [194;60]. Путь это происходит через весь XIX век и пронизывает все стороны бытия, проявленные в слове.
Родившись за восемь лет до А.С. Пушкина и за восемнадцать - до Н.В. Гоголя, Аксаков, как писатель, сформировался гораздо позднее их, опираясь на накопленный ими художественный опыт, но в то же время являя русской словесности нечто особое: "Странно и необычно положение Аксакова в русской литературе. Любя и понимая Пушкина, ценя Лермонтова, пережив великанов, он почти ничем от них не попользовался и сохранил полнейшую самобытность" [282; 10]. 1 Именно поэтому, нарушая хронологическую последовательность, мы обращаем свое внимание к суждениям А.С. Хомякова после своеобразного "экскурса" по современному аксаковедению.
Начав свою литературную деятельность в качестве театрального критика, к концу всего жизненного пути СТ. Аксаков становится признанным корифеем русской литературы еще при жизни, но через много-много лет после начала своей творческой карьеры.
Превращение "дилетанта" в классика русской литературы представлялось многим исследователям творчества Аксакова чем-то странным, не имеющим логического объяснения. Они разрывали две стороны жизни Аксакова: человеческую (формировавшую будущего писателя, как показывают письма, цитируемые В.А. Кошелевым) и собственно писательскую, порождая легенду о чудесном превращении "гадкого утенка" в прекрасного лебедя.
Таким образом, следует признать, что творческий путь Аксакова - одно из самых сложных явлений в истории русской литературы, и имеет свою внутреннюю закономерность развития. В поисках этой закономерности, необходимым, на наш взгляд, является обращение к проблеме художественности в творчестве СТ. Аксакова.
При этом нужно учитывать и тот факт, что до книг Аксакова вышли в свет "Повести Белкина" как "драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие" [103; 54] и "Капитанская дочка" как записки Петра Андреевича Гринева, составленные из "семейственных преданий" [102; 360]. Уже в 30-е годы XIX века А.С. Пушкин обращает свое внимание на особый пласт русской словесности, обнаруживающий себя еще в древнерусской книжности. Семейственные предания, родившиеся из многовекового словесно-душевного корня, становятся своеобразным откликом на "определенные явления древнерусского жизненного уклада, обихода, быта в самом широком смысле слова" [261;51].
Гармоническое продолжение пушкинской традиции мы находим в прозе СТ. Аксакова. Сам материал, на котором строятся эти книги, их особый биографический характер, роль автора, выступающего в качестве издателя или мемуариста не для того, чтобы усилить достоверность повествования, но затем, чтобы расширить его духовное пространство, - все это сближает книги А.С. Пушкина и СТ. Аксакова и позволяет говорить о некоем особом типе творчества, подразумевающем автобиографию, но реализующееся в каком-то ином качестве, нежели документальные воспоминания. "Семейные воспоминания дворянства, - как отмечает Пушкин в своем "Романе в письмах", - должны быть историческими воспоминаниями народа" [104;50]. Особый тип писателя предстает перед нами в этих книгах: бесстрастный наблюдатель, созерцающий и свою жизнь как чужую, подобно древнерусскому книжнику, открывая перед глазами читателя Мірь как таковой в его бытийной первооснове.
Наиболее верным, очевидно, является такое прочтение прозы СТ. Аксакова, при котором читателю откроется особый тип писателя и особый тип литературы, предполагающий прежде всего осмысление художественного, а не документального (как это традиционно принято), пространства книг писателя, в которых Слово обретает свою первоценность, утраченную новой литературой. Именно такой подход к прозе СТ. Аксакова позволяет проникнуть в глубину его творчества, проследить путь философско-эстетического освоения отечественной словесностью середины XIX века огромного пласта древнерусской книжности, отсылающей к Слову в его первоначальности, перводанности.
Слово, мысль и душа прозы СТ. Аксакова
В культурной отечественной жизни середины XIX века шли напряженные размышления над судьбой России и русского Слова. Крупные литераторы того времени, разные по своей литературной и общественной ориентации, почти одновременно высказали мысль, что русская словесность находится на каком-то переломном этапе развития, связанном с возникновением и становлением нового национального искусства, с формированием и осмыслением новых эстетических принципов отечественной литературы. Переходность этого состояния, не столько внешнюю, сколько внутреннюю, К.С. Аксаков обозначил как "сознательное возвращение к себе. Возвращение в смысле философском" [6;30. Курсив наш -Н.К.].
Еще в конце 20-х годов XIX столетия в статье "Обозрение русской словесности за 1829 год" И.В. Киреевский высказывает мысль о необходимости развития русской философии и национального искусства: "Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта" [246;68]. Это суждение в критических опытах И.В. Киреевского получит свое философско-эстетическое завершение в статьях 1840-х годов, в которых критик сформулирует основные принципы национального реализма, русской художественной школы: необходимость обращения к жизни русского народа, в глубине души которого "таятся особенные звуки, потому что в слове его блестят особенные краски, в его воображении живут особенные образы", исключительно свойственные русскому человеку [246;70. Курсив наш - Н.К.].
Само понятие школы И.В. Киреевским не упоминается, однако уже в критических статьях В.Г. Белинского и А.С. Хомякова это слово проявит себя как ключевое, знаковое для 40-60-х годов XIX века.
В.Г. Белинский писал, что "литература наша так молода, что от начала своего считает всего каких-нибудь с небольшим сто лет, что в настоящую минуту имеются налицо представители и жаркие последователи и поклонники всех ее замечательных эпох" [211;562]. Критик видел будущее за литературой реалистической и ратовал за развитие натуральной школы: "...в лице писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и современною и русскою" [208;370].
А.С. Хомяков говорил о возможности русской художественной школы, которая должна обернуться назад и там, в своих корнях найти новое Слово: "Восстановление наших частных умственных сил зависит вполне от живого соединения со стародавнею и все-таки нам современною русскою жизнию, и это соединение возможно только посредством искренней любви» [322;96].
Напряженные искания иного искусства, основанного не только на верном воспроизведении действительности, определяют творческую судьбу Н.В. Гоголя, что нашло наиболее яркое выражение в его "Выбранных местах из переписки с друзьями", которые П.А. Плетнев посчитал началом новой литературы. Драматизм этих поисков Гоголя почувствовал А.А. Григорьев, заметивший, что последняя книга писателя есть болезненный момент в духовном развитии автора: «Две черты ярко обозначаются в этом саморазложении: с одной стороны, природа многосторонняя, в которой божий мир отражается со всем многообразием дурного и хорошего, с другой стороны, природа сосредоточенно-страстная, тонко чувствующая, болезненно-раздражительная» [227; 190].
В эпоху "безверия и всеобщего упадка искусства", по определению И.С. Тургенева, наиболее ярко проявился талант А.А. Иванова, который в главном своем создании "из глубины своего смиренного и верующего сердца извлек новое воплощение христианского догмата и тем положил основание и собственно русской живописи и возрождению живописи вообще" [120;85].
Поиски нового направления искусства продолжаются и в музыке и связаны с появлением оперы М.И. Глинки "Жизнь за царя", воспевающей царя и государство в лице царя и в лице народа. Осмысливая творческое пространство произведения Глинки, А.С. Хомяков с его появлением связывает начало новой эры в искусстве, которая «создаст новые живые формы, полные духовного смысла» [325;414; курсив наш - Н.К.]. Сама опера при этом рассматривается критиком как «явление русское и созданное из конца в конец духом жизни и истории русской» [325;418].
Ю.Ф. Самарин отмечает, что многие литературные явления XIX столетия навеяны западной культурой и подчеркивает необходимость самобытного пути отечественной словесности. При этом главным для русского реализма должно быть не только «верное отражение действительности» (чувственный опыт), но и обращение к иным способам познания окружающего мира (духовный опыт), дающим представление о предметах и явлениях [306;259-260].
Круг суждений по проблеме возможности "русской художественной школы" (нового национального искусства) можно было бы расширить, включив в него высказывания критиков 1840-1860-х годов (например, Н.Н. Страхова, который в своих статьях о "Войне и мире" Л.Н. Толстого пытается решать проблему национальных художественных форм, ставит проблему семейного романа, домашней словесности). Однако, как нам кажется, мы остановились на наиболее знаковых фигурах. Новое искусство, по мнению литераторов 40-60-х годов XIX века, должно органически соединить в себе реальное и идеальное, верное воспроизведение действительности и поэтизацию действительности. То есть это должно быть искусство, которое соединило бы бытовое и бытийное начала. Эти идеи определяют пафос статей П.В. Анненкова, А.А. Григорьева. При этом обращает на себя внимание то, что многие видные критики по-разному понимали природу идеального и выводили ее из романтических (П.В. Анненков) или мифопоэтических (А.А. Григорьев) представлений. В то же время, никто из них не говорил о духовной составляющей русского реализма, которая определялась внутренним зрением - духовным провидением мира.
Понятие прозы СТ. Аксакова как художественно-смыслового единства
Проза СТ. Аксакова поражает читателя своим тематическим и жанровым многообразием. Это театральные рецензии, литературные и театральные воспоминания, литературные портреты, мемуары, записки, хроники, истории, книги об охоте... Такая пестрота, на наш взгляд, объясняется как внешними, так и внутренними причинами. Во-первых, творческое наследие Аксакова протяженно во времени: первая группа его произведений появилась в 10 - 30-е годы XIX века, а вторая и третья были созданы в иную литературную эпоху (в середине XIX века). Если же говорить о внутренних причинах, обусловивших мозаичность творчества Аксакова, то они объясняются, прежде всего, особенностью таланта писателя: прежде, чем написать что-либо (почти каждую свою вещь), будущее произведение многократно рассказывалось, то есть жило в качестве устного воспоминания, предания, и лишь затем облекалось в письменную форму. Этот творческий процесс СТ. Аксакова, думается, во многом был обусловлен заветом Г.Р. Державина: «Пишите свое, что в голову войдет» (Ш;324). Несмотря на кажущуюся внешнюю разнородность произведений СТ. Аксакова, они имеют нечто общее - проза писателя автобиографична. Ее можно уподобить произведениям древнерусского искусства - иконе с житием, где в центре (в среднике) помещен главный персонаж, а в клеймах отражены основные события его творческой и духовной судьбы...
Несмотря на то, что творческое наследие СТ. Аксакова представляется "собранием пестрых глав", и сам автор, и критики, и литературоведы постарались обозначить смысловое ядро его творчества. Практически все они выделяют первые две книги писателя - "Записки об уженье рыбы" и "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии", а затем называют главное создание СТ. Аксакова - дилогию "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука". Остальные произведения писателя считаются периферийными и редко попадают в поле зрения исследователей (исключение составляют "Воспоминания", "История моего знакомства с Гоголем"). Это второстепенное значение историй, воспоминаний, знакомств СТ. Аксакова закреплено в собраниях сочинений писателя. Для нас же концептуально важно увидеть прозу Аксакова в ее сопряженности, совокупности, предельной целостности.
Непритязательное, на первый взгляд, название первой части дилогии -"Семейная хроника" - является важным для понимания содержания, жанровой природы, контекста произведения. Этот заголовок должен был вызвать в сознании читателя мысль о том, что "Семейная хроника" близка "семейственным запискам" Петра Гринева. Мысль семейная становится определяющей в творчестве СТ. Аксакова, для которого концептуально важно сохранить в своих произведениях «во всей чистоте старинные семейные понятия и нравы» (IV; 191). В то же время при чтении первой части дилогии вспоминаются повествования о добрых и недобрых людях Древней Руси ("Повесть временных лет", "Житие Юлиании Лазаревской", «Житие Стефана Пермского»). Первые отрывки "Семейной хроники" - "Степан Михайлович Багров" и "Михайла Максимович Куролесов" - изображают времена эпические (доисторические), биографии первопредков, в основе которых лежит идея антитетической связи биографий-наказаний и биографий-спасений (подобно "Повести временных лет"). Параллельно с "Семейной хроникой" СТ. Аксаков создает ряд воспоминаний-биографий - "Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове", "Воспоминание о Михаиле Николаевиче Загоскине", "Биография Михаила Николаевича Загоскина", "Знакомство с Державиным". Собственно художественное произведение, каким является "Семейная хроника", и биографии-воспоминания можно воспринимать как явления взаимопроницаемые.
Особость авторской позиции писателя, осмысление таких ключевых для его творчества категорий, как слово, мысль и душа, предполагают тщательный анализ его произведений, позволяющий осознать эту особость, отразившуюся во всей структуре и во всем содержании его художества. Своеобразной иллюстрацией этого тезиса является, на наш взгляд, удивительная близость, казалось бы, таких далеких фигур, как Степан Михайлович Багров и Гаврила Романович Державин, Михаил Николаевич Загоскин и Каратаев... Для автора "Семейной хроники" и литературных портретов Загоскина, Державина, Шишкова эти люди представляются эпическими персонажами века минувшего, они являются творцами русской истории, русской государственности.
Сближение исторических и неисторических персонажей заставляют нас вновь задуматься о природе прозы СТ. Аксакова. Само понятие прозы применительно к творческому наследию СТ. Аксакова требует серьезного определения и исследования. Мнимая документальность аксаковских книг, возникших, казалось бы, в качестве воспоминаний: «Само воспоминание, оживающее в его душе, и люди, с которыми он этим воспоминанием делится: вот его цель» [328;372], - взламывается изнутри самим автором, отсылающим нас, к постановке проблемы жанра в его творчестве. При этом первостепенной задачей становится исследование диалектики документального и художественного в произведениях писателя. Более целесообразно, на наш взгляд, рассматривать творческое пространство книг Аксакова с той же исследовательской позиции, что заявлена в статье П.М. Тамаева, посвященной «Запискам об уженье рыбы» и «Запискам ружейного охотника Оренбургской губернии». В ней уже первые собственно литературные опыты Аксакова-писателя осмысливаются как некий "объединяющий" жанр, уходящий корнями в древнерусскую книжность и выражающий какую-то особую мирообразующую идею: «Записки...» С.Т.Аксакова, подобно различным памятникам древнерусской литературы, представляет собой ансамбль, художественную форму, объединяющую в себе многое» [313;78]. Включение древнерусских произведений в циклы и своды произведений в высшей мере символично и отражает столь важную для древнерусского книжника «композицию целого» [262;58]. При этом осмысление какого-либо явления, история отдельного человека являлась лишь отражением, частью истории Міра. СТ. Аксакову, безусловно, важна эта позиция древнерусского книжника, которая нашла свое выражение в трех последних частях "Семейной хроники", включенных в повествование о семействе Багровых и выполненных в форме семейного романа. На романное начало указывает сам автор, используя не раз само это понятие: "История и вторичная женитьба Чичагова - целый роман, и я расскажу его как можно короче" (1;199); Степан Михайлович Багров "мало понимал романическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына" (I; 135). В «Воспоминания» Аксаков включает в повествование историю Угличининых1 как образец «гармонического строя жизни» (П;107). Романом в романе можно назвать эпизод «Воспоминаний», связанный с историей взаимоотношений Марьи Христофоровны Кермик и некоего «путешественника», появившегося вдруг в Казани, «в три дня сведшего с ума» воспитателей девушки, женившегося на ней через две недели и оказавшегося «мнимым графом», «самозванцем, отъявленным плутом и негодяем»" (II; 149). Категория романа постоянно присутствует в памяти автора, но главное для него - сюжет создания семьи Софьей Николаевной и Алексеем Степановичем, их путь к отцовству и материнству, в основе которого лежит особая традиция домоустройства и мироустройства. Конечно же, автор осознавал жанровую сложность, необычность своего произведения. Эта, может быть, еще не вполне сложившаяся художественная форма была обусловлена переходным состоянием русской литературы середины XIX века, не разработанностью самой формы романа. И.С.Тургенев в начале 1850-х годов писал: "Роман в наше время почти невозможен"[110;477]. Еще прежде, в 1842 году возникла полемика о жанре гоголевских "Мертвых душ".
Тема Домостроительства в прозе СТ. Аксакова. Поэтика и семантика мужских образов
«Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине :воей, жалованной предкам его от царей московских»,- так с первых строк 2.Т. Аксаков определяет эпическое начало в характере главного героя, а так же юиовную идею книги - идею устройства дома, идею становления рода Багровых.
Понять, какое место принадлежит в этом Степану Михайловичу Багрову, юможет нам традиция домоустройства Древней Руси: «Человек мог жениться выйти замуж), обзавестись своим домом и стать для своего дома государем...» 283;28]. Неслучайно первый отрывок посвящен именно этому герою, так как он фактически выступает устроителем, государем семьи. Сам Степан Михайлович, (величавый, по душе возвышенный, действительно, и сам по себе поэтический :тарик» [228;247], отчетливо осознает себя родоначальником и поэтому надежды :вои связывает не с дочерьми, а с сыном - продолжателем рода Багровых: «Что в шх проку! Ведь они глядят не в дом, а из дому. Сегодня Багровы, а завтра Ллыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда - Алексей...» 1;60).
С первых страниц «Семейной хроники» перед нами встает проблема :троительства своего дома, поиски духовной самобытности Степана Михайловича багрова. Его стремление «бросить свое родимое пепелище, гнездо своих дедов и ірадедов» (1;59) продиктовано, прежде всего, поиском пути к спокойной жизни. Ї.И. Анненкова отмечает, что эти «черты устойчивости и движения, ттриархальной статики и исторической динамики и далее будут соседствовать, взаимно дополнять друг друга» [193;22]. Стремление Степана Михайловича юкинуть дом предков, внешне, казалось бы, разрушает патриархальный уклад кизни. Однако переселение на новое пространство становится единственной юзможностыо сохранить этот определенный семейный миропорядок, который аключает в себе некий универсальный смысл: патриархальность как некая історическая и эстетическая категория «потенциально готова к возрождению в эпоху» [193;23]. При этом главным для понимания самой категории штриархальность является то, что патриархальному состоянию России, по :ловам И.С. Тургенева, мы «обязаны чистотою наших нравов, нашей елигиозности» [111;462]. Мысль об устройстве собственного дома по традиции тцов, предков руководит дедушкой при переселении в новые земли, но (переселяться тогда в неизвестную басурманскую сторону, про которую, между сорошими, ходило много и недобрых слухов ... казалось делом страшным!...» 1;64 - 65). Уже эта оппозиция своего и чужого определяется, прежде всего, удержанием религиозным, верой истинной (христианской), іротивопоставленной безверию или вере ложной: страх переселения в новое іесто связан, прежде всего, с тем, что там «по отдаленности церквей, надо было и мирать без исповеди и новорожденным долго оставаться некрещеными» (1;64). Следование именно этим законам жизни, связанным с исполнением воли Божией, пределяет поведение Степана Михайловича, стремящегося к освоению нового [ространства, обустройство которого начинается с обета построить церковь «во [мя знамения Божия Матери» (1;65), означая тем самым особый мир. ;Новоселившуюся» деревню назвал Багров «Знаменским» и образом «Знамения іожьей матери» (1;171) благословил в последствии сына и молодую свою іевестьшьку. Знамение - как знак приобщения человека к вере Христовой определяет тот тип устройства Дома, который выбран Степаном Михайловичем и імеет истоки свои в древнерусских традициях устройства дома князьями. В Похвальном слове инока Фомы» о том, как великий князь Борис Александрович троил город Тверь, встретим мы этот же сюжет, - ознаменование строительства Іома - Града молитвой: «И повелел всем прийти в храм великого Христова іученика и воина Феодора. И здесь повелел служить божественную литургию. И огда было совершено божественное и великое дело, тогда великий князь Борис овелел всем выйти на место то, где хотел он основать город...» [100; 183). В то се время для Аксакова-писателя важно то, что «крестьяне, а м\ ними и все кружные соседи, назвали новую деревеньку Новым Багровом, по прозванию воего барина и в память Старому Багрову, из которого были переведены» (1;65). [оступок, действие, переплавляется в имя, запечатлевается в имени, которое ереводит деяние в предание, образуя особое надбытийное пространство.
И здесь мы видим, насколько имя значимо для автора - ведь сохранение рода ключает в себя сохранение имени рода. Поэтому, начиная рассказ о дедушке, втор, прежде всего, именует своего героя: «Но не сказать ли вам наперед, что за еловек был мой дедушка.
Степан Михайлович Багров, так звали его...» (1;60). Имя в данном случае «ступает как характеристика героя: что за человек? - Степан Михайлович іагров! Очевидно, что внимание к имени здесь продиктовано некоей более дубинной идеей, чем желание «замаскировать» своих родственников под фугими именами и фамилиями. Имя - звание, прозвание становится указателем іе столько личности, сколько родовой принадлежности этой личности, так как в CVII веке термин прозвание бытовал в значении «наследственное семейное шенование», «имя, которое весь род имел исстари» [248;92]. Или, как определяет трозвание В.И. Даль: «...имя, какое носит вся семья» [74;485]. Таким образом, -імена в книгах СТ. Аксакова становятся предуказанием судьбы и биографии не только конкретных героев, но и их родового окружения.
Само именование с указанием на судьбу рода отсылает нас к особой традиции отечественной словесности, служащей свидетельством того, что «для народного сознания», как отмечает П.А. Флоренский, «есть четырехмерная временно пространственная форма личности, ограничивающая ее от головы до пят, от правого плеча до левого, от груди до спины и от рождения до могилы» [183;184-185].
Образ жены и матери в прозе СТ. Аксакова. Поэтика и семантика женских образов
Несколько иначе идея домостроительства осмысливается СТ. Аксаковым по отношению к женским образам дилогии. И если тема дома в его патриархальном значении рассматривается писателем, прежде всего, как тема продолжения рода, то неспособность создать свой Дом влечет за собой прекращение рода. О жене Куролесове - Прасковье Ивановне - мы узнаем, что она «совершенно довольная и счастливая, родила дочь, а потом через год и сына; но дети не жили...» (1;100; курсив наш - Н.К.). Тема дома, осмысленная через женские образы, является, прежде всего, темой материнства в его онтологическом значении. Каждая женщина в дилогии проверяется автором через такие категории, как жена и мать. При этом СТ. Аксаков ориентируется, прежде всего, на христианскую традицию, которая готовит человеку два пути, благословленные Богом: «...или святой путь христианского брака, неразрывного союза двух сердец на всю жизнь, или же еще высший и святейший путь - девства, посвящения Богу и ближним себя - безраздельно до конца, в отказе от личного счастья любви» [125;45]. Эти пути постижения божественной сути мироздания находят своеобразное воплощение в образе сестры Степана Багрова - Прасковьи Ивановны, которая «была набожна без малейшей примеси ханжества» (1;452), и жены Алексея Степановича - Софьи Николаевны, которая «явилась каким-то чудным, волшебным существом, и скоро покорились неотразимому обаянию все ее окружавшие» (1;206).
Очевидно, выбор имени помог, в данном случае, продолжить основную идею «Семейной хроники». Имя Прасковья имеет свои корни в христианской традиции, связанной с культом Параскевы-пятницы, почитаемой восточными славянами. Уже внешние характеристики героини - женщины «высокого роста ... в волосах с проседью» (1;437) - невольно отсылают читателя к образу Параскевы Пятницы. Святая, согласно концепции древнерусских художников, имела облик «высокой, худой женщины с длинными распущенными волосами» [92;381]. Обращает на себя внимание, что дом Прасковьи Ивановны, ее родовое имение окружают более двадцати родников, наполненных «такой прозрачной водою, что казались пустыми» (П;295). Согласно народным представлениям, культ Пятницы «издавна был связан с водой, в первую очередь, со священными исцеляющими источниками» [349;398]. Любимые сильные родники Прасковьи Ивановны «били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными, красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность» (1;517. Курсив наш - Н.К.).
Если проследить развитие образа Прасковьи Ивановны в «хронике», то можно найти в нем черты, присущие русской традиции изображения святых. Описание внешности Прасковьи Ивановны напоминают лики святых на иконах: «не красавица, но имела правильные черты лица, прекрасные умные, серые глаза, довольно широкие, длинные темные брови, показывающие твердый и мужественный нрав...» (1;86). По мнению Иоанна-Макропода, умелый художник изображает не столько тело, сколько, посредством его, -душу. Поэтому, в стремлении «к максимальному выявлению этой души лицо получает крайне своеобразную трактовку. Пристально устремленные на зрителя глаза выделяются своими преувеличенно большими размерами...» [256;34-35]. Главное, на что обращает внимание автор, характеризуя Прасковью Ивановну, - это то, что она «была замечательная, редкая женщина ... . Пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственною чистотою целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. ... Была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой» (1;451). При этом Аксаков подчеркивал, что душа героини чиста, так как «она была еще совершенный ребенок и сердцем, и умом» (1;86-87-. Образ Прасковьи Ивановны Багровой продолжает развитие темы рода, начатой в образе Степана Михайловича Багрова: в образах брата и сестры отразились древнерусские представления о судьбе рода, так как «судьба владеет всем родом, к которому принадлежит герой» [171;93]. При этом в образе Прасковьи Ивановны изначально задана идея праведности, основной характеристикой которой является «служение в миру» [304;86]. Не случайно героиня характеризуется и автором, и его героями, как благодетельница (1;437), она «была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к самой себе» (1;451). Образ Прасковьи Ивановны во многом похож на образ Степана Михайловича.
Сюжетная канва, по которой идет развитие образа, во многом опирается на известный южнославянский вариант о Параскеве-Пятнице: взятая в плен турками, осталась непреклонной и бежала из гарема, охраняемая ангелом [344;450]. Несложно угадать в турке - язычника Куролесова, а в образе ангела-защитника - брата Степана Михайловича. Успокоение себе, как и святые, находит Прасковья Ивановна в уединении: она «уехала в Чурасово и зажила своей особенною, самобытною жизнью» (1;120). Очевидно, что само имя героини - Прасковья Ивановна, переводимое как «приготовление к благодати Божией», оказывается значимо для развития этого образа, так как благодать -«особая божественная сила, ниспосылаемая человеку свыше с целью преодоления внутренне присущей ему греховности и достижения спасения в загробном мире» [348;56]. При этом главным для идеи спасения становится искренность религиозного чувства, поскольку благодаря благодати человек спасается верой (Еф. 2:8). . Наличие веры служит свидетельством возможной благосклонности Бога: Прасковья Ивановна «любила великолепие и пышность в храме Божием; знала наизусть весь церковный круг, сама певала со своими певчими, стоя у клироса» (1;452; курсив наш - Н.К.). Эта авторская характеристика героини позволяет осознать ту жизненную основу, на которую она опирается в своей самобытности. При этом становится очевидно влияние на образ Прасковьи Ивановны иконописного образа Параскевы-Пятницы, которая «держит в руках начало текста «Символа веры»: «Верую во единого Бога -Отца» ... Этими словами она показывает молящемуся, за что отдала свою жизнь» [261 ;29].
Но до уединения в своем родовом имении Прасковья Ивановна тоже строила свой дом: она была верной женой, заботливой хозяйкой, умеющей принимать друзей и знакомых - «дом ее ... был полон гостей и удовольствий» (I; 101). Устройство дома Прасковьи Ивановны подчиняется ее внутреннему миру, она во всем доверяет только своим чувствам, пытаясь гармонию своей души перенести в дом, где живет она со своим супругом. Как и положено «Домостроем», Прасковья Ивановна «верила безусловно своему мужу и любила его» (3; 103). И немалый срок - 14 лет - бережет она семейные отношения с тем, кому обещалась быть женой, порой не замечая никаких перемен, с душою уходя в какие-то бытовые заботы и дела. Но в ситуации, когда открывается истинная сущность ее супруга, Прасковья Ивановна предстает перед нами в еще большей степени человеком, живущим, прежде всего душой, а не рассудком. Она не задает себе вопросов: «Что делать?» Только сердце ее «облилось кровью от жалости и ужаса, совесть терзала ее» (1;109). И прежде, чем обрушить свой гнев праведный на мужа, Парашенька всю ночь молится: «...дорожная постель на сундуке была не смята ... на нее никто не ложился ... Прасковья Ивановна стояла на коленях и со слезами молилась Богу на новый церковный крест, который горел от восходящего солнца перед самыми окнами дома» (1;110). При этом обращает на себя внимание то, что в этой комнате, где обитал Михайла Максимович, «никакого образа ... не было» (1;110). Сама оппозиция Прасковьи Ивановны и Михаилы Максимовича в высшей мере символична. Возможно, что именно душевность Прасковьи как стремление жить по законам сердца, понимаемым как законы Божьи, чуть не губит ее.