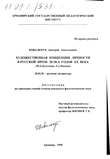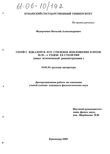Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Миф о революции: сборник рассказов Б. Пильняка «Былье» 24
Глава 2. Хаос и его самоорганизация в романе Б. Пильняка «Голый год»... 46
Глава 3. Антитеза как принцип создания художественной целостности 87
Глава 4. Повесть Б. Пильняка «Красное дерево» в оптике экспрессионистского мировидения 117
Заключение 149
Список литературы 1
- Миф о революции: сборник рассказов Б. Пильняка «Былье»
- Хаос и его самоорганизация в романе Б. Пильняка «Голый год»...
- Антитеза как принцип создания художественной целостности
- Повесть Б. Пильняка «Красное дерево» в оптике экспрессионистского мировидения
Миф о революции: сборник рассказов Б. Пильняка «Былье»
Целостность романа «Голый год» до сих пор вызывает сомнения. Г.А. Белая пишет о нем как о «серии самостоятельных этюдов»111; Е.Б. Скороспелова видит у Б. Пильняка «параллельное существование мира обывательницы Оленьки Кунц, мира «кожаных курток» и мира русальных недель, соломы, пота, овина», отмечая при этом, что «отношения между ними художнику ещё до конца не ясны»112; близок к этому взгляду на роман и М. Кузнецов: «В романе как бы «вертикальный разрез» всего взбаламученного общества: вот история гибели дворянского рода Ордыниных, рядом - почти несвязанно - новый огненный мир «кожаных курток», быт провинциального городка, всей страны, охваченной революционной метелью...».
Не представляется продуктивным анализ романа и с позиций импрессионистской поэтики. Вслед за критикой 20-х годов, М.М. Голубков объясняет «разорванность» и фрагментарность композиции
«Голого года» отсутствием единого идеологического центра: «Только наличие такой композиционной точки зрения, в которой был бы выражен идеологический центр произведения, своего рода система координат, способная объяснить и объединить явления, расположенные Пильняком в эпическом пространстве его произведения, могло бы сделать композицию более стройной, сложить разрозненные фрагменты повествования в некий ряд»
Рассматривая «Голый год» Б. Пильняка как попытку художника -импрессиониста художественно запечатлеть картину алогичного, раздираемого противоречиями мира, исследователь отказывает ему в возможности какого-либо анализа, подчёркивая, что авторская задача состояла только в обрисовке разрозненных впечатлений, но не в осмыслении сути происходящего: «...разрозненные точки зрения не в состоянии соединить фрагменты действительности в цельную картину, общий идеологический центр рассыпался, образовал множество точек зрения, множественность позиций, которые в художественном мире «Голого года» составляют неразрешимое уравнение, несводимое к какой-либо целостности»115.
В поисках наиболее весомой позиции, исследователь приходит к выводу о том, что «гипотетическая возможность синтеза фрагментов действительности» заложена в «точке зрения большевиков», характеризуя образ «кожаных курток» у Пильняка как исключительно импрессионистский, «принципиально овнешнённый», в самой обрисовке которого ему видится «преклонение и страх» автора перед несгибаемой волей большевиков116.
В недавнее время появился ряд работ, в которых предпринята попытка доказать целостность романа «Голый год» с точки зрения пространственно-временной организации произведения. Так, А.А. Трубина справедливо опровергает мнение о том, что в творчестве Бориса Пильняка, и в частности в его романе «Голый год», отсутствует чёткая авторская историческая концепция, полагая, что уже в этом романе дано осмысление свершившейся революции, выражена оригинальная авторская концепция исторического пути России117. Как отмечает исследователь, «историософская концепция Б. Пильняка раскрывается прежде всего в пространственно-временном решении романа», подчёркивая, что именно на этом уровне доказывается культурно-историческое обоснование автором развернувшихся в стране событий118.
Исследователь отмечает многоликость художественного пространства романа: это Москва и Ордынин, степь и поместье, завод и крестьянские избы - «Вся Россия, охваченная половодьем революции» - такое общее определение художественного пространства даёт А".А. Трубйна. Но как привести к общему знаменателю художественное время? Исследователь отмечает сосуществование нескольких временных слоев: быт 1919 года (настоящее), Русь допетровская, избяная, языческая (прошлое) и движение в будущее. Анализируя философию художественного времени, исследователь отмечает, что в романе нет идеализации прошлого: «Автор выражает идею закономерности и обусловленности народного бунта «на манер Степана Тимофеевича», обосновывает вывод о необходимости понимания сложности исторического бытия народа, важности опоры на исконные, устойчивые начала российской жизни»119. Но при этом очевидно и то, что обозначенные временные пласты в романе не последовательны, они существуют параллельно. В чём суть их сосуществования? В чём смысл сопоставления? И как вплетаются в художественную ткань романа многочисленные философские рассуждения о судьбах России, отмеченные исследователем, каким образом они могут быть соотнесены с пространственно-временной организацией произведения? Эти вопросы остаются открытыми.
Свой вариант прочтения «Голого года», основанный на анализе философии художественного времени, предлагает и СЮ. Горинова. По её мнению, Пильняк вслед за Блоком противопоставляет в романе два времени - «историческое, календарное» и «неисчислимое, музыкальное», проистекающее из «музыкальной сущности мира»: «Время календарное исчисляется историческими событиями города Ордыни-на и его окрестностей, а музыкальное - жизнью природы. Они пересекаются в момент распадения привычных временных представлений, когда одна эпоха уступает место другой, т.е. в революцию, знаменующую собой конец (смерть) одного завершённого исторически-культурного периода и начало (рождение) другого» . Рассматривая роман с точки зрения оппозиции "Жизнь" / "Смерть", СЮ. Горинова отмечает, что «смерть» для Пильняка «делается естественным событием, если умирает «мёртвое», исторически исчерпавшее себя, мешающее жизни; она становится необходимой жертвой для «воскресения» обновлённой человеческой души, для творчества нового»121. Отправляющим началом в художественной концепции Пильняка, по ее мнению, становится «семантический переход из мира прошлого... в мир будущего... Настоящее обретает черты временности, переходности, где смерть старого предопределяет рождение нового»
Хаос и его самоорганизация в романе Б. Пильняка «Голый год»...
Действительно, с одной стороны, Гаврилов - часть отлаженного механизма, «старый солдат революции, солдат, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать, завершение военной машины, предназначенной убивать, умирать и побеждать кровью» (83), «человек-формула», как скажут позже врачи. С этой точки зрения вполне объяснима позиция критиков, отождествляющих Гаври-лова с образом машины города. Но с другой стороны, он - «человек-легенда», «имя которого сказывало о героике всей гражданской войны... о кострах в ночи, о походах... Это был человек, имя которого обросло легендами войны, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости» (80). Похоже, революция Гаври-лова - это тот очищающий вихрь, который был заявлен в раннем творчестве Бориса Пильняка, это романтика бурь, это свет надежд, перед которым мелочными казались все невзгоды и потери. Своей судьбой, своим поведением, своей внешностью Гаврилов несколько не вписывается в механически выверенную картину города. Похоже, что он действительно другой - живой, «не ком-илъ-фо», как напишет он о себе в день операции.
Неоднозначность оценки героя подчеркнута близостью командарма с его старинным другом Поповым, с которым связаны многие воспоминания, рядом с которым прошла жизнь, и потому «навсегда один другому - Николаша, один другому - Алексей, Алешка, навсегда товарищи, ткачи, без чинов и регламентов» (82). Именно теплота естественных человеческих отношений выделяет двух друзей из механического расчёта жизни города.
Попов также как и Гаврилов «не ком-иль-фо» в официальной жизни города. На перроне, у вагона командарма, на фоне чётко отлаженного протокола, он выглядит, пожалуй, даже нелепо: одетый не по сезону в старенькое пальто, «несвежие башмаки», он явно не внушает доверия часовому. Его мягкие, дружеские интонации («братишка», «улыбнулся», «дружески») пронизаны человечностью и теплотой в отличие от «уставной» и несколько холуйской речи красноармейца («ещё не вставали»). В этой сцене весьма примечательно то, что Попов, старый солдат революции, для часового - чужой, не это ли знак перемены времён и перерождения пространства? Недаром и дом Попова, с его неприкаянностью и временностью, также же близок к хронотопу дороги: он жил «в гостиничном номере большой гостиницы, населённой исключительно коммунистами, поселившимися здесь в восемнадцатом году, когда в дыму восстаний необходимо было держаться друг возле друга. Номер был велик, богато обставлен, но, как все номера всех гостиниц, указывал на временность, на дорогу, сущностью своей противной уюту» (91) - замечает автор.
Разговор Гаврилова и Попова - разговор старых друзей, которые могут доверить друг другу всё: боль потери, мелочность расставаний - о любви, единственной на всю жизнь, о детях, о скорбных предчувствиях. В «роскошном неуюте» гостиничного номера с ними находится ребёнок - маленькая Наташка, дочь Попова. Милая, бессмысленная возня Гаврилова с девочкой, его нежность к ней очень важны в характеристике героя. Особенно замечателен эпизод, когда командарм укладывает ребёнка спать: он «сел около её постельки, сказал: «Ты закрой глаза, а я буду тебе песни петь», - и запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывая песню здесь же: Пришёл козёл, сказал: «а ты спи, спи, спи, спи, спи», улыбнулся, хитро посмотрел на Наташу и на Попова и пропел то, что впервые пришло ему на ум из созвучия слов «спи, спи, спи, спи», запел: Пришёл козёл, сказал: «А ты спи, спи, спи, спи, спи... Но не пис, пис, пис, пис, пис»... Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел эти две последние строчки неумелым голосом (плохо, в сущности, пел), пока не заснула Наташа» (92).
Эта неумелая колыбельная «старого солдата революции», его искренняя нежность к девочке говорит о нём, как о человеке, близком к вечным нравственным ценностям. Весь разговор двух старых друзей пронизан близостью к духовным святыням (песня, ребёнок, старая дружба).
Неправомерность позиций исследователей, отождествляющих Гаврилова с общей картиной «машины города», особенно очевидна при сопоставлении образа командарма с образом Негорбящегося человека, который в контексте повести и является организатором механической жизни города.
Интересно, что при первом появлении Негорбящегося человека его лица также не было видно, лишь после разговора с командармом Гавриловым автор освещает его светом лампы, замечая, что «оно было очень обыденно, может быть, чуть-чуть чёрство, но, во всяком случае, очень сосредоточенно и никак не утомлено» (91). Достаточно интересная портретная характеристика: в ней нет ничего о человеке, о его душе, пристрастиях, чувствах, но зато чётко констатируется некая механистичность, усиливающаяся последующими штрихами, всё столь же не живописными, а графичными (прямой, чёткий почерк, громкий и твёрдый голос и даже движения «прямоугольны и формульны, как те формулы, которые... он диктовал стенографистке» (105)).
Антитеза как принцип создания художественной целостности
Отечественная литературная критика XX века, отмечая рождение и становление нового метода, не раз обращала внимание на эту приверженность к философским обобщениям и поискам. Е. Замятин, например, определил это таким образом: «Сегодня, когда точная наука взорвала саму реальность материи, - у реализма нет корней, он -удел старцев и молодых старцев. В точной науке - анализ все более сменяется синтезом, задачи микроскопические... задачами пространства, времени, вселенной. И, явно, эти маяки стоят перед литературой: от быта - к бытию, от физики - к философии, от анализа - к синтезу»189. Статьи Е. Замятина о синтетизме можно по праву считать программными манифестами русского экспрессионизма, в которых была заявлена главная стратегия метода, обозначены основные особенности поэтики, призванной постигать суть взвихренного, ускользающего бытия, в том числе, и с помощью гротеска .
Гротеск в экспрессионизме становится излюбленной формой художественного воплощения Хаоса. Немаловажно то, что гротескные образы, подчеркивающие всеобщую зыбкость, неустойчивость, царящие в мироздании, явились и способом своеобразного «узаконива-ния» всех антиномий и противоречий становящегося бытия. На эту принципиальную черту гротеска обратил внимание В.Э. Мейерхольд, один из создателей русского экспрессионистского театра: «Гротеск не знает только низкого или только высокого. Гротеск мешает про 191 тивоположности, сознательно создавая остроту противоречии» . Гротеск, по определению В.Э. Мейерхольда,- «диссонанс, возведенный в гармонически-прекрасное», способный обнаружить «жизнерадостное и в комическом, и в трагическом; демоническое в глубочай 192 шей иронии; трагикомическое в житейском» и т.д. .
В связи с этим вполне закономерным представляется и отмеченное нами обращение к оксюморонной образности, которая становится своеобразным способом видения писателей-экспрессионистов, пытающихся отыскать смысл в самых глубинах хаоса, постигнуть скрытые тайны и закономерности «мало-печально-радостной жизни нашей»193. Оксюморон используется в экспрессионистических рассказах Б. Зайцева «Белый свет» (1922 г.), «Улица св. Николая» (1921 г.); занимает важное место в стилистической манере И. Эренбурга
Исследователями уже отмечена специфическая функция оксюморонов - обрисовать противоречие как составляющую неуравновешенного, антитетичного мира: «Оксюморон особым образом фокусирует и трансформирует в одном смысловом пространстве несколько антитетичных точек зрения на одно явление; и демонстрирует становление - развитие - существование чистого противоречия; и предполагает специфическое преображение взаимодействующих явлений, обнаруживая и обнажая за внешней противопоставленностью их единую сущность» - замечает Э.Г. Шестакова195. Оксюморон становится адекватной формой художественного воплощения Хаоса, своего рода символом, слепком становящегося бытия; в нем оплоте-вает общая неуравновешенность, антиномичность творимого мироздания: «Оксюморон является прорывом к искомой, практически всем «серебряным веком» сверхъединой реальности, в которой снимаются все противоречия, где нет вообще какой-либо детерминированности, иерархизирования, причинно-следственной зависимости»196.
Нельзя не отметить и автохтонность традиции обращения к ок-сюморонной образности в русском экспрессионизме. Как отметил Д.С. Лихачев, именно оксюморон явился одним из излюбленных приемов древнерусских авторов при создании образа кромешного мира: «В древнерусском юморе один из излюбленных приемов - оксюморон и оксюморонные сочетания фраз». При этом, по его наблюдениям, по преимуществу использовались те «сочетания противоположных значений, где друг другу противостоят богатство и бедность, одетость и нагота, сытость и голод, красота и уродство, счастье и несчастье, целое и разбитое и т.д.»197. Оксюморон, таким образом, подчеркивал всеобщую изменчивость, призрачность, незавершенность явлений, их непреложную взаимосвязь и взаимозаменяемость, возводя амбивалентность в непреложный закон мироздания.
И все же важнейшей чертой экспрессионистского гротеска явилось то, что, будучи формой художественного воплощения жизненного Хаоса, он становится и способом его эстетического о-своения. Парадоксальность экспрессионистского гротеска заключается в том, что он вырабатывает особые отношения с Хаосом: он каким-то образом примиряет с ним.
Повесть Б. Пильняка «Красное дерево» в оптике экспрессионистского мировидения
Будучи изначально эклектичным методом, импрессионизм, как полагает К. Эдшмид, в полной мере подготовил появление футуризма, который, в свою очередь, «еще раз взорвал пространство, разбитое на части, минуты, форматы, изображая картину мира как одно-временное соседство чувственных впечатлений» . Эдшмид признает, что этот принцип закономерно вызывает лишь самые пессимистические, безрадостные настроения, превращающие «последовательный ход импрессионистского мирового процесса в торопливое загнанное существование» . И это, по его мнению, не имеет ничего общего с экспрессионизмом, в основе которого заложено «великое трансформирующее вселенское чувство»: «Должна быть создана новая система мира, которая бы больше не имела ничего общего с питающейся лишь опытом системой натуралистов, которая не имела бы ничего общего с тем дробленым пространством, создающим мимолетное впечатление, должна быть создана система мира, которая бы выражала нечто во много раз большее, была бы подлиннее, а потому прекраснее».
Определяющим принципом экспрессионистского мировидения, по мнению К. Эдшмида, становится неразрывная связь с Вечностью, осознание того великого «космического чувства», единственно которое позволяет, в полной мере постигнуть тайну «великого чуда бытия»: «Чудовищная сила побудила душу быть могущественной, искать бесконечного, выражая то беспредельное, что связывает людей с космосом»239. Иными словами, в искусстве экспрессионизма принципиально меняется отношение к человеку, к личности: человек теперь не только индивидуум, связанный долгом, моралью, семьей. Он в этом искусстве становится ничем иным, как самым возвышенным и самым жалким - он становится человеком» - «Он больше не будет фигурой. Он действительно человек. Он часть космоса, вернее, космического чувства»240. «Здесь заключено новое и неслыханное по сравнению с предыдущими эпохами» - констатирует К. Эдшмид.
Важнейшим принципом поэтики экспрессионизма Эдшмид называет «дистанцированность», позволяющую за внешней формой увидеть непреходящее. И тогда «личное перерастает во всеобщее», и все возвращается к «своей сути: к простоте, всеобщности, сущности»241. Художник-экспрессионист не игнорирует действительность, не отворачивается от быта, но его отношение к действительности особым образом окрашено: «Факты имеют значение лишь настолько, чтобы дать художнику возможность сквозь них достичь того, что скрыть за ними» .
Эта дистанцированность (или от-страненность) становится проявлением одного из ведущих принципов поэтики экспрессионизма -мифологизации повседневности, быта, стремления в изменчивых чертах повседневности увидеть Вечное. И это в полной мере соответствует выделенному нами основополагающему принципу экспрессионистской художественной стратегии.
Возникший как следствие переворота в научном освоении мира, экспрессионизм поистине обозначил новые горизонты художественного поиска. Это действительно новый реализм, онтологический реализм243, попытка создания нового мифа о мире и месте человека в нем. Человек оказывается вписан в систему координат Вечности и неразрывно с нею связан. «Знаками Вечности» пронизана вся литература экспрессионизма: это и постоянное «вмешательство» Вечности в «Бурную жизнь Лайзика Ройтшванеца» И. Эренбурга, это и попытки прорваться сквозь пелену непознанного в поздних рассказах А. Грина («Мат в три хода», «Сила непостижимого» и др.), это и суд Вечности в «Конармии» И. Бабеля и «Мастере и Маргарите» М. Булгакова и т.д. .
Но поскольку Вечность в искусстве экспрессионизма - это знак принципиально незавершенного, продолжающегося творения, до конца не оформленного, не отлитого в окаменевшие формы; уже в недрах этого направления вырабатывается далеко неоднозначное отношение к категориям Хаос и Космос, являющихся, по существу, важнейшими аксиологическими категориями искусства. Экспрессионизм обозначил принципиальное родство Хаоса и Космоса, но не симбиоза, не синтеза, он выявил нечто иное. Искусство экспрессионизма представило Хаос как онтологически неизбежную, неизменную часть мироздания, именно из которой творится Космос.
Хаос становится не только символом несовершенства мира, но и непременным условием свободы продолжающегося творения, источником, в котором изначально заложена возможность гармонии. Этим обусловлен принцип амбивалентности художественной оценки, ибо каждый образ художественного мира становится не просто знаком несовершенства творимого мироздания, но и знаком текущей Вечности. Космогоническое значение при этом приобретает жизнь отдельного человека, поскольку единственно ему дана великая возможность преобразования Хаоса.