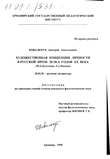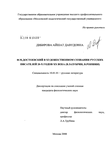Содержание к диссертации
Введение
1. Русская интеллектуальная проза: история изучения 8
2. Борис Пильняк: обнажение конструкции 38
3. Евгений замятин: от утопии к роману 74
4. «Король, дама, валет» в.набокова: метафизика конструкции 115
Заключение 139
Литература 152
- Русская интеллектуальная проза: история изучения
- Борис Пильняк: обнажение конструкции
- Евгений замятин: от утопии к роману
- «Король, дама, валет» в.набокова: метафизика конструкции
Введение к работе
^ Современное отечественное литературоведение с различных тео-
ретико-методологических позиций исследует эволюцию русской прозы XX века. Одним из ведущих направлений в этом процессе является изучение тех кардинальных изменений в способах повествования, которые привели к масштабному обновлению художественного языка литературы в первой половине XX столетия.
Бывшая долгое время базовой для изучения литературы (как русской, так и зарубежной) минувшего столетия категория «модернизма»,
'& лишившаяся в последние десятилетия узко оценочного звучания, нуж-
дается в конкретизации и уточнении ценностного наполнения. Все большее значение приобретают подходы, нацеленные на выявление интертекстуальных связей, соединяющих между собой художественные тексты, по тем или иным признакам относящиеся к разным литературным направлениям. Русская литература XX века предстает как единое целое и как часть литературы мировой, во многом предвосхитившая развитие художественного языка в сторону радикального отхода от
ных текстов на протяжении Нового времени.
Новые принципы функционирования литературы как повествовательного искусства привели к существенным изменениям в ценностном статусе художественных текстов, в их соотношениях с другими ветвями культуры, обусловили необходимость нового метаязыка для описания и анализа происходящих перемен, что, в свою очередь, стало причиной
,* бурного развития филологии, ставшей одной из ведущих областей куль-
* *
туры XX столетия. Приведенными выше факторами обусловлена актуальность диссертационного исследования.
Объектом диссертационного исследования является русская проза 20-х годов XX века и ее эстетическая специфика.
Предмет диссертационного исследования составляют особенности изменения художественного языка русской прозы 20-х годов XX века, приведшие к появлению качественно нового литературного явления, получившего название интеллектуальной прозы.
Цель диссертационного исследования заключается в комплексной характеристике русской интеллектуальной прозы как качественно нового художественного феномена, в значительной степени отходящего от принципов, лежавших в основе построения повествования в предшествующие исторические периоды.
Для достижения этой цели в работе ставятся следующие задачи: проследить различные пути развития русской интеллектуальной прозы 20-х годов XX века, нашедшие свое выражение в творчестве таких авторов, как Б.Пильняк, Е.Замятин и В.Набоков;
выявить способы организации повествования, характерные для интеллектуальной прозы, их типологические признаки и особенности, связанные с эстетической и мировоззренческой спецификой творчества каждого из исследуемых авторов;
соотнести интеллектуальную прозу с традиционными историко-литературными категориями («модернизм», «авангардизм», «импрессионизм», «экспрессионизм»);
определить роль и место крупнейших произведений интеллектуальной прозы 20-х годов XX века в дальнейшей эволюции способов повествования русской прозы.
Источником диссертационного исследования послужили художественные тексты крупнейших русских прозаиков - Б.Пильняка, Е.Замятина и В.Набокова, принадлежащие к разным литературным направлениям, но объединенные общими особенностями организации повествования, представляющими собой качественно новое явление в эволюции русской прозы.
Теоретико-методологическая основа работы складывается из следующих положений, доказанных в литературоведческих исследованиях:
методологическим основанием работы предстает теоретическая концепция, которая рассматривает понятие интеллектуальная проза» как выходящее за рамки привычных соотношений «модернизм — реализм», «модернизм — авангардизм» и т.д., вбирающее в себя тексты, порожденные различными мировоззренческими, эстетическими, литературными традициями; '
в 20-е годы XX века в творчестве целого ряда русских прозаиков происходит переориентация с чувственного на интеллектуальное переживание мира (исследования Г.А.Белой, М.М.Голубкова и др.);
подобная переориентация приводит к изменению в самом способе построения повествования, к переносу центра тяжести на внефа-бульные средства организации текста, усилению автокомментирующего начала, «обнажению приема» (работы Н.Т.Рымарь, Н.Ю.Грякаловой, Э.Корпала-Киршак и др.);
в качестве частных методик использованы понятийный аппарат русского формализма, метод мотивного анализа текста, метод выявления бинарных оппозиций.
Новизна проведенного диссертационного исследования состоит:
в выявлении эстетических параметров, объединяющих художественные тексты, принадлежащие писателям XX века, представляющим различные литературные направления;
в характеристике интеллектуальной прозы как нового типа повествования, становящегося выражением широкомасштабных процессов изменения художественного языка прозы XX века.
На защиту выносятся следующие положения:
На материале таких репрезентативных для русской прозы 1920-х гг. текстов, как романы Б.Пильняка «Голый год», Е.Замятина «Мы», В.Набокова «Король, дама, валет», выделяются основные черты интеллектуальной прозы: отказ от традиционной миметичности; перенос организующей функции с фабульных конструкций на систему мотивов; рационализация композиции; последовательная работа с чужим словом, предполагающая различные формы его использования в тексте; многообразная демонстрация авторского присутствия в тексте, выполняющая дезиллюзионистскую функцию.
Многообразие типов повествования в русской прозе 20-х годов XX века (и, прежде всего, в жанре романа, как наиболее динамичном и авторитетном) может быть' рассмотрено не только сквозь призму традиционных категорий («модернизм», «авангардизм», «реализм», «импрессионизм», «экспрессионизм» и др.), но и как многообразие вариантов реализации единого вектора развития прозы - ее интеллектуализации, перехода от изображения к выражению.
Этот вектор развития вплоть до середины 1930-х годов выступает как единый для обеих ветвей русской литературы — внутрироссий-ской и эмигрантской.
Эволюция культуры XX века (и русской литературы как ее части) приводит к заметной 'трансформации интеллектуальной прозы, ее постепенному растворению в других способах организации текста.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в следующем:
выявлены некоторые наиболее фундаментальные черты организации повествования, характерные для русской интеллектуальной прозы;
описаны особенности мотивных структур, являющихся основой построения текста в наиболее типичных образцах интеллектуальной прозы 1920-х годов;
картина истории русской литературы XX века дополнена новой позицией, позволяющей более полно представить некоторые пути эволюции отечественной прозы;
результаты выполненного исследования смогут найти применение в вузовских курсах по истории русской литературы XX века, теории литературы, спецкурсах по анализу художественного текста и литературе 1920-х годов.
Апробация исследования была проведена на двух научных конференциях: Международной научной конференции «Литература в диалоге культур» (Ростов н/Д., РГУ, 2003 г.); Конференция аспирантов и соискателей факультета филологии и журналистики РГУ (2003), а также в рамках спецкурса «Анализ художественного текста», предназначенного для слушателей курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы (РО ИПК и ПРО, 2002-2004 гг.).
По теме диссертации'опубликовано 3 работы.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, списка библиографии, состоящего из 272 источников.
Русская интеллектуальная проза: история изучения
Двадцатые годы XX века характеризуются существенными изменениями повествовательных принципов европейской литературы (несколько позже - литературы США). Процесс отторжения мировоззренческих и эстетических основ реализма, скомпрометировавших себя чрезмерно тесной связью с позитивистской философией и научной парадигмой, охвативший практически все литературы Европы, начался еще в 70-е годы XIX века, получив наиболее полное выражение в сложном комплексе явлений, получивших крайне дискуссионное и по сей день определение «декадентство». В качестве художественного языка, отвечающего новым требованиям времени, крупнейшие представители декадентства (О.Уайльд, Г.Д Аннунцио, С.Пшибышевский, С.Георге, П.Верлен и др.) предложили импрессионистический принцип музыкальности, принципиальную иррациональность картины мира и человеческого сознания, эстетизацию мимолетного, принцип превосходства эстетики над этикой. Отсюда почти абсолютное господство в художественной системе декадентства лирических жанров, позволяющих наиболее полно реализовать предельно субъективное видение мира. Принцип лиризма распространялся декадентством и на прозу: сохраняя в целом повествовательные принципы, выработанные предшествующими этапами развития литературы (сюжетность, линейная композиция, герой как средоточие повествования), декаденты (Д Аннунцио, С.Пшибышевский, Ш.Гюисманс) усиливают в своих прозаических текстах роль декоративной описательности, зачастую растворяя в ней привычную фабульность; усиливают субъективное начало в нарративе; проза малых жанров превращается в лирические миниатюры (П.Альтенберг), доводящие до предела импрессионистичность повествования. Принцип ли-ризации повествования продолжает оставаться определяющим и в последующий период (конец ХЇХ — начало XX века) сохраняясь в самом влиятельном литературном европейском направлении - символизме. Преобладание лирических жанров обусловлено тем, что «закономерности исторической и природной жизни воспринимаются поэтами символизма исключительно сквозь призму воздействия их на психический склад и внутренний мир личности, которая становится показателем общего состояния жизни»1. Стремление «выразить невыразимое», являющееся едва ли не центральным положением символистской метафизики, определило характерную поэтику предельной многозначности и много-плановости, повышенную важность лирического героя, культ искусства как тайновидения, в акте которого раскрывается сущность мира. Хотя символизм (в особенности русский) оказал сильное влияние и на язык художественной прозы (о чем ниже), но поэтические тексты все же, на наш взгляд, являются наиболее полно выражающими мировоззренческую и эстетическую природу направления. Тем не менее, символист-кая многоплановость, метафизическая насыщенность и наметившийся отказ от некоторых ключевых принципов повествования (миметич-ность, фабульность, психологизм), по-видимому, оказали заметное влияние на последующее развитие прозаических жанров и в первую очередь романа как магистральной формы европейских литератур Нового времени.
Последующая эволюция прозы традиционно осмысливается в рамках понятий «модернизм» и «авангардизм»,обозначающих более последовательную и систематическую перестройку повествовательных принципов. По определению И.Б. Черновой, «искусству модернизма свойствен принципиальный антипсихологизм ... Модернистский подход к литературному персонажу потребовал совершенно нового, "антиклассического" отношения к повествовательному времени, отказа от эпического принципа хроникальности, последовательного изложения событий»1. Модернистской прозе присущи повышенная конструктивность (зачастую - с обнажением конструкции, раскрытием самих принципов построения текста), использование монтажа, призванного заменить фабульный принцип (в рамках авангардизма эти подходы приобретают особенно радикальный характер, приводя в ряде случаев к распаду целостности текста в его привычном понимании). Наиболее полное воплощение эти принципы получили в этапном произведении XX века — романе Д.Джойса «Улисс» (1922), ставшем своеобразной энциклопедией модернистских подходов к построению текста.
В то же время, на наш взгляд, модернистская парадигма (характе-ризующаяся, помимо поэтики, специфической антропологией и историософией)2 не исчерпывает собой всю специфику процессов изменения повествовательного искусства в прозе 1920-х гг. Такие явления, как отказ от традиционной фабульности, от привычной пластики в изображении персонажей, от миметичности, повышенная аналитичность и появление автокомментирующего начала, характеризующие прозу Б.Пильняка, Т.Манна, А.Жида, Р.Музиля, О.Хаксли, Е.Замятина и других, на наш взгляд, выходят за рамки привычных терминов «модернизм», «авангардизм», «реализм» и могут считаться проявлением более общих культурных процессов, направленных на усиление аналитического, интеллектуального начала (достаточно назвать кубизм в живописи, идеи «Баухауса» в архитектуре и дизайне, формализм в филологии). Понятие «интеллектуализация» представляется нам наиболее подходящим для обозначения тех изменений, которые определяют специфику прозы 1920-х годов.
На наш взгляд, под интеллектуализацией романной формы 20-х годов следует понимать процесс перехода от господствовавшей на протяжении XVIII-XIX вв. миметической традиции (основанной, по Э.Ауэрбаху, на «описании, придающем вещам законченность и наглядность, свете, равномерно распределяющемся на всем, связи всего без зияний и пробелов, свободном течении речи, действии, полностью происходящем на среднем плане, однозначной ясности, ограниченной в сферах исторически развивающегося и человечески проблемного»1) к иному принципу повествования. Генезис этого принципа Ауэрбах усматривает в библейской поэтике и видит его характерные черты в «выделении одних и затемнении других частей, отрывочности, воздействии невысказанного, введении заднего плана, многозначности и необходимости истолкования»2. Основными структурными принципами этого типа повествования мы будем считать следующие.
Борис Пильняк: обнажение конструкции
Необычность романа Бориса Пильняка «Голый год» (1920) сразу же после появления этого текста сделалась предметом оживленного обсуждения в современной критике. Если сейчас временно вынести за скобки проблематику произведения (которая комментировалась и анализировалась уже преимущественно с узко идеологических позиций), то можно сказать, что основными моментами, вызвавшими наибольший интерес критиков, стали следующие:
1. Необычность архитектоники «Голого года», отсутствие сюжета в привычном смысле слова. «Собственно, — пишет Л.Троцкий, — у него есть наметка как бы даже двух, трех и более сюжетов, которые вкривь и вкось продергиваются сквозь ткань повествования; но только наметка, и притом без того центрального, осевого значения, которое вообще принадлежит сюжету»1. В этих словах заметно стремление расценить специфику романного построения как недостаток. К мнению Л.Троцкого близки суждения таких видных критиков марксистского лагеря, как А.Воронский и Вяч.Полонский. Так, Воронский видит в «Голом годе» «мозаику, механическое сцепление глав»2 и на этом основании вообще выводит книгу Пильняка за рамки привычной жанровой системы: «В сущности, это не роман» , «не рассказы, не повести, не романы, а поэмы в прозе» , мотивируя свое суждение прежде всего разрушением традиционной фабулы: «нет единства построения, фабулы и прочего, чего обычно требует читатель, беря в руки роман» .
Еще более категоричен в своих суждениях Вяч. Полонский: «... новые формы Пильняк, как известно, не создал. Он лишь "по-скифски" обращался со старой, механически кроша ее на кусочки, механически же комбинируя из осколков и обломков неорганизованное и хаотическое целое»2; «его композиционные эксперименты неудачны сплошь».
Иначе подходили к проблеме архитектоники «Голого года» исследователи, связанные с формализмом. Так, Ю.Тынянов связывает появление романа Пильняка с общим жанровым кризисом: «только на осно-ве полного жанрового распада, полной жанровой неощутимости мог возникнуть этот рассыпанный на глыбы прозаик»4. Но в этой же работе мы видим и стремление как-то определить то новое качество, которое возникает в результате этого кризиса: «И ведь получится конструкция — и название этой конструкции — "кусковая"... Самые фразы тоже брошены как куски — одна рядом с другой, — и между ними устанавливается какая-то связь, какой-то порядок»5.
Наиболее глубоко, на наш взгляд, новизна поэтики «Голого года» была осознана В.Шкловским. Констатируя, что у Пильняка «сюжет ... заменен - путем связи частей, через повторение одних и тех же кусков»6, Шкловский стремится далее определить, с помощью каких новых средств осуществляется построение текста: «Голый год» распадается на несколько кусков, связанных между собой повторениями фраз, общим проходящим «"припевом" метели... и участием героев одного отрывка в другом»1. Здесь, как мы видим, необычность «Голого года» уже осмысливается как движение к новому эстетическому качеству. Не случайно Шкловский, при всех оговорках, высоко оценивает новаторство Пильняка: «Он сумел осознать кризис традиционного сюжета. Из бессвязности стянутых за волосы (бороду) кусков он создал свой стиль»2.
2. Говоря о генезисе «Голого года» (и всего творчества Пильняка начала 20-х годов), современники в один голос указывают на творчество Белого. Можно сказать, что эта мысль была общим местом в критике 20-х годов. Ее постоянно высказывает в своих письмах М.Горький: «Вас явно смущает Белый, - недавно один филолог доказывал мне как вы - м.б., бессознательно-рабски — пользуетесь его архитектоникой, ритмом и лексиконом» (письмо Пильняку); «... пускаться на фокусы, как это делает Пильняк, заимствуя и искажая лексикон Андрея Белого»4 (письмо М.Слонимскому) «Он весь — из Белого»5 (письмо К.Федину). Как о чем-то само собой разумеющемся говорит о зависимости Пильняка от Белого Л.Троцкий: «Совершенно непонятно, каким образом Пильняк мог попасть в художественную зависимость от Белого»
Называет в числе «учителей» Пильняка имя Белого и Воронский, причем именно там, где речь идет об архитектонике: «На конструкцию последних вещей повлияли несомненно Андрей Белый и Ремизов»1. Шкловский, замечая, что «Пильняк — тень от дыма, если Белый — дым»2, особо выделяет в качестве связующего звена между творчеством обоих авторов «припев» метели3. Наконец, Ю.Тынянов характеризует не только генетическую преемственность, но и отличие «Голого года» от произведений Белого: «Возьмите "Петербург" Андрея Белого, разорвите главы, хорошенько перетасуйте их, вычеркните знаки препина-ния, оставьте как можно меньше людей, как можно больше образов и описаний - и в результате по этому кухонному рецепту может получиться Пильняк»4. Таким образом, в критике 20-х годов традиции Белого в прозе Пильняка характеризуются как архитектонические, языковые и ритмические.
3. Большинство писавших о «Голом годе» в 20-е годы не обошли вниманием и такую специфическую черту романа, как отказ от тради ционной пластики в изображении героев. Так, Горький в письме К.Федину рассматривает этот отказ как еще один недостаток романа, объясняя его «полным равнодушием к ценнейшему, живому материалу искусства - к человеку»5.
Евгений замятин: от утопии к роману
Если роман «Голый год» стал для Б.Пильняка своего рода «пропуском в большую литературу», текстом, с которого началась широкая известность автора, то Е.И.Замятин обратился к форме романа, уже будучи автором таких заметных произведений, как повести «Уездное» (1913), «На куличках» (1914), «Алатырь» (1915). О статусе Замятина в русской литературе начала 1920-х гг. свидетельствует настойчивое употребление таких терминов, как «замятинцы», «мэтр» и активное оспаривание правоты этих определений1. Имя Замятина — неизменный атрибут всех литературно-критических дискуссий 1920-х годов.
Статус Замятина — «мэтра», на наш взгляд, определяется прежде всего четко сложившейся повествовательной техникой его произведений, которая может рассматриваться как своего рода переходное звено между прозой русского модернизма 1910-х гг. (Белый, Сологуб, Ремизов) и художественными поисками первых послереволюционных лет2. По сути все критические отклики на произведения Замятина, при всем своем различии идеологических оценок, неизбежно обращены к особенностям его стилистики. Так, марксист А.Воронский, сосредоточив основное внимание на идейном субстрате прозы Замятина, все же отмечает «высокое умение художника одним штрихом, мазком врезать образ в память»1. Наиболее же полно специфика повествовательных конструкций Замятина была раскрыта в работах формалистов (видимо, в этом вновь сказалось родство ментальных и мыслительных конструкций ОПОЯЗа и русских модернистов). Так, Ю.Тынянов склонен видеть в стилистике Замятина источник эволюции его творчества: «Стиль Замятина толкнул его на фантастику. Принцип его стиля — экономный образ вместо вещи; предмет называется не по своему главному признаку, а по боковому; и от этого бокового признака, от этой точки идет линия, которая обводит предмет, ломая его в линейные квадраты. Вместо трех измерений — два... Еще немного нажать на педаль этого образа — и линейная вещь куда-то сдвинется, поднимется в какое-то четвертое измерение»2. В этих словах Тынянова выделен важнейший повествовательный принцип замятинской прозы — экономность знака, стремление к максимальной смысловой насыщенности и в то же время лаконичности образа.
Сам Замятин, для которого характерна развитая писательская рефлексия, так характеризовал свою поэтику в позднем эссе «Закули-сы» (1929 ? ): «Если есть звуковые лейтмотивы, должны быть и лейтмотивы зрительные. Каждый такой зрительный лейтмотив — то же, что фокус лучей в оптике: здесь в одной точке пересекаются образы, связанные с одним человеком... если я верю в образ твердо — он неминуемо родит целую систему производных образов, он прорастет корнями че-рез абзацы, страницы» .
Нельзя не отметить терминологическую четкость высказанных Замятиным положений, в частности, совпадающих с общепринятым в теоретической поэтике употреблением понятия «лейтмотив». Вполне определенно очерчена и сфера функционирования лейтмотива — в первую очередь это система персонажей.
Основные черты замятинской поэтики были очерчены и проанализированы в итоговой во многом работе В.Шкловского «Потолок Евгения Замятина» (1927). Поскольку это исследование носит, безусловно, этапный характер и представляет собой блестящий образец мотив-ного анализа, имеет смысл остановится на нем несколько подробнее. В.Шкловский выводит генеалогию замятинских лейтмотивов из «постоянных образов» Андрея Белого1 (первоначальное название статьи — «Эпигоны Андрея Белого. I. Евгений Замятин»): «... но Замятин отдал этому приему главенствующее место и на его основе строит все произведение»2. Анализ замятинских лейтмотивов основывается в первую очередь на «Островитянах» и «Ловце человеков»; другие произведения привлекаются лишь как дополнительные иллюстрации. Как указывает Шкловский, в этих повестях «определенная характеристика, нечто вроде развернутого эпитета, сопровождает героя через всю вещь, он показывается читателю только с этой стороны .
«Король, дама, валет» в.набокова: метафизика конструкции
Ко второй половине 1920-х гг. порожденное Октябрьской революцией разделение русской литературы на две ветви (литература метрополии и литература диаспоры) окончательно оформилось. Сложившиеся в обеих ветвях издательские системы, структуры эстетических оценок, их критерии, наконец, само сознание разделения как свершив-шегося факта все отчетливее обозначают принципиальное различие между приобретающей все более нормативный и идеологизированный характер советской литературой и обнаруживающей большую эстетическую открытость эмигрантской литературой. Тем не менее, на наш взгляд, применительно к 1920-м годам еще правомерно говорить об определенной общности процесса развития русской литературы в обеих ее ветвях (несомненное влияние сказовой манеры М.Зощенко на новеллистику Н.Берберовой, общность сюрреалистической поэтики К.Вагинова и Б.Поплавского, напряженный художественный диалог между М.Цветаевой и Б.Пастернаком и др.). К числу явлений, характеризующих эту общность, можно отнести и процессы интеллектуализации романной формы.
Конституирующееся с начала 20-х гг. самоопределение в качестве «хранительницы традиции» определило эмигрантскую литературу как по преимуществу ориентированную на некую усредненно-реалисти-ческую повествовательную модель. «Старшее поколение» эмигрантов (Бунин, Зайцев, Шмелев, Амфитеатров, Мережковский), разрабатывая эту модель, во многом дистанцируются от европейской литературной жизни, стремясь сохранить русскую культуру как некий анклав. Представители наиболее радикальных литературных тенденций (футуристы, Белый, Кузмин, Мандельштам, Пастернак) остаются в России либо возвращаются в нее. Ремизов и Цветаева, тяготеющие к модернизму, оказываются в своеобразной изоляции: в сознании читателя и критика эмиграции ставится знак равенства между литературным экспериментом и большевизмом; как сфбрмулировал Бунин, «не знаменательно ли, что нынешнему падению России, социальному, политическому и всякому прочему, не только сопутствует, но задолго предшествовал упадок ее литературы, когда всякое непотребство стало называться дерзанием, а глупость и истеричность — священным безумием, когда всяческий распад ... и всяческие "искания" (то есть как раз то, что не есть искусство и что художник должен, скрывать в своей мастерской) были столь бесстыдно прославлены самими же представителями всего этого, не менее бесстыдно, чем славит себя теперь большевизм»1. Поэтому развитие модернистской литературы в эмиграции оказалось замедленным по сравнению с метрополией, и по-настоящему серьезные поиски в направлении разрушения реалистических повествовательных форм и классического мимесиса относятся к концу 20-х годов и связаны с именем В.Набокова (Сирина).
Если раннее стихотворное творчество Набокова представляет собой некритическую рецепцию образности и метрики русской поэзии XIX — начала XX вв., то первые же прозаические тексты, начиная с романа «Машенька» (1926), сразу обнаружили принципиально новые черты поэтики. Наиболее явно художественная специфика набоковской прозы оказалась представлена во втором его романе «Король, дама, валет» (1928).
Среди откликов эмигрантской критики (критика метрополии по политическим причинам к концу 20-х гг. уже прекращает отзываться на тексты, созданные в эмиграции) на этот роман преобладают два аспекта: условно говоря, «заграничность» романа, его схожесть с европейскими литературными поисками, и непривычная для русской повествовательной традиции «сделанность» текста. Так, в крайне резкой и пристрастно несправедливой статье Г.Иванова две этих позиции осмыслены как показатель даровитости и в то же время принципиальной ущербности Сирина: «От "Короля, дамы, валета" — тоже очень ловко, умело, "твердой рукой" написанной повести — уже слегка мутит: слишком уж явная "литература для литературы". Слишком "модная", "сочная" кисть, и "темп современности" чрезмерно уловляется по последнему рецепту самых "передовых" немцев. Но и "Король, дама, валет", хотя и не искусство и не "вдохновение" ни одной своей строкой (как и "Защита Лужина"),— все-таки это хорошо сработанная, технически ловкая, отполированная до лоску литература и как таковая читается с интересом и даже с приятностью»1.
В более сдержанных по тону высказываниях обращалось внимание на специфическую проблематику романа и на соответствие ее поэтике текста. М.Цетлин видел центральную тему романа в образе механических манекенов: «задание романа "Король, дама, валет" (показать механичность, почти автоматичность душевной жизни в современном большом городе) — разрешено с подлинной силой»2. Ему же принадлежит указание на стилистическую близость набоковской поэтики произведениям немецкого экспрессионизма3