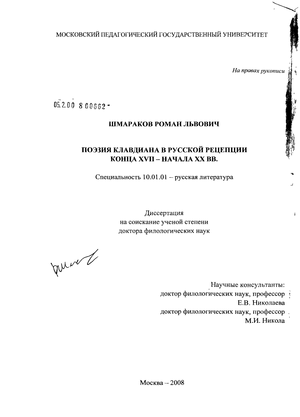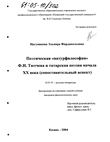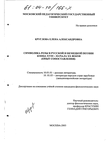Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Предыстория: Клавдиан в русской литературе до 1730-х годов 15
CLASS ГЛАВА 2. Клавдиан и торжественная ода 4 CLASS 5
ГЛАВА 3 . Клавдиан и героическая поэма 121
3.1. Прямое влияние: «Гильдонова война» и эпический аппарат чудесного 121
3.2. Опосредованное влияние: сцена адского совета 156
ГЛАВА 4. Клавдиан в переводах М.И. Ильинского 177
4.1. Клавдиан и неолатинские поэты 177
4.2. «Кл. Клавдиана творения» 188
ГЛАВА 5. Клавдиан в эпоху «категориального перелома» (1780-е) ., 234
5.1. Клавдиан и высокое 235
5.2. Новая одическая рецепция: жанровые новации В. Петрова 252
5.3. Клавдиан в культуре сентиментализма: пределы рецепции 271
ГЛАВА 6. Упадок и возвращение: с 1810 по 1910-е годы 301
6.1. Клавдиан и самобытное; 1810-30-е гг 301
6.2. «Льстивый панегирист» и «школьная реторика»: с 1840-х до начала XX века 326
6.3. Клавдиан в символическом лесу: начало XX века 345
Заключение 373
Литература 377
Сокращения 405
- Прямое влияние: «Гильдонова война» и эпический аппарат чудесного
- Опосредованное влияние: сцена адского совета
- Клавдиан и неолатинские поэты
- Новая одическая рецепция: жанровые новации В. Петрова
Введение к работе
Едва ли стоит подробно говорить о том, что греко-римская античность есть общее достояние народов Европы и что именно она представляет собой зримое единство «европейского дома», отказ от которого приводит к разнообразным крайностям духовного партикуляризма; что самый гуманизм, со всеми импликациями, расширившими его значение, берет исток от занятий классической литературой, понимаемых как studia humaniora, т.е. в наибольшей степени приличествующих человеку.
Меж тем в духовном комплексе, который объединяется именем Античности, римская культура занимает специфическое место для новоевропейской традиции. «Римская литература — первая "выведенная" литература. Она сознательно вступает в спор с традицией другого народа, превосходство которой признает. Она обретает себя, отделяясь от предшественников, и вырабатывает дифференцированное самосознание. Таким образом она осуществляет предварительную работу в интересах позднейших европейских литератур и получает возможность стать по отношению к ним в позицию учителя» [4,1, ЗІ]1. Римская литература была первой, возникшей в подобных обстоятельствах, но с тех пор «дифференцированное самосознание» становится проблемой любой складывающейся национальной литературы, для которой римский опыт является принимаемой или отторгаемой моделью. Греческая литература созидает условия
Ср.: «Если греческая словесность важна для всех по своему художественному богатству и полной самостоятельности, литература римская представляет для нас особый интерес по многим параллелям с литературой русской. Мы, как и римляне, заимствовали литератур-ныя формы, а отчасти и содержание своей словесности; как и римляне, мы постепенно освобождались от подражательности, и путь наш и их был один и тот же. У нас, как и у них, первые литераторы, давшие несколько образцов в разных видах "поэзии", таких образцов, которые обратили на себя внимание только потому, что были первыми в своем роде (подобно тому, как первыя ягоды летом ценятся, как бы оне ни были кислы) понимают о себе очень высоко и настойчиво требуют себе безсмертия», - пишет рецензент (А.К.) «Лекций по истории римской литературы» В.И. Модестова. В примечании он сравнивает самомнение Сумарокова с самомнением Энния, прибавляя: «Это общее явление подражательных литератур, также Петрарка, как автор Африки, мнил себя равным Виргилию, Готшед - равным Буало и т.д.» (ИВ. 1888. №9. С.651 ел.).
для диалога, а римская в эти условия входит, познавая мир словесности не в космогонических, а в космологических терминах. Ее ситуация многократно воспроизводилась в истории европейских литератур. При этом опыт римской архаики и классики оказывался преломлен через призму поздней античности. Оглядываясь в прошлое, Полициано видел Овидия через Клавдиана и Вергилия через Лукана и Стация, - а отец классической филологии, Петрарка, был одним из творцов легенды о Клавдиане как своем земляке, одном из когорты прославивших флорентийское имя.
Позднеримские оценки, окрасившие трансляцию классического наследия, широко растеклись по новоевропейской культуре. После структурного кризиса III в. римская культура переживает последний расцвет - «константиновско-феодосиевское возрождение», где имя Клавдиана — одно из самых ярких.
Биографических подробностей о Клавдиане известно мало. Клавдий Клав-диан, грек родом из Александрии Египетской, появившийся на свет около 370 года, в начале 390-х годов покинул родину и после более или менее продолжительных странствий, о направлении которых можно лишь гадать, прибыл в Рим, где, выступив как латиноязычный поэт и удачно выполнив заказ на панегирик консулам 395 года, привлек внимание Стилихона, романизированного вандала, полководца Феодосия Великого. Стилихон, которого Диесперов [86, 96] удачно назвал «полудержавным властелином», после смерти Феодосия стал опекуном его младшего сына Гонория и правителем западной половины империи - но объявил, что умирающий император оставил его опекуном и старшего сына, 18-летнего Аркадия. Первое написанное по заказу двора сочинение Клавдиана должно было засвидетельствовать эти притязания. В панегирике на консульство 396 года, которое принимал 11-летний Гонорий, Клавдиан с блеском решил задачу прославления державного отрока, равно как и задачу, поставленную Стилихоном, и с этого момента занял блистательное и беспокойное место придворного поэта, заслужив на этом поприще славу «певца Стилихона» и титул «последнего римлянина» (чаще и, кажется, с большими основаниями воздаваемый Боэцию). С 396 и до 404 года, когда Клавдиан, видимо, окончил свои дни,
он создал десять больших политических поэм, трижды воспев консульства Го-нория (III Сот., IV Сот. и VI Сот. - 396, 398, 404 гг.), почтив консульство выдающегося философа-платоника Манлия Феодора (Theod., 399 г.) и создав самый объемный панегирик, в трех книгах, на консульство Стилихона (Stil.l-Ш, 400 г.). Главные враги планов Стилихона на Востоке, префект претория Руфин и препозит священной опочивальни Евтропий, евнух и восточный консул 399 г., удостоились каждый полномасштабной клавдиановской инвективы - «Против Руфина» (Rufl-IT) и «Против Евтропия» (Eutr.l-W); первая была написана уже после того, как Руфин был растерзан войсками на глазах Аркадия (ноябрь 395 г.), а вторая рецитирована полностью, когда Евтропий уже был сослан на Кипр и казнен прежде, нежели истек год его консульства. Молниеносная кампания Стилихона против комита Африки Гильдона, чье отложение от западно-римской империи грозило Риму голодом, а Стилихону падением, вызвала к жизни поэму «Гильдонова война» (Gild., 398 г.), а война с вторгшимися в Италию готами Алариха - поэму «Война Поллентская, или Гетская» (Get., 402 г.); эти две поэмы можно определить как эпические, но с большими оговорками, особенно актуальными для III главы нашего исследования, — это не эпос, сопоставимый с вергилиевским, лукановским или даже эпосами флавианской эпохи, но специфический жанр, насыщенный панегирическим элементом. Наконец, в 398 г. по случаю бракосочетания Гонория с Марией, дочерью Стилихона, Клав-диан пишет гекзаметрический эпиталамий (Nupt.) и обновляет фольклорный жанр фесценнин (Fesc.l-W).
Кроме того, в какой-то трудноопределимый период Клавдиан создает мифологическую поэму «Похищение Прозерпины», оставшуюся неоконченной (Raptl-Ш), начинает латинскую «Гигантомахию» (Gig.), тоже незавершенную, и создает большое число разножанровых произведений, объединенных в корпус carmina minora, где есть и эпиграммы (экфрастические и «острые»), и элегии, и послания, и панегирические тексты.
Уехав из Рима к миланскому двору Гонория в самом начале своей придворной карьеры, Клавдиан оказался в Риме вновь лишь в 400 г., когда он реци-
6 тировал перед сенатом третью книгу панегирика Стилихону (Stil.lll). По этому случаю сенат декретировал удостоить его бронзового памятника на Форуме Траяна— для 30-летнего грека, пишущего латинские стихи, это успех более чем блистательный. В том же году он женится на дочери богатого сенатора из Африки, причем в устройстве этого брака участвовала племянница Феодосия Великого и супруга Стилихона, Серена, к которой поэт обращается со стихотворным выражением признательности. Клавдиан проводит медовый месяц в Африке; с этим периодом связано прекращение его поэтической деятельности - от «Гетской войны» (Get.), рецитированной в Риме в мае-июне 402 г., до «Панеги- -рика на VI консульство Гонория Августа» (VI Сот.), исполненного там же в январе 404 г. VI Cons. - последняя датируемая поэма Клавдиана; если Клавдиан не умер в этом же году, то во всяком случае он не пережил 408 года, когда в результате антигерманского заговора Стилихон был казнен, а его приверженцы перебиты в Равенне. Чем-нибудь помимо смерти трудно объяснить то, что Клавдиан не откликнулся на второе консульство Стилихона в 405 г.
Через четыре года после смерти Клавдиана гибнет Стилихон; тогда же по приказу Гонория умерщвлены и Серена, и ее со Стилихоном сын, Евхерий. Еще через два года вечный Рим был захвачен готами Алариха; на современников (например, на блаж. Иеронима) весть об этом подействовала, как признак конца света. Трудно не поддаться впечатлению, что, если к достоинствам поэтического таланта относится провидение, то этим даром Клавдиан был обделен: его поэзия пережила предметы, которым добросовестно служила.
Клавдиан создал в латинской литературе жанр стихотворного панегирика — порождение, как выражается Ал. Кэмерон, «брака между греческим панегириком и латинской эпической поэзией» [350, 255]; перспективность этой новации трудно переоценить. Счастливый наследник классических и постклассических эпиков, хотя и не посягавший на жанр национальной эпопеи, ушедшей из латинской литературы с Силием Италиком, один из самых поздних выразителей римского патриотизма, Клавдиан дал возвышенный образ «золотого Рима» (знаменитая тирада в ^/7.111,130-166), переживший века и
одушевлявший национальное чувство и политические теории итальянцев начиная с Данте, чья «Монархия» в этом отношении испытывает как минимум опосредованное влияние Клавдиана через Бенцо д'Алессандрия. Как панеги-" рист и эпиталамист, Клавдиан ближайшим образом влияет на Сидония Аполлинария, Меробавда, Венанция Фортуната; вкус к персонификациям и отточенная неоклассицистская стилистика роднит его с Пруденцием, хорошо знавшим его творчество; средневековая слава Клавдиана, когда его начинают читать в X в. и когда к XII в. он становится в один ряд с классическими римскими поэтами, будучи цитируем наравне с Луканом и Овидием, - это прежде всего слава политического философа и, если можно так выразиться, «поэта-метафизика»: первой обязан своим существованием авторитет Клавдиана в «Поликратике» Иоанна Солсберийского и иных «зерцалах государей», второй — влияние Клавдиана на одну из важнейших аллегорических поэм Средневековья, «Антиклавдиан» Алана Лилльского. Ал. Кэмерон венчает девятую главу своей монографии выразительной цитатой из «Репертория» Конрада де Мура (XIII в.), разъясняющего, что Стилихон - «собственное имя кого-то, о ком достаточно много говорит Клавдиан» (proprium nomen cuiusdam, de quo satis dicit Claudianus: [350, 252]): достойный повод для размышлений о посмертной славе. Клавдиан жил, пока идеал poetae docti, ученого поэта, который он умел воплотить, оставался жизнеспособным. У него учились поэты барокко; XVIII век обвинил его в «напыщенности» и «дурном вкусе»; Аддисон сравнивал батальные сцены его «Гигантомахии» с аналогичными в «Потерянном Рае», отказывая Клавдиану в способности к возвышенному [338, 239f.], - но еще Эдуард Гиббон заканчивает 30-ю главу «Упадка и разрушения Римской империи» похвалой нашему поэту: «В пору упадка искусств и империи уроженец Египта, получивший образование грека, в зрелые лета приобрел глубокую осведомленность и совершенное владение латинским языком, поднялся над головою своих жалких современников и после трехсотлетнего перерыва занял место среди поэтов Древнего Рима» [364, 495].
Исследование Клавдиана было нами предпринято по следующим соображениям общего порядка. Несмотря на всеми понимаемую важность того, что называется «русской Античностью», в том, что касается освоения отдельных классических авторов на русской почве, научные результаты трудно назвать удовлетворительными. У нас нет монографических работ о русском Феокрите, русском Овидии, русском Тибулле, русском Катулле и проч., а фундаментальная книга, называющаяся «Гораций в России», написана отнюдь не в России, а в Германии, В. Бушем, и на русский язык по сию пору не переведена, хоть и вышла более сорока лет назад, в 1964 году. По существу, единственной крупной работой такого плана остается классическая книга А.Н. Егунова «Гомер в . русских переводах XVIII - XIX веков», но она, во-первых, изначально трактует достаточно узкую тему, а во-вторых, вышла одновременно с книгой Буша, в 1964 году, и даже в этих тематических рамках можно было бы много добавить на нынешнем этапе — меж тем на смену ей не идут новые работы. Все это не свидетельствует о внимании к классической древности. Поздней античности вдвойне не посчастливилось - традиционно третируемая как затянувшийся декаданс, она не осознана как проблема для русской литературы: если влиятельность Овидия и Тибулла всем очевидна, то влиятельность Авсония и Клавдиана надо еще доказывать.
Клавдиан как объект изучения слависта обладает следующими достоинствами. Это очень большой поэт - теперь этого никто не оспаривает, а за последние десятилетия мировая наука находит пути анализа позднеримской поэзии как специфического явления, законы которого несводимы к классической поэтике. По обширности произведенного им влияния он превосходит, возможно, любого позднеримского автора. Отсюда одно частное следствие: часто по Клав-диану судят о позднем Риме вообще - и даже о послеклассической литературе в целом; он репрезентирует всю позднеантичную эпоху и становится ответственным за вещи, которых сам не делал. Это искажает его собственный облик, но делает его аутентичной эмблемой не столько римского заката, сколько умонастроений эпохи, смастерившей эту эмблему. Его русская рецепция, которую
можно непрерывно проследить с конца XVII в., была столь неровной по характеру и интенсивности, с такой резкой переменой оценок, что Клавдиан может оказаться хорошей лакмусовой бумагой, свидетельствующей о внутреннем состоянии культуры и производимых ею пересмотрах ее собственных мнений.
Важнейшим обстоятельством является то, что поэзия Клавдиана представительна для позднеантичной культуры своей риторической отрегулированно-стью, побудившей Алана Кэмерона заметить, что Клавдиан «был посвящен в таинства поэзии, что бы он себе ни говорил, не Музами на Геликоне, а грамматиком в школьном классе» [350, 24]. Причастность Клавдиана культуре «готового слова» делает его русскую судьбу воплощением того «категориального перелома» (А.В. Михайлов), который протекает в европейских литературах последней трети XVIII века и состоит в переходе от риторически структурированной эстетики «подражания и соревнования» к концепции гениальности и оригинального (самозаконного) творчества1. На русской истории Клавдиана в XVIII веке можно выявить национальные черты этого процесса, а дальнейшие формы рецепции демонстрируют, как культура пыталась модифицировать фигуру «риторического Клавдиана». Риторика в системе культуры оказывается основным узлом проблем, нами затрагиваемых.
При этом русское влияние Клавдиана, хотя богатое, в отношении релевантного материала все же достаточно компактно, чтобы ставить и решать связанные с ним проблемы индивидуальными усилиями: об этих последних речь идет потому, что опираться в научном плане практически не на что (в качестве общей работы по «русской Античности», задающей единую перспективу и закладывающей принципиальную основу для частных иследований, мы ориентировались на известный курс Г.С. Кнабе: [131]). Между тем как Клавдиан хорошо изучен на своем историческом поле и в рамках своей поэтической системы (можно назвать фундаментальные работы П. Фарге, Ал. Кэмерона, 3. Деппа, X. Гнилки, М. Робертса и множество работ, трактующих ча-
' О культуре «готового слова» и ее смене «свободным словом» см. работы А.В. Михайлова: [186, 510 слл.; 187, 28 ел. et passim]; ср. также [151, 18 ел.].
стные проблемы исторического и литературного плана), судьба его в национальных литературах исследована мало. Ал. Кэмерон предпринял обзор его влияния на английскую словесность [350, 426-451]; применительно к русской литературе подобные исследования не производились.
Новизна нашей работы состоит, таким образом, в постановке проблемы влиятельности крупнейшего позднеримского поэта в русской литературе, определения сфер этой влиятельности, ее предметного содержания и эволюции. Впервые в отечественной филологической науке русская рецепция одного позднеантичного поэта становится предметом монографического изучения, которое дает возможность предметно судить о судьбе поздней античности в русской культуре.
Мы избегали повторять сказанное о Клавдиане в аппарате нашего перевода [127]. Поэтому, в частности, в работе нет подробного описания исторического контекста клавдиановских поэм, который намечен кое-где по необходимости, но в детализованном виде, как представляется, должен оставаться за пределами этой работы. Мы начинаем с русской ситуации XVII века, когда Клавдиан впервые появляется в отечественной культуре. Структура работы, соотносимая с этапами восприятия римской литературы вообще, такова.
1) Период конца XVII - первой трети XVIII в. стоит определить как подго-. товительныи: здесь накапливается осведомленность, римская литература только готовится быть образцом для оригинального литературного творчества, обычная форма ее активности в эту эпоху - цитаты в трактатах, примеры в проповедях и ученых стихах, звучная ономастика во всех этих жанрах. «Русской предыстории» посвящена первая глава работы. Со второй половины XVII века до 1730-х годов простирается период, когда имя Клавдиана вкупе с его тематикой и поэтикой становится известно русским книжникам и начинается накопление знаний о нем; это эпоха жанрового инобытия Клавдиана — разобранный на сентенции, он выступает как дидактический поэт в проповедях, этико-. политических трактатах и латиноязычных пособиях по риторике и поэтике. Симптоматическим образом первый известный нам перевод из Клавдиана - это
11 выполненный на исходе XVII в. А.Коробовским перевод «речи Феодосия» из IV Cons., вписывающейся в хорошо известную и востребованную на Руси традицию «княжеских зерцал».
2) 1730-е - 1780-е гг. Этот период можно определить как рецепцию римской поэзии способами, предопределенными самой римской поэзией: мы имеем в виду риторическую стратегию подражания и соревнования. Эпохе классицизма, когда рецепция его поэзии приобрела систематический характер, посвящена центральная часть нашей работы. В классицизме нас интересует ближайшим образом та составляющая, что определена его названием: поле, на котором развивается литература, очерчено совокупностью образцов; каждый жанр имеет абсолютный первообразец, и нормальное творчество протекает как подражание (imitatio) образцу, т.е. осознанное подчинение выведенной из него системе предписаний, и соревнование (aemulatio), т.е. стремление превзойти образец на его риторическом поле, «...такой панегирик (составленный по риторическим рецептам в честь правителя. - Р.Ш.) приобретал черты политической программы: читая ежегодные панегирики Клавдиана, в которых все мироздание напрягается в ликовании о римских успехах, трудно не вспомнить оды Ломоносова с их такой же патетической публицистичностью... Темперамент его неподделен, риторическая фантазия неистощима, свой гиперболически-напряженный стиль, выработанный по лучшим образцам Лукана, Стация и Ювенала, он безупречно выдерживает без единого срыва. Если Авсония "открыл" XIX век, то Клавдиан был признанным учителем высокого слога и панегирического жанра для всех предыдущих веков - и для Ренессанса, и для барокко, и для классицизма: на него не умилялись, но ему подражали деловито и с пользой» [59, 24, 30]. В этой риторической перспективе дилемма «идти по стопам древних» / «искать то, что искали они» осмысляется как ложная, поскольку так или иначе к настоящему моменту освоены все пути, на которых можно было успешно искать ценных решений не без надежды на успех, и вне подражания нет плодотворного сочинительства. Для новой литературы, собиравшейся работать на риторическом поле, памятник Клавдиану на Форуме Траяна стоял отдален-
ной, но соблазнительной вехой того, чего можно добиться здесь и такими средствами. Клавдиан в эту эпоху выступает образцом высоких жанров, торжественной оды и героической поэмы - его влиятельности и трансформациям в этих сферах посвящены вторая и третья главы нашей работы; в этой связи Клавдиан интересен эпохе как целое, как весь корпус его текстов — и на выходе из этой эпохи итог подведен попыткой М.И. Ильинского издать по-русски всего Клавдиана, единственной попыткой такого рода за триста лет новой русской литературы: ей посвящена четвертая глава, рассматривающая работу Ильинского как в отношении той социокультурной среды, из которой она вышла (духовные школы с традицией неолатинского панегирического стихотворства), так и в отношении той русской литературной традиции, из которой она черпает (ориентация его стилистики на торжественную оду).
3) Следующие полтора века (последняя четверть XVIII - начало XX) можно обобщить формулой «рецепция римской поэзии с отказом от способов, предопределенных римской поэзией». Происходит кризис риторики, и распространившаяся в предромантическую и романтическую эпоху концепция оригинального творчества кардинально меняет пути освоения литературы, которая, казалось, вне риторического поля существовать вообще не может.
Античность теперь не риторическая норма, а историческая эпоха: как каковая она может оставаться нормативной, давая героический тип классицизма (декабристский, например), но главное - что теперь лишь может, т.е. эта нормативность перестает быть универсальной, и что меняется ее сфера: это уже не жанровая, а стилистическая, этическая и пр. нормативность. С отказом от риторики, обеспечивавшей культурный континуитет (безусловно, оборачивавшийся недифференцированностью исторического взгляда) античность как некий «образ века» становится рядом с невоевропейской эпохой как тоже неким «образом века», и возникшая дистанция обеспечивает как возможность чисто эстетического отношения, так и возможность научного подхода. Стилизация (в широком смысле, включая жизнетворческую, как декабристское подражание героям Плутарха), научное исследование (дополняющееся при случае художественным
із «реконструированием эпохи», самым адекватным жанром для которого становится неизвестный античности и не кодифицированный риторикой роман) и перевод, по возможности «точный», — три основные формы, в которых воплощается рецепция античности в эту эпоху.
Таким образом, две главы работы, пятая и шестая, касаются перелома, совершившегося в последнюю треть XVIII в., и его отдаленных последствий. Рубеж XVIII-XIX вв., когда репутация Клавдиана как достойного образца возвышенного была опротестована, а нового исторически продуктивного понимания его найдено не было, проанализирован в пятой главе: здесь мы -видим, как нарождающееся неприятие клавдиановской патетики соседствует с еще жизнеспособной одической традицией, в лице В.П. Петрова снова обращающейся к клавдиановскому наследию.
Три этапа понимания Клавдиана с позиций разнотипного историзма (романтического, позитивного и символического), завершившиеся возрождением интереса к позднеримскои культуре в начале XX в., занимают последнюю, шестую главу. В Заключении подводятся итоги русской рецепции Клавдиана.
Отдельные аспекты работы обсуждались на научных конференциях: -Милоновских (2003) и Николаевских (2004) чтениях, Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию В.Н. Ашуркова (2004), VII региональной научно-практической конференции «Гуманитарная наука в Центральном регионе России: состояние, проблемы, перспективы развития» (2005) в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Всероссийской научной конференции «Жанр в контексте современного литературоведческого дискурса» (Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2004), XVI Пуришевских чтениях (МПГУ, 2004), IV и V Международной научной конференции «Русское литературоведение на современном этапе (Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова, 2005 и 2006). Материалы диссертационного исследования использовались при подготовке курсов лекций по дисциплинам «История древнерусской литературы», «История русской литературы XVIII
века», читавшихся на факультете русской филологии Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. В процессе работы над диссертацией был выполнен и подготовлен к печати первый в России полный перевод Клавдиана с обширным научным аппаратом [127]. Основные аспекты работы отражены в публикациях.
Прямое влияние: «Гильдонова война» и эпический аппарат чудесного
В 1779 г. появляется из печати «Россияда» М.М. Хераскова, первая русская полномасштабная эпическая поэма. В первой ее песни мы находим образ олицетворенной России, возносящей молитву к небесам:
«Россия, прежнюю утратив красоту, И видя в круг себя раздор и пустоту, Везде уныние, болезнь в груди столицы, Набегом дерзких Орд отторженны границы, Под сенью роскошен колеблющийся трон, В чужом владении, Двину, Днепр, Волгу, Дон, И приближение встречая вечной ночи, Возносит к небесам заплаканныя очи; Возносит рамена к небесному Отцу; Колена преклонив, прибегла ко Творцу; Открыла грудь свою, грудь томну, изъязвленну, Рукою показав Москву окровавленну, Другою вкруг нее слиянно море зла; Взрыдала, и рещи ни слова не могла».
Бог слышит ее: «Дни горести ея в единый миг изчислил; Он руку помощи простерти к ней помыслил. Светлее стали вдруг над нею небеса, Живительная к ней пустилася роса, Ея печальну грудь и взоры окропила, Мгновенно томную Россию подкрепила; Одела полночь вкруг румяная заря; На землю Ангели в кристальну дверь смотря, Составили из лир небесну гармонию, И пели благодать, венчающу Россию». Утешив ее, Бог предприемлет спасение Русской земли: «Тогда единому от праведных мужей, Живущих в лепоте божественных лучей, ... Всевышний рек: гряди к потомку твоему, Дай видеть свет во тме, подай совет ему; В лице отечества явися Иоанну, Да узрит он в тебе Россию всю попранну!..» К Иоанну IV во сне является князь Александр Тверской:
«Скоряй, чем солнца лучь, текущаго в эфир, Летящий средь миров, как веющий зефир, Небесный муж в страну полночную низходит, Блистательну черту по воздуху проводит; закрытый облаком, вступает в царский дом, Где смутным Иоанн лежал объятый сном». Представ царю не во славе, но в том образе, в каком был в час смерти, князь-мученик укоряет его праздность, дает ему видеть на небесах его скорбящих предков, некогда погибших от татар, и призывает идти войной на татар. «Вещал, и далее вещати не хотел. Чертог небесными лучами озарился, Во славе Александр в дом Божий водворился. Смущенный Иоанн не зрит его во мгле; Страх в сердце ощутил, печали на челе; Мечта со-крылася, виденье отлетело, Но в Царску мысль свой лик глубоко впечатлело, И сна приятнаго Царю не отдает; С печальнаго одра он смутен возстает, Кидает грозныя ко предстоящим очи». Боясь снова быть соблазнен придворными льстецами, Иоанн призывает доверенного друга Адашева, пересказывает ему сон и ведет речи о войне [310,1, 8-13].
В литературоведческой науке, насколько нам известно, не указывалось, что эта сюжетная схема является подражанием Gild. .
Не вдаваясь в композиционный разбор клавдиановской поэмы [127, 487-493], выделим интересующие нас эпизоды. После краткого вступления персонифицированный Рим (богиня Рома) и Африка, поднявшись на Олимп, возносят пространные мольбы к Юпитеру, моля избавить их от тирании Гильдона. Юпитер обещает им спасение и возвращает истощенной голодом и старостью Роме былую силу. Ночью посланные им с небес император Феодосии Великий и его отец, полководец Феодосии Комит (обожествленные, divi), спускаются в чертоги двух нынешних императоров, сыновей Феодосия Великого. Сам он беседует с восточноримским императором Аркадием, упрекая в попустительстве Гильдону и в неприязни к Стилихону, верному слуге императоров, а Феодосии Комит, явившись во сне своему внуку Гонорию, императору Запада, увещевает его начать войну с маврами. Проснувшись, Гонорий призывает своего тестя Стилихона и беседует с ним о своем сне и будущей войне.
В обоих случаях находим общую сюжетную схему: олицетворенная страна, взывающая с мольбой к божеству, - его благосклонный ответ, чудесное преображение персонификации и приказ святому помощнику - ночное появление посланца небес перед государем - призыв к войне и его обсуждение с доверенным лицом поутру. Эта схема является изобретением Клавдиана: до него ни один эпик к ней не прибегал. Но для нас не менее интересно, что после него ни один эпик, относимый литературным сознанием XVIII в. к числу образцовых (Ариосто, Тассо, Камоэнс, Мильтон, Вольтер, Клопшток), клавдиановской схемой не воспользовался, и, следовательно, Хераскову неоткуда было взять ее в детализованном виде, кроме как у самого Клавдиана.
Опосредованное влияние: сцена адского совета
В двух поэмах Клавдиана есть две сцены, находившиеся у него в комплементарных отношениях [350, 265, 303, 459 463]. Завязка Rapt, —начавшееся было восстание преисподней против небес. Плутон, возмущенный тем, что он один из богов лишен радостей супружества, угрожает, выпустив Титанов, сокрушить олимпийских богов и ввергнуть вселенную в хаос. Чудовища, обитающие в Тартаре, стекаются ратью, Фурии злоумышляют на Громовержца, и Тисифона, вращая факелом, скликает манов в военный лагерь. Но Парки увещевали царя преисподней не рушить мир, законы которого они выпряли, и про сить Юпитера, чтоб тот дал ему жену. Плутон призывает Меркурия, связующего миры небесный и подземный; глазами «Майина сына» мы видим прогневленное божество черного мира (itapf.1,79-88): Ipse rudi fultus solio nigraque verendus maiestate sedet. Squalent immania foedo sceptra situ; sublime caput maestissima nubes asperat et dirae riget inclementia formae. Terrorem dolor augebat. Tunc talia celso ore tonat (tremefacta silent dicente tyranno atria; latratum triplicem compescuit ingens ianitor et presso lacrimarum fonte resedit Cocytos tacitisque Acheron obmutuit undis et Phlegethonteae requierunt murmura ripae).
Сам, утвердясь на грубом престоле, сидит, страшный черным величием. Огромный скипетр покрывает короста мерзостной ржавчины; возвышенную голову помрачает облако скорби; он застывает с немилостивым и суровым видом. Печаль делает его более страшным. Тут из надменных туст грянули такие слова (когда властитель заговорил, поколебленный умолкает чертог; тройной лай удержал чудовищный привратник, и, подавив источник слез, остановился Копит, и волна Ахерона умолкла, и Флегетоновы бреги отдохнули от ропота)... Плутон требует от брата даровать ему супругу, осыпая его укоризнами и суля в случае отказа немилосердную войну. Меркурий доставляет этот ультиматум на Олимп, и Юпитер по тяжком раздумье приходит к мысли выдать за Плутона свою дочь от Цереры Прозерпину.
Ruf.l, после вступления, трактующего проблему теодицеи, открывается сценой адского совета. Сходство завязок обеих поэм подчеркивают словесные совпадения (Rapt.1,32: Dux Erebi quondam tumidas exarsit in iras — Ruf.l,25sq.: Invidiae quondam stimulis incanduit atrox / Allecto). Фурия Аллекто, воспалясь завистью при виде земных городов, пребывающих в мире, собирает совет, на который стекаются аллегории, обитающие в преисподней (7 1,27-40) Protinus infernas ad limina taetra sorores concilium deforme vocat. glomerantur in unum innumerae pestes Erebi, quascumque sinistro Nox genuit fetu: nutrix Discordia belli, imperiosa Fames, leto vicina Senectus impatiensque sui Morbus Livorque secundis anxius et scisso maerens velamine Luctus et Timor et caeco praeceps Audacia vultu et Luxus populator opum, quern semper adhaerens infelix humili gressu comitatur Egestas, foedaque Avaritiae complexae pectora matris insomnes longo veniunt examine Curae. complentur vario ferrata sedilia coetu torvaque collectis stipatur curia monstris. Тотчас в угрюмом чертоге сзывает она сестер преисподних на гнусный совет. Стекаются воедино бессчетные язвы Эреба, всякое из зловещих порождений Ночи: Распря, кормилица войны, властительный Голод, соседственная смерти Старость, и несносный сам себе Недуг, и Зависть, тревожимая [чужим] благополучием, и унылый Плач в разодранных одеждах, и Страх, и безрассудная Дерзость с ликом слепым, и Роскошь, истребитель богатств, которой вечно сопутствует смиренным шагом несчастная Нищета, и, обняв мерзостную грудь матери-Алчности, грядут длинной вереницей бессонные Заботы.
Клавдиан и неолатинские поэты
Клавдиан it неолатинские поэты Следует переоформить вопрос: какая среда дала Клавдиану переводчика? Это был мир людей, ex officio занимавшихся сочинением латинских стихов. Неолатинская поэзия духовных училищ исследована неудовлетворительно; ближайшее обследование показывает, что Клавдиан был главнейшим стилистическим образцом и просто источником формул для современников Ильинского, писавших панегирические стихи ежегодно.
В 1791 г., когда Перервинская семинария, поздравляя с тезоименитством Платона, митрополита Московского, выпускает, как обычно, сборник «Carmina», Петр Соболев, преподаватель реторики и поэтики, публикует поздравительную «Carmen». Ее вступление - по существу клавдиановский цен-тон1, варьирующий IV и VI Сот. После апострофы к Музе и к Платону Соболев варьирует зачин Prob., изображая выезд Солнца. То, что у Клавдиана было космической рамкой консульского года, у Соболева делается завязкой сюжета. Солнце выезжает в путь, заставляя бледнеть звезды (оригинально использованное сравнение из Prob.lS sqq.), а дальше выясняется, что едет оно не как обычно, а по нечастому маршруту, изображенному в Stil.ll, - в пещеру Времени. Соболев ее подробно представляет (v.36-57), соединяя лексику клав-диановского описания с овидиевским изображением ручья, погубившего Нарцисса {Metam. 111,407 sqq.), стациевским лесом, где совершаются гадания Тиресия (Theb.TV,423 sq.), и изображая Природу на ее престоле по образу клавдиановского Плутона (Rapt.l, 58 sqq., 79 sq.). Феб, как у Клавдиана, прибывает в пещеру, выбирает один год из «златого стада» , — и обращается к нему с речью. Но если у Клавдиана соответствующая речь (цитирована выше, гл.II, топос I) занимает всего 2,7% книги (5//7.11,454-466), хотя приурочена к ее финалу, у Соболева она разбухает до 118 строк (v.77-195), т.е. до 57,8% объема, оставляя в финале лишь 10 строк для авторской ремарки и заключительных благопожеланий. Для большей прозрачности регулярно членимая рефреном, эта речь в основном варьирует Stil. (в том числе пассаж о соединении всех добродетелей, v.100 sqq.) и Theod. — два наиболее востребованных клавдиановских панегирика для тех, кто писал поздравительные стихи русским архиереям. Заимствуясь у Клавдиана развитым сюжетом и архитектонической функцией речей, в их применении перервинский панегирист оказывается более роялистом, чем сам король.
Благодаря Клавдиану в неолатинской панегирической словесности царит та детализованная и .развернутая по вертикали сюжетность трехъярусного си-мультанного театра, которой не знает ода Ломоносова - Сумарокова и которая в русскоязычной поэзии становится новацией Петрова. В стихотворении перервинского преподавателя Алексея Виноградского [351, 3-8], состоящем из 184 гекзаметров, после вступления рассказывается, как олицетворенная Москва, по смерти «наставника таинств и нравов, унесенного насильственной смертью» (violenta morte necatum I sacrorum... morumque magistrum), долго вдовствовавшая1, с паствой, разбредшейся во мраке, наконец привлекла внимание Бога (описание его взора, который обходит «из вышнего эфира» вселенную и наконец останавливается на Москве, слегка варьирует Verg. Аеп.\,22Ъ sqq.). «Четыре человека, блистающих божественным ликом», некогда бывшие первосвященниками (pontifices) сего града, т.е. Московскими митрополитами и патриархами, молят Бога (v.37-61) смилостивиться над Москвой и дать ей пастыря, указывая на Платона, одаренного всеми добродетелями и наставившего в вере наследника российского престола. Бог отвечает им, что судьбами было предопределено пощадить Москву и вверить паству Платону, а ныне и их мольба склоняет Его к тому же: «Будь же, как вы просите и как решили священные судьбы»:
Dixerat, et velox jam nuntius aduolat vrbem Рек - и вестник уже скоротечный во Град досязает. (стих, буквально заимствованный у Клавдиана: РгоЬЛ74) Начинается народное ликование, и «радостные гласы подъемлются к звездам». Москва обращается к Платону (v.78-94): «Ты мне (если предвестия не лгут) сбережешь жалостный народ и отнимешь скорби, и я процвету в ликовании». После обширной авторской апострофы к Платону богиня Iustitia обращается к Екатерине: «От меня не укрылось, о славная Государыня (inclyta Princeps), сколь велико пребывает Твое к нам почтение — едва ли я найду кого-нибудь на земле справедливей Тебя»; она просит императрицу «уважить выдающиеся деяния любезного Платона и воздать ему достойную мзду». После благосклонного ответа императрицы панегирик завершается краткими благопожеланиями. Сюжет изящно сочетает начальную ситуацию Gild, с общим сюжетом РгоЪ. Клавдиановские формулы попадаются на каждом шагу: речи четырех первосвященников и Москвы реминисцируют Ruf. и РгоЪ., разговор Правды с Екатериной выстроен по модели разговора Ромы с Феодосием о сыновьях Проба; античная атрибутика обильно декорирует празднично-имперскую тематику; небо названо Омшпом, к христианскому Богу прилагается эпитет Sator Сеятель , хорошо знакомый латинисту (Verg. Аеп.1,254; Stat. Theb.l,\19; Val. Fl. Arg.\,505; Sil. Piin.W,430; Boet. Cons. phil.Wl, m.9, 2, etc.), и автор обращает к московскому митрополиту приветствие, которым Феодосии Великий почтил богиню Рима: oNumen amicum, о дружественное Божество (Prob.126; [351, 7]). Речи, как у Клавдиана, остаются модулем композиционной организации: пять речей, общим объемом 63 стиха, т.е. 34,2% объема, организованы геометрически: две обрамляющие пары речей (первосвященники - Бог, Правда - Екатерина) и одиночная речь Москвы, на которую приходится середина панегирика.
Новая одическая рецепция: жанровые новации В. Петрова
Новая одическая рецепция: э/санровые новации В. Петрова Одновременно с описанными в предыдущем параграфе эстетическими тенденциями сохраняются те, в рамках которых не подвергается сомнению способность Клавдиана быть безукоризненным образцом возвышенного. Продолжается история героической поэмы и торжественной оды, и в этой последней происходит новое освоение клавдиановского материала, с которым связаны структурные изменения в жанре оды, предпринятые Василием Петровым.
Преподаватель поэтики и риторики в СГЛА, Петров вследствие своего образования и профессиональной деятельности имел множество поводов сталкиваться с клавдиановскими поэмами. Г.А. Гуковский так описывал новации Петрова: «Если сумароковцы, отправляясь от кризиса чистой лирики, шли к дидактике и повествованию, то Петров нашел другой путь, именно оживление лирики прививкой ей описания (также и повествования). Он приближает свои оды к эпосу изображением происшествий во времени, или же он последовательно описывает бой, состязание и т.п.» [72, 70]. Ближайшую параллель этому составляет то, что делает с панегириком Клавдиан, расшатывая его рубрикацию описаниями, речами (ср. «речь Феодосия» в IV Cons.), эпической сюжетностью и пр. Ища выхода к новым композиционным формам, Петров, с его латинской образованностью, мог ориентироваться на аналогичный опыт Клавдиана. С Петровым же связано внедрение конкретных композиционных схем клавдиановских поэм в торжественную оду.
Как и предшествующие одические поэты, Петров обильно использует Клавдиана в отдельных топосах и сентенциях - с тем различием, что имеет возможность обращаться к латинскому источнику непосредственно. В послании «На подносимую Ея Величеству, высокую титлу, Великия Екатерины, Премуд-рыя Матери Отечества» (1767), он при таком откровенно римском поводе щедро применяет топосы разработанного Клавдианом basilikos logos:
«Велик, кто щастливо против врагов воюет, Стократно больше, кто над сердцем торжествует. Твое над нашими сердцами торжество Являет всем в Тебе прямое божество, Прямо достоинство, и славу Венценосцов, Всех выше пирамид, трофеев и колоссов. Не столб, где изсечен с победами поход, Око-ванны цари, ведомый в плен народ, Траяна делают великим днесь над нами: Но
что он подданных повелевал сердцами; Что те его отцем чадолюбивым чли; Что в сретенье к нему с веселием текли. Кто храбр, тот страшен нам, и лишь в войне полезен; Кто милостив, всегда приятен и любезен. ... Ограда и покой Твое нам недро буди, А стража круг Тебя любовь и наши груди» [221, III, 16-18].
Мотив «триумфа над сердцами», сродный одическому образу «памятника, воздвигнутого в сердце»1, близко напоминает Stil.111,29: рассказ о том, что мог бы сделать, но не сделал Стилихон для своего триумфа, Клавдиан венчает словами: strepitus fastidit inanes I inque animis hominum pompa meliore triumphat пустой шум он презирает и торжествует с вящею пышностью над людскими сердцами [ср. 163, 221]. Хотя и частый гость, вместе с Титом и Марком Аврелием, в торжественной оде и эпидейктическом красноречии, Траян здесь ближайшим основанием имеет IV Cons.315-319 - пассаж, замыкающий первую часть «речи Феодосия»: Петровым вопроизведена не только мысль, но и синтаксическое оформление: victura feretur I gloria Traiani, non tarn quod Tigride victo I nostra triumphati fuerint provincia Parthi, / alta quod invectus fractis Capitolia Dacis, I quam patriae quod mitis erat будет жить слава Траяна, не столько из-за того, что после победы над Тигрисом завоеванная Парфия стала нашей провинцией, что, сломив даков, он взошел на Капитолий, сколько потому, что к отчизне был кроток . К той же «речи Феодосия» восходит и мотив охраняющей государя любви (IV Cons.281 sq.): non sic excubiae, non circumstantia pila I quam tutatur amor не так стража и стоящие вокруг копья, как охраняет любовь .
В этом Петров традиционен; посмотрим, в чем состоят его новации.
Два контекста с одическим образом «реки-свидетеля» показывают и интерес Петрова к Клавдиану, и связанные с этим композиционные мутации.
В «Поеме на победы Российскаго воинства, под предводительством генерала Фельдмаршала графа Румянцова, одержанныя над Татарами и Турками»:
«Немогши пронестись в Евксинские край, К истоку вспять текут кровавыя струи. Остановившуся возчувствовав пучину, И любопытствуя увидети причину Поднесь невиданных над влагою чудес, Дунай из под валов главу свою вознес! Власы его тростник и тина покрывают, Росящую браду Зефиры возвевают, Теснится на брегу смятенных Нимф собор! Десницу на врагов, на Нимф простерши взор. "Зевес сих, рек, разит, или ЕКАТЕРИНА! Стихии, и сама послушна Ей судьбина; Я слышал, всех, что есть, под солнцем морь и рек Совет богов ее владычицей нарек. Средьземный океан Ея трепещет флага, Ей стали дань платить валы Архипелага; О дщерь Нептунова! послушен я судьбе, Прими мои струи, вручаю их Тебе". То рекши, абие в пучину погрузился; Прехрабрых Россиян в ней лик изобразился!» [221,1, 229 ел.]. Традиционный образ «реки-свидетеля», растревоженной невиданным избиением1, соединяется с персонификацией, выказывающей свою послушность императорской власти.