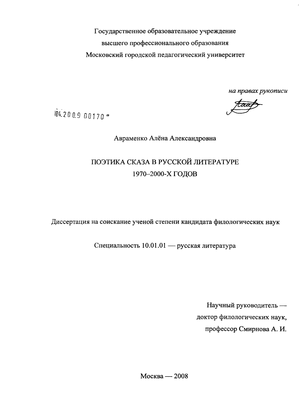Содержание к диссертации
Введение
Глава І Сказ в литературной науке: история и теория 13
Глава II Традиционная сказовая манера (Юз Алешковский «Николай Николаевич», С. М. Гандлевский «<НРЗБ>», А. Г. Найман «Любовный интерес») 45
2.1 Образ героя-рассказчика в традиционном сказе 45
2.2 Специфика выражения авторской позиции 70
2.3 Основные сказовые установки 91
Глава III Сказовые произведения в художественной практике постмодернизма (Венедикт Ерофеев «Москва — Петушки», Саша Соколов «Школа для дураков») 116
3.1 Образ героя-рассказчика 116
3.2 Проблема соотношения автора и героя 140
3.3 Сказовые установки и парадигма художественности постмодернизма (диалогизм, игра, интертекстуальность) 163
Заключение 186
Библиографический список 195
- Образ героя-рассказчика в традиционном сказе
- Основные сказовые установки
- Образ героя-рассказчика
- Сказовые установки и парадигма художественности постмодернизма (диалогизм, игра, интертекстуальность)
Введение к работе
Исследователи русской литературы последней трети XX века отмечают несколько тенденций в ее функционировании. Многие из ученых подчеркивают тот факт, что «...наиболее очевидной новой чертой <...> в современной литературе является <...> широчайшее освоение разговорного языка» (II: 120, с. 65)1. В 1960-1980-е годы, по их замечаниям, происходит преодоление обезличенного речеведения и активизация стилевых поисков, «...ведущих к выработке самобытных речевых организаций» (II: ПО, с. 90). Немаловажным оказалось и усиление по сравнению с послевоенными годами внимания писателей к человеческому сознанию, проблемам человеческого характера, внутреннему миру личности. Необходимо учитывать также и то, что в этот период художественная литература становится более «раскрепощенной», свободной, постепенно освобождаясь от скрытого и явного гнета со стороны официальных властей. В подобных условиях не могла не актуализироваться сказовая форма повествования, чрезвычайно восприимчивая к слову героя и в наибольшей степени отвечающая повышенному интересу авторов к живой разговорной речи, повседневным «речевым жанрам» (II: 110, с. 91)ик человеческой индивидуальности.
Сказ как форма повествования уже на протяжении многих десятилетий предстает объектом пристального внимания со стороны исследователей. Известно, что сказ особенно активно использовался авторами на рубеже XIX-XX веков (однако и до этого времени сказовая манера привлекала внимание писателей — стоит упомянуть произведения А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, В. И. Даля, Н. В. Гоголя), что связано с особым характером этой эпохи, когда в литературе происходило интенсивное обновление эстетических ориентиров. Перелом веков всегда является временем переходным и порождает переосмысление основ во многих сферах человеческой деятельности, в нашей же стране данное время совпало еще и с историческими катаклизмами.
Многие литературные школы начала XX века заявляли о разрыве с традицией, отрицали опыт предшественников, пусть даже бесспорно великих (вспом-
1 В этом с ним соглашается и И. А. Каргашин (II: 110, с. 90-121).
В диссертации мы разграничиваем внутритекстовые и постраничные сноски. Постраничные сноски представляют собой примечания автора работы, внутритекстовые — ссылки на литературу с указанием номера раздела и порядкового номера источника в соответствии с библиографическим списком.
ним манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу»). Подобная оценка традиции неизбежно приводила к поиску других путей освоения реальности, иных форм, нового отношения к языку — к обновлению литературы в целом.
A. Крученых создает свой «заумный» язык, символисты говорят об иррациональ
ности и многозначности слова. Соответственно, обостряется и интерес к «живо
му» слову, к разговорной речи, появляются сказовые произведения А. М. Ремизо
ва, Е. И. Замятина, А. П. Платонова, Вс. Иванова, И. Бабеля, М. М. Зощенко, Саши
Черного. Сказ как ориентация на живую разговорную речь привлекал внимание
данных авторов тем, что давал возможность выразить стихию языка, а не писать
«старым» языком, скованным нормами грамматики. Сказовая манера позволяла
экспериментировать с языком, осваивать его многообразные возможности. Кроме
того, сказ помогал ввести в литературу героя, интересного автору в качестве пред
ставителя той или иной среды («Солдатские сказки» Саши Черного, несколько
рассказов «Конармии» И. Бабеля). Тогда же публикуются первые работы, посвя
щенные произведениям, написанным в сказовой форме, которая осознается уче
ными как один из важнейших типов речеведения в русской литературе.
Сказ как особая манера претерпевал различные изменения, но не вызывает сомнения тот факт, что он не теряет своей актуальности, в русской литературе 1970-2000-х годов сказ предстает достаточно продуктивной формой. Данную тенденцию отмечают и литературоведы: так, Игорь Алексеевич Каргашин в своей монографии неоднократно подчеркивает, что «...в современной прозе происходит интенсивное развитие сказовой формы» (II: ПО, с. 93). Ориентируясь на сказовую традицию создают свои произведения В. Белов, С. Залыгин,
B. Шукшин, Ф. Абрамов, Б. Можаев, Л. Петрушевская, И. Митрофанов,
А. Львов и др. Сказовая повествовательная техника продолжает интересовать
ученых и как теоретическая проблема, и в прикладном аспекте, о чем свидетель
ствует множество работ, посвященных сказу в русской литературе ХГХ-ХХ веков.
На основе анализа и обобщения работ по проблеме сказа мы пришли к выводу, что, исследуя реализацию данной манеры речеведения в тексте, необходимо исходить из триединства сказа: анализа сказовых установок, образа героя-рассказчика и особенностей авторской позиции в ее соотношении с позицией
героя-рассказчика. Эта теоретическая база будет использована нами при рассмотрении выбранных произведений: повести Юза Алешковского «Николай Николаевич», поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», романов Саши Соколова «Школа для дураков», Анатолия Наймана «Любовный интерес», Сергея Марковича Гандлевского «<НРЗБ>».
Указанные тексты необходимо исследовать не только в силу важности, доминантного характера сказа для самих этих произведений, но и в силу того, что сказовая форма речеведения в современной и новейшей литературе доказывает свою жизнеспособность и активно осваивается авторами различных эстетических и творческих убеждений, что, несомненно, требует анализа со сторо-ны литературоведов . Выбранные для анализа тексты представляют собой наиболее яркие и характерные примеры трансформаций, происходящих со сказом в русской литературе последних десятилетий. Сказ меняется, и его возможности по-разному используются современными авторами. Данный факт также необходимо всесторонне исследовать как одну из тенденций функционирования литературного процесса третьей трети XX — начала XXI веков.
Актуальность темы диссертации определяется тем, что в последнее время назрела необходимость целостного осмысления поэтики сказа в русской литературе 1970-2000-х годов, применения системного подхода в изучении сказовой манеры в произведениях этого периода. Сегодня сказ претерпевает значительные изменения, и в литературе последних десятилетий он обладает определенным набором уникальных свойств, нуждающихся в рассмотрении.
Помимо творчества Алешковского, о сказе в произведениях остальных выбранных нами авторов критики говорят «мимоходом», упоминая эту особенность в ряду других, либо и вовсе обходя ее вниманием. С этим связана, с одной стороны, определенная сложность изучаемой проблемы, с другой стороны — ее научная новизна и интерес для исследователя. Для нашей работы в ее прикладной части стали опорными несколько работ, посвященных избранным текстам.
О поэме Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» (1970) написано и продолжает писаться очень много. На сегодняшний день существует два коммента-
2 Интерес к сказовому слову зачастую активизируется в переломные периоды в развитии истории, общества и человеческого сознания (Об этом см.: II: 171, с. 7).
рия к поэме, принадлежащие перу Ю. Левина и Э. Власова (II: 58, 137). Каждый из комментариев обладает как достоинствами, так и определенными недостатками. Специфике данных комментариев и их сравнению посвящены, в частности, обстоятельные статьи А. Ю. Плуцера-Сарно и Р. Карасти (II, 108, 185). Для нашего исследования принципиально важны статьи о поэме Вен. Ерофеева, в которых указывается на сказовый характер текста (II: 96, 180). Особое значение для нас имели замечания из статей М. Н. Липовецкого о поэме «Москва — Петушки» (II: 138, 145), а также в работах И. Сухих и И. С. Скоропановой (II: 205, 219).
Монографические исследования о прозе Алешковского, Наймана, Соколова и Гандлевского отсутствуют, поэтому мы черпали необходимые нам сведения об их творчестве из литературно-критических статей и интервью писателей.
На сегодняшний день критических материалов об Алешковском чрезвычайно мало. Основная масса статей носит фрагментарный, обзорный характер и в силу тех или иных причин не претендует на исследовательский характер. Среди прочих недостатков критической литературы о творчестве Алешковского стоит отметить и тот, что во многих работах слишком ярко проявляется личное отношение их авторов к писателю. От этого они страдают излишней эмоциональностью и к критике имеют уже косвенное отношение. В нескольких статьях собственно об Алешковском написано мало, большая часть материала посвящена размышлениям о литературе вообще, о жизни, о политике, о времени, то есть носит публицистический характер (II: 27, 101).
Среди важных для нас источников отметим статьи А. Битова, Б. А. Ланина, М. Н. Липовецкого, П. Майер, А. Немзера, Е. Пономарева (II: 29, 30, 135, 144, 159, 174, 187), отличающиеся разносторонним исследованием творчества Алешковского. В них авторы стараются объективно оценить произведения писателя, давая подробную характеристику как позитивным, так и негативным чертам, которые они находят в них. В свете специфики нашего исследования особого внимания заслуживает статья Присциллы Майер «Сказ в творчестве Юза Алешковского», поскольку в ней намечены основные черты сказа в произведениях автора и охарактеризованы сразу несколько текстов писателя с этой точки зрения.
Нельзя не отметить также и сборник «Юз! Чтения по случаю 75-летия Юза Алешковского», вышедший в 2005 году. Именно здесь впервые собрано под одной обложкой более десятка статей о творчестве и жизни Юза Алешковского, напечатанных в разное время.
Роман Саши Соколова «Школа для дураков» (1976) с момента своей первой публикации и до настоящего времени вызывает стойкий интерес литературоведов. Поэтика произведения исследовалась многими учеными, однако лишь некоторые из них отмечали важность сказовой струи для данного романа. В исследовании «Школы для дураков» мы опирались на статьи А. Битова, П. Вайля и А. Гениса, А. Зорина, М. Липовецкого, Д. Фридмана и других авторов, посвященные этому произведению (II: 28, 43, 66, 95, 146, 235). Кроме того, определенные сведения о творческой манере писателя и его основных творческих приоритетах мы почерпнули из его интервью (II: 69, с. 192-199; 78; 165 и др.).
В связи с выходом романа Сергея Гандлевского «<НРЗБ>» (2002) было опубликовано немало рецензий и критических статей. Мы хотели бы особо отметить работы В. Шубинского, Д. Кузьмина, Е. Иваницкой, Л. Костюкова и В. Губайловского (II: 74, 75, 98, 126, 130, 249), в которых намечаются основные подходы к пониманию произведения, исследуются важные черты его поэтики. Поскольку романы недавно изданы, работы как о «<НРЗБ>», так и о «Любовном интересе» (1999) А. Г. Наймана на данный момент можно пересчитать по пальцам. По этой причине в своей диссертации мы опирались во многом также и на интервью писателей (II: 17, 20, 62, 63), в которых содержится информация «из первых уст» не только о произведениях авторов, но и об их взглядах на литературу, творческий процесс и т. д.
Отдельно необходимо сказать о книге М. Н. Липовецкого «Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики», вышедшей в Екатеринбурге в 1997 году.
Монография представляет собой историко-теоретическое исследование, в котором прослеживается логика существования и развития постмодернизма в России. Каждая из трех глав содержит теоретические части и анализ конкретных литературных произведений с точки зрения заявленных теоретических позиций. Рассмотрению подвергаются как пратексты постмодернизма — романы Владими-
pa Набокова, так и первые тексты постмодернизма 1960-1970-х годов, а также проза «новой волны» — произведения постмодернистов 1980-1990-х годов.
Для нашей работы принципиально значимыми оказались теоретические разделы данного труда, поскольку в числе объектов нашего исследования присутствуют постмодернистские произведения, а также те главы, в которых анализируются поэма Вен. Ерофеева «Москва — Петушки» и роман Саши Соколова «Школа для дураков».
Важнейшим достижением рассматриваемой работы следует признать теоретическое обоснование стержневых для поэтики постмодернизма терминов. Свое исследование Липовецкий проводит исходя из трех составляющих парадигмы художественности постмодернизма: диалогизма как доминанты системы, интертекстуальности и игры, а также из утверждаемой им новой художественной стратегии постмодернистского автора — диалога с хаосом. Именно эти составляющие и были проанализированы нами при обращении к текстам Саши Соколова и Венедикта Ерофеева в диссертации.
По мнению автора, постмодернистской модели целостности наиболее соответствуют «...системные принципы ризомы <...> — множественность, соединение различных семиотических кодов <...>, отказ от всякой трансценден-ции, всякого дополнительного измерения <...>, прерывистость и незаверши-мость ризомы, которая всегда находится посредине своей динамики» (II: 147, с. 205). Данное положение также стало для нас одним из опорных при рассмотрении постмодернистских текстов3.
В силу специфики нашего исследования его объект имеет двоякую природу, включая как теоретические вопросы поэтики сказа, так и произведения русской литературы 1970-2000-х годов, рассмотренные в аспекте реализации сказового речеведения.
Предмет исследования — специфические черты сказовой манеры и особенности их реализации в повести Юза Алешковского «Николай Николаевич», поэме Вен. Ерофеева «Москва — Петушки», романах Саши Соколова «Школа для дураков», А. Г. Наймана «Любовный интерес», С. М. Гандлевского «<НРЗБ>».
3 Нельзя не упомянуть в этой связи о Ж. Делезе, разрабатывавшем понятие «ризома», см.: II: 259.
Научная новизна диссертационной работы обеспечивается как поставленной теоретической проблемой, так и материалом, на котором эта проблема исследуется. Сказ как один из типов речеведения в произведении давно является объектом научного анализа, но именно в литературе изучаемого периода он переживает свое новое рождение, и этот факт участившегося обращения авторов именно к такой форме требует нового подхода в изучении сказа как теоретической проблемы. В данной области сформировалось множество противоречащих друг другу точек зрения. Необходимо систематизировать существующие теоретические представления, связанные с основными признаками сказовой повествовательной стратегии, а также главные положения, выдвигаемые учеными, исследующими поэтику сказа. Кроме того, требуется проанализировать произведения, написанные в форме сказа, и установить те функции, которые он выполняет в тексте, и те причины, по которым именно эта, а не какая-либо другая манера ведения рассказа становится необходимой для избранных авторов.
Основной целью работы является исследование художественной специфики сказовой формы в произведениях писателей 1970-2000-х годов, определившей их поэтику.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
— на основе обобщения имеющихся в литературной науке подходов к рассмот
рению сказа определить наиболее важные признаки этой манеры речеведения;
проанализировать сказовые установки, образ героя-рассказчика во всем многообразии его проявлений, специфику авторской позиции и ее соотношение с позицией рассказчика в произведениях, написанных в традиционной сказовой манере: в повести Юза Алешковского «Николай Николаевич», романах А. Г. Наймана «Любовный интерес» и С. М. Гандлевского «<НРЗБ>»;
выявить основные особенности реализации сказа в поэме Вен. Ерофеева «Москва — Петушки» и в романе Саши Соколова «Школа для дураков» с точки зрения парадигмы художественности постмодернизма: игры, интертекстуальности, диалогизма;
сравнить специфику сказовых установок, образа героя-рассказчика и авторской позиции в текстах «традиционной» и «постмодернистской» направленности
и определить типологические черты сказа как особой манеры речеведения в литературе 1970-2000-х годов, а таюке отличительные черты сказового повествования каждого из авторов, формирующие оригинальную манеру повествования.
Перечисленные задачи обусловили структуру диссертации, поскольку стала очевидной необходимость уделить особое внимание не только практическому исследованию ориентированных на сказ произведений, но и теоретическим вопросам поэтики сказа. В связи с этим обзор теоретически значимой научной литературы и сформированная нами точка зрения на данную манеру речеведения были вынесены в первую главу нашей работы.
Тем не менее нельзя не упомянуть о теоретических трудах М. М. Гиршма-на и Н. Т. Рымаря, так как в них манифестируются те черты поэтики произведений, которые дают возможность классифицировать их в качестве лирической прозы. Сказовые тексты зачастую обладают набором свойств лирического повествования, что необходимо учитывать при их анализе, так как относить их к «чистому» эпосу проблематично: в них органично переплетается эпос, лирика и отчасти драма. Черты лирической прозы подробно исследованы в книге Н. Т. Рымаря «Современный западный роман: проблема эпической и лирической формы». Ценные замечания по этому поводу находим также и в работе М. М. Гиршмана «Ритм художественной прозы» (II: 68; II: 197).
Теоретико-методологическую базу диссертации составили труды М. М. Бахтина (философия диалога, концепция полифонического романа), Б. О. Кормана (в определении авторской позиции), а также работы Б. М. Эйхенбаума, В. Гофмана, В. В. Виноградова, Ю. Н. Тынянова, Б. А. Успенского, Ore А. Ханзен-Лёве, Е. Г. Мущенко, В. П. Скобелева, Л. Е. Кройчика, В. И. Тюпы, Н. А. Кожевниковой, И. А. Каргашина, В. А. Михнюкевича. Кроме того, необходимо отметить посвященные вопросам теории и практики постмодернизма исследования Ж. Ф. Лиотара, Д. Фоккемы, Ж. Делеза, Р. Барта, М. Фуко, Ж. Дерриды, Ж. Бод-рийяра, И. Хассана, Ю. Кристевой, М. Эпштейна, Д. Затонского, А. С. Немзера, А. Гениса, П. Вайля, Вик. Ерофеева, М. Н. Липовецкого, И. П. Ильина, И. С. Ско-ропановой и ряда других ученых. Однако реализации сказа в художественной практике постмодернизма не было уделено должного научного внимания.
Методология работы обусловлена необходимостью решения указанных задач и основывается на комплексном подходе, синтезирующем различные методы исследования: сравнительный, описательный, структурный, историко-генетический, а также элементы типологического анализа (основанного на критерии повторяемости), при котором выявляются общие родовые черты литературных феноменов.
Кроме того, методология диссертации опирается на системный подход, при котором художественное произведение изучается на всех уровнях организации: лексическом, образном, композиционном, сюжетном, идейном — и свойства системы произведения понимаются как принципиально несводимые к сумме свойств входящих в эту систему элементов. Системный подход позволяет осмыслить произведение, исследовать его во всей полноте связей и отношений. Каждый компонент текста при этом рассматривается не в отрыве от целого, а в соотношении с ним. В художественном тексте, по словам Г. О. Винокура, «...все стремится стать мотивированным» (II: 56, с. 54), поэтому при анализе произведения значим каждый его элемент.
Немаловажную роль в утверждении позиций системного метода сыграла теория систем И. Р. Пригожина, так как именно в ней система признавалась универсальным элементом бытия и подробно анализировались важнейшие свойства систем. Системный подход к анализу текста обоснован и использован в работах Р. О. Якобсона, Д. С. Лихачева4, И. Г. Неупокоевой. В частности, И. Г. Неупокоева утверждает, что только при использовании системного подхода «...возможно создание теоретического представления о литературной эпохе <...> как о динамическом целом» (II: 175, с. 34).
Системный подход к изучению художественного произведения разработан Ю. Н. Тыняновым, отмечавшим в работе «Проблемы изучения литературы и языка», что при исследовании художественного текста выдвигается требование «...четкости теоретической платформы» и развития «науки системной» (И: 226, с. 282). Большой вклад в утверждение этого подхода внес Ю. М. Лот-
4 Так, развернутое понимание системы литературы дает Д. С. Лихачев в своей статье «Древнеславянские литературы как система» (II: 152).
ман в трудах «Структура художественного текста» и «Анализ поэтического текста». Под системой ученый понимал элементы, взятые не в изолированной сущности, а во «...взаимной соотнесенности, в столкновениях и переплетениях, представляющих иерархию отношений» (II: 154, с. 57). В отличие от приверженцев имманентного анализа, Лотман считал, что при исследовании того или иного произведения необходимо учитывать не только его структурную, уров-невую организацию, но и факторы «внешние» по отношению к тексту — биографические, социально-исторические и др.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней уточняется терминологический смысл понятия «сказ», актуального для современного литературоведения, и решаются спорные теоретические вопросы поэтики сказа, в частности проведение границ между литературным, фольклорным сказами и сказом как манерой речеведения, разграничение сферы автора и героя, отличие сказоподобных форм от собственно сказовых и необходимость маркированности социальной принадлежности героя-рассказчика.
Практическая значимость работы. Основные положения диссертации могут быть реализованы в учебном процессе, в преподавании курса истории русской литературы 1970-2000-х годов, в разработке спецкурсов по поэтике сказа, проблемам постмодернистской литературы. Ключевые выводы исследования могут быть также использованы в курсах по теории литературы и в работах, посвященных творчеству как изучаемых в данной диссертации авторов, так и других писателей последней трети XX — первого десятилетия XXI века, осваивающих сказовую стратегию.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка, включающего 268 наименований.
Образ героя-рассказчика в традиционном сказе
Образ героя-рассказчика приобретает особое значение при сказовой манере, поскольку при такой форме все представления о мире и людях излагаются от лица главного индивидуализированного персонажа, который предстает в произведении как основополагающий и структурирующий элемент. В центре сказового текста всегда стоит сознание ярко индивидуализированной личности, ее система ценностей, особый взгляд на мир. РІменно для того, чтобы отразить взгляд «другого», отличающегося от себя человека, авторы и обращаются к данной повествовательной стратегии. Сказовый рассказчик обладает комплексом присущих только ему черт характера, особенностей поведения, речи и т. д., которые необходимо исследовать для определения художественной специфики сказа.
Если при традиционном построении повествования можно говорить о том, что, к примеру, композиционные особенности произведения дают нам определенное представление о точке зрения автора, то при лирическом повествовании, в центре которого находится герой-рассказчик, эти же композиционные особенности становятся приметой самого рассказчика и представляют собой один из способов проявления им собственного характера, отношения к действительности. Точка зрения автора в плане композиции при этом обнаруживается только через «внешнюю» архитектонику — деление произведения на части, главы (а также посредством введения пролога, эпилога, жанрового обозначения текста и др.). В этом заключается особая трудность сказовых текстов: делать выводы о позиции автора оказывается проблематичным.
Будучи центральной фигурой того или иного произведения, герой проявляет себя на разных уровнях. В. Е. Хализев считает, что необходимо уделять особое внимание исследованию сознания и самосознания персонажа (II: 236). А. Б. Есин подчеркивает важность речевой характеристики героя (П: 89). Выделим следующие несколько уровней комплексного анализа образа персонажа:
1. Мировоззренческий, выявляющий взгляды героя на мир, свое место в нем, на жизнь, людей и т. п.
2. Сознание и самосознание героя, включающие совокупность его психологических характеристик и особенностей.
3. Пространственно-временной уровень.
4. Особенности речевого поведения героя, приобретающие особенное значение при сказовой форме повествования, в которой главный герой и рассказчик совпадают.
5. Языковой уровень, то есть специфика лексических единиц, стилистических пластов, используемых героем в речи.
6. Композиционный уровень, то есть то, каким образом членит свою речь рассказчик, какова последовательность описываемых им событий, в чем ее причина и т. д.1
Детальный анализ образа героя-рассказчика на всех перечисленных уровнях становится возможным лишь когда он достаточно прописан в тексте, показан с самых разных сторон. Поэтому осуществить его представляется правомерным не во всяком произведении: так, в романе А. Г. Наймана «Любовный интерес» и СМ. Гандлевского « НРЗБ » такой дробный подход не будет уместен.
Авторы книги «Поэтика сказа» отмечают, что сказовая форма повествования «...не всегда выдвигается на первое место» (II: 171, с. 5) в творчестве того или иного писателя, однако проза Алешковского в этом смысле представляет собой исключение из правил, ибо в форме сказа написано абсолютное большинство его прозаических произведений, в том числе и повесть «Николай Николаевич».
Повесть Юза Алешковского «Николай Николаевич» впервые опубликована в США в издательстве «Ардис» в 1980 году, но до этого времени разошлась в самиздате в 1970 году, поразив многих своей пронзительной лиричностью и откровенным изложением советской действительности при помощи табуиро-ванных языковых единиц. Повесть абсурдна, гротескна, как было гротескно само существование человека в то время, о котором идет в ней речь. Бывший вор в силу обстоятельств устраивается донором спермы в советский НИИ и влюбляется в одну из сотрудниц. Взаимоотношения героя и людей советской системы в контексте сменяющих друг друга времен и становятся основой сюжета.
В повести герой-рассказчик представляет собой личность уже сформировавшуюся, со своими взглядами на мир и людей, на красоту и Бога, достаточно четко им формулируемыми и не вызывающими сомнений. Принято считать, что герой Алешковского человек грубый, материальный, не обладающий высокими моральными качествами, однако анализ текста приводит к противоположным выводам.
Произведение Алешковского построено как самораскрытие главного героя. Характер нарратора дан в эволюции: взгляды Николая Николаевича существенно меняются к концу повести: он проникается жалостью к людям, вспоминает о Боге, решает изменить свою жизнь. Подобную эволюцию необходимо учитывать, говоря о герое-рассказчике.
Герой Алешковского — «..."простой человек", носитель грубой правды о жизни» (II: 144, с. 4) . Можно утверждать, что он человек приземленный, человек действия, что отчасти связано с родом его предыдущей работы, когда Николаю Николаевичу требовалось быстро реагировать на сложившуюся ситуацию, а также с тем, что он «...с двенадцати лет по тюрьмам» (I: 2, с. 54). Он не склонен к частым рассуждениям на вечные темы, тем не менее он обладает высокими нравственными качествами, добротой, способностью любить, преданностью, честностью, обаянием.
Несмотря на то, что Николай Николаевич был вором, у него есть собственный кодекс: «Карточки, заметь, не брал. А если попадались, я их по почте отсылал или в стол находок перепуливал» (I: 2, с. 20), а обнаруженный в бумажнике у начальника отдела кадров донос на своего начальника Кимзу он тут же отдает ему. Таким образом, герой оказывается гораздо более честным, чем доносящие друг на друга работники НИИ.
Основные сказовые установки
«Николая Николаевича» вполне можно назвать повестью-монологом , повестью-самораскрытием героя перед читателем. Сказ строится в виде имитации особой коммуникативной ситуации говорения, чем обусловлены наиболее типичные сказовые установки.
Наличие рассказчика, от первого лица говорящего о чем-либо. В повести таким рассказчиком становится Николай Николаевич. Факультативной особенностью сказа признается четкая обозначенность социальной принадлежности субъекта речи. Для «Николая Николаевича» Алешковского такая определенность важна. Его герой — бывший вор, и именно это является основой не только развития сюжетных событий, но и всего построения произведения в целом. Воровское прошлое рассказчика диктует особенности его манеры речи, мировосприятия.
Сознание нарратора находится в центре произведения и является структурообразующим, поскольку и отбор фактов, и последовательность их изложения определяются самим героем. Отсюда отвлечения от основного предмета разговора, продиктованные ассоциативностью ліьішления рассказчика. Так, в историю об отравлении химической солью вклинивается воспоминание о лагере: «Думал, соль поваренная, а она, падла, химическая была. Бюллетень не брал, однако. А то в ж... миномет вставлять бы начали, как в лагере. Чернил пузырек я тогда уделал, чтобы на этап северный не идти...» (I: 2, с. 20). Часто подобные рассуждения растягиваются на несколько страниц, как, к примеру, рассказ о женских обмороках (I: 2, с. 35-37). Сам Николай Николаевич вполне осознает то, что он отступил от основной темы беседы, в чем иногда и признается собе седнику: «Прости, отвлекся» (I: 2, с. 25), — или заканчивая очередной рассказ словами «короче», «короче говоря» (I: 2, с. 19, 32, 30, 45, 50, 55, 57) или «по порядку» (два раза на I: 2, с. 42), возвращающими к тому, на чем он прервался.
Как увидим далее, такая рефлексия по поводу собственной манеры говорения вполне типична для сказа (встретим подобную черту в произведениях Гандлевского, Наймана, Соколова): рассказчики не только говорят, но и анализируют собственный рассказ, собственную манеру говорить.
В речи Николая Николаевича часто встречаются повторы, ассоциативные, а не логические переходы от одной мысли к другой. Рассказчик иногда сознательно повторяется, о чем и говорит: «Все забывается, еще раз подчеркиваю» (I: 2, с. 36), «Все они, повторяю, на одно лицо» (Г. 2, с. 66). Другие же речевые повторы фраз и оборотов, скажем так, неконтролируемы, а идут от разговорной природы речи героя: «Только чую: скоро чокнусь. ... Чую: скоро чокнусь» (I: 2, с. 40).
Ситуацией живого общения, лежащей в основе сказа, определяется повышенное внимание к звуковой стороне рассказывания. Повесть «Николай Николаевич» — это сказ, для которого важны элементы мимики, жеста, звуковые каламбуры, интонирование (по классификации Б. М. Эйхенбаума — «воспроизводящий»). Так, неслучайно воспроизведение работы часов, или пения Жаме, или протяжного произнесения: «Потом часы бьют — бим-бом» (I: 2, с. 29), «Я вся горю, не пойму от чего-о-о» (I: 2, с. 55), «Беги, кирюха! Беги-и-и!» (I: 2, с. 60). Сюда же можно отнести и письменную фиксацию звучания слова: «А сколько таких парчушек, которые за рупь горят или за справку из домоуправления» (I: 2, с. 19), «Ни в жисть!» (I: 2, с. 36), «Челюсть у меня — кляцк!» (I: 2, с. 41), «Отвечаю, ... рубь за сто» (I: 2, с. 56).
При воспроизведении ситуации устной беседы в тексте появляются так называемые приметы разговорности, которые не только помогают создать иллюзию спонтанного разговора собеседников, но и могут сообщать определенные сведения об уровне образованности рассказчика, его социальной принадлежности и т. д. (просторечия, варваризмы, неправильное построение фраз, ре чевые ошибки разного рода): «евонная наука» (I: 2, с. 22), «Мы же лет мильён назад не мозгами ворочали» (I: 2, с. 28), «И на ихнем суде я скажу» (I: 2, с. 37), «цельный месяц» (I: 2, с. 55), «Ты вот выскочи для интересу» (I: 2, с. 60) и т. п.
Приметами разговорного стиля могут считаться также и начальные «а», «и», «вот», «ну», в изобилии встречающиеся в произведении: «Вот я перед тобой мужик-красюк, прибарахлен, усами сладко пошевеливаю...» (I: 2, с. 19), «Вот которые в Индии живут...» (I: 2, с. 26), «Ну, о жене речь впереди» (I: 2, с. 19), «Ну так вот» (I: 2, с. 27, два раза в одном абзаце), «И правда, указ вышел» (I: 2, с. 20), «И пошел я на радостях в планетарий» (I: 2, с. 29), «А здоровый мужик туда не пойдет» (I: 2, с. 37), «А международный урка прилип к окну — не оторвешь» (I: 2, с. 47) и т. д.
Показательны в этом смысле и инверсии, характерные для разговорной речи: «Вот получу если Нобелевскую премию» (I: 2, с. 28), «...осциллографа лампочка перегорела от моей звуковой волны» (I: 2, с. 30), «У меня какая гипотеза?» (I: 2, с. 61) и др.
Николай Николаевич — бывший вор, поэтому одной из особенностей его речи является использование воровского жаргона, характеризующего речь социально ограниченной группы лиц: фраер, мойка (бритва), перо (нож), скула (боковой карман), садок (толкучка при входе, например в вагоны), лопатник (бумажник) и т. д. Для него подобная лексика совершенно естественна, но обслуживает она далеко не все сферы жизни героя: о любви Николай Николаевич говорит совсем иначе и перед своей женой, к примеру, просто преклоняется, неоднократно называя ее загадкой и сфинксом, избегая жаргонизмов.
Обсценная лексика в наиболее концентрированном виде передает эмоции персонажа, его состояние в момент речи, а также является свидетельством неуемной любви к жизни и к сочному ее выражению в слове. Употребление ненормативных единиц, кроме того, еще раз характеризует героя как представителя определенного класса общества. Герой Алешковского — уголовник и, как сказал сам автор, «...не может изъясняться как девушка из института благородных девиц» (II: 69, с. 120). Наличие ненормативной лексики ничуть не говорит о «ненормативности содержания» произведения или об ограниченности главного героя . В таком использовании языка нам видится еще и попытка лингвистического противостояния героя официозу, системе, противопоставление ей себя, принципиальное для рассказчика, отделившего себя от советского общества и языка. Наиболее точное, на наш взгляд, объяснение выбора автором именно такой языковой манеры было высказано Борисом Ланиным: «В произведениях Алешковского открывается истинная реальность, параллельная, альтернативная официально признанной реальности, и она может быть описана только параллельным, альтернативным языком» (II: 135, с. 32)15.
Рассказчик понимает, что сам он говорит по-другому и даже гордится этим, считая свой язык более естественным, нежели язык его начальников или штатских: «Штатские посмеялись. Отдохнули, видать, с моим простым языком...» (I: 2, с. 21), академик благодарит его за «...доброе, живое слово» (I: 2, с. 32).
Сказовый рассказчик — часто своего рода артист, разыгрывающий перед нами особый спектакль (вспомним слова А. А. Блока: «Мой идеал — человек-артист», — и особых героев-артистов В. М. Шукшина). Николай Николаевич не только пародирует речь того, о ком рассказывает, но и сам разыгрывает диалоги: «Я тебе разыграю допрос» (I: 2, с. 42), — говорит он собеседнику. Герой приводит и диалоги других лиц, что создает усложненную форму — «диалог в диалоге». Так, «международный урка» рассказывает Николаю Николаевичу о своем разговоре в Германии с «шестерками», подающими машины: «Я по-немецки выучил, трекаю — себя называю. Другой шестерка орет: "Машину статс-секретаря посольства Козолупии!" Феденька выруливает, и мы солидно рвем ужинать» (I: 2, с. 47).
Образ героя-рассказчика
Мы проанализируем важнейшие составляющие сказа с точки зрения парадигмы художественности постмодернизма, в которую входят диалогизм в качестве доминанты системы, интертекстуальность и игра1. Мы также считаем необходимым исследовать такие важные для постмодернизма составляющие поэтики текстов, как соединение контрастных начал на разных уровнях организации, тезисы «мир как текст» и «мир как хаос».
Центральный образ традиционного сказового текста так или иначе вписывался в «реальный мир», то есть в художественный мир, соотносимый в своих масштабах с тем миром, в котором живет читатель. Подобный герой поддается познанию, «измерению». Иначе обстоит дело в постмодернистских произведениях. Постмодернизм узаконил героя, ускользающего от интерпретации, героя смещенного, расколотого сознания, воспринимающего мир в масштабах, не соотносимых с привычными. Такой персонаж живет в мире хаоса и, пытаясь познать этот мир, противопоставляет ему свой собственный внутренний мир, который оказывается, однако, еще более хаотичным. Авторы текстов постмодернистской направленности обнаруживают повышенный интерес к работе сознания человека, к аномальным явлениям психики, стараясь отразить это на страницах своих произведений. Таким образом, в текстах постмодернизма предстает не только иррациональный мир, но и иррациональный герой, вполне соответствующий такому миру.
Поэма «Москва — Петушки» Венедикта Васильевича Ерофеева признается одним из первых текстов русского постмодернизма, Андрей Зорин называет ее
«...пратекстом русского постмодернизма» (цит. по: II: 145, с. 214). Произведение было написано с 19 января по 6 марта 1970 года, хотя сам автор утверждает в его финале: «На кабельных работах в Шереметьево, осень 69 года» (I: 5, с. 141) . Критики говорят, что даже эта дата — часть мифа под названием «Москва — Петушки» (II: 33, с. 177). Первая публикация на родине состоялась в журнале с символичным названием «Трезвость и культура» в 1988 году.
Поэма строится в виде монолога рассказчика Венички, который, бесспорно, является героем неоднозначным: он робок и нагл одновременно, сентиментален и нахален, романтичен и натуралистичен, трогателен и дерзок... Ему в высшей степени свойствен самоанализ, постоянный разбор собственных мыслей, ощущений. Ни один из героев других анализируемых нами произведений не был столь склонен к рефлексии, даже несмотря на то, что сказ так или иначе предполагает самораскрытие рассказчика перед читателем. Веня постоянно тоскует по людскому пониманию: «...страдаю от мысли, за кого меня приняли — мавра или не мавра? Плохо обо мне подумали, хорошо ли?» (I: 5, с. 22), «И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?..» (I: 5, с. 134) — однако уже здесь проявляется всегдашняя его противоречивость. Так, иногда он утверждает, что ему дела нет до людей, провозглашает свою самоценность: «...что мне до этих суетящихся и постылых?» (I: 5, с. 10), но затем утверждает: «...мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа» (I: 5, с. 135). Интересно, что он сам осознает свои метания: «Я был противоречив» (I: 5, с. 45), «...я умираю от внутренних противоречий» (I: 5, с. 89), — говорит он.
По мнению Марка Липовецкого, диалогизм поэмы «Москва — Петушки» заключается в самом образе главного героя, в частности, в его отказе от подвигов и геройства: «...праведник всецело завершен и закончен; он самодостаточен и поэтому абсолютно закрыт для диалогических отношений. Между тем греховность и малодушие, слабость и растерянность — это, как ни странно, залог открытости для понимания и жалости, первый признак незавершенности и готовности изменяться» (II: 138, с. 270). В связи с этим немаловажно упомянуть, что герой поэмы воплощает в себе архетип юродивого : он не только способен вызвать жалость, постоянно умаляет себя (здесь часто применяется литота), но и является носителем некой истины. При этом нам представляется важным, что в самом этом энтропийном, хаотичном мире, где рассказчик не в состоянии найти сколько-нибудь определенные ответы на свои вопросы («Я не знаю, и откуда мне знать?» (I: 5, с. 127), для него существует непререкаемый ориентир — младенец, на чем мы детальнее остановимся далее.
Веня гуманист, он выступает за единение всех людей, понимание людьми друг друга: «„Человек не должен быть одинок" — таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если они его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен ... найти людей и сказать им: "Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка"» (I: 5, с. 122). Рассказчик патетически призывает быть внимательным к каждому человеку, к каждой твари: «Надо чтить ... потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй...» (I: 5, с. 81). В этом и заключается его трагедия: отдавая себя людям, он неоднократно переживал свою ненужность, непонятость, презрение и грубость. Открытость вызывала лишь отторжение у других людей.
При внешней малособытийности4 поэмы «Москва — Петушки» (недаром в нескольких критических статьях говорится о том, что при необходимости передать сюжет в двух словах ничего не найдешься сказать, кроме как: «Едет пьяный в электричке»5) герой живет интенсивной внутренней жизнью. Веня неоднократно говорит о своих убеждениях в лирической манере разговора с читателем, Богом, ангелами и самим собой. Так, в конце иллюзорного маршрута, в главе «Петушки. Вокзальная площадь» читаем: «...жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему ... . И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира» (I: 5, с. 133). Однако часто рассказ чик применяет свои взгляды к прозе жизни, и дальше мы видим такое развитие данного рассуждения: «Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить» (I: 5, с. 133). Веня уверовал и применил свою «философию» в самых низких сферах, не «снизив» ее до площадной, а доказав ее истинность и на небесах, и в грязи (такая особенность свойственна архаичному сознанию;, о чеммы будем говорить позднее). Возвышенное постоянно соединяется с низким, соседствуют контрастные начала, .создавая удивительный эффект. Как мы показали во II главе нашей работы, подобные разностилевые элементы играли особую роль и соединялись и в повести Алешковского «Николай Николаевич», и в романе Гандлевского « НРЗБ », из чего можно сделать вы-. вод о том, что данная черта является, типологической для сказовых текстов.
Сказовые установки и парадигма художественности постмодернизма (диалогизм, игра, интертекстуальность)
В произведении Ерофеева ориентация на сказ проявляется с первых страниц, однако применение возможностей сказа в поэме гораздо шире, чем в произведениях, которые были проанализированы нами в главе II: что обусловлено игровым началом, положенным в ее основу. Особая лирическая настроенность рассказчика, его предельная откровенность, распахнутость сознания приводят к тому,,что у Вени множество адресатов его речи, слушателей.
Веня говорит и с самим собой, и с ангелами, и с читателем (неким отстраненным от сюжетной канвы реципиентом), и даже с Богом. Обращения к разным слушателям смешиваются, перетекают одно в другое, чем создается оригинальное ерофеевское повествование, вполне в духе.постмодернистской прозы. Речеведение оказывается принципиально открытым для множества прочтений-толкований. Отсутствие единства слушателя в данном случае оправдано общей установкой постмодернизма на диалогичность, открытость структуры произведения и поэтому по-особому обыгрывается Ерофеевым, тогда как у других авторов неединственность слушателя героя-рассказчика никоим образом не комментировалась (вспомним «Любовный интерес» А. Г. Наймана). С другой стороны, в этом можно усмотреть и элемент игры с читателем, поскольку иногда представляется трудным судить о том, к кому же именно обращается Веня, и создается впечатление направленности его рассказа на самого читателя.
О наличии слушателей свидетельствует множество апеллятивов. Особая сложность состоит в том, что у Вени множество собеседников и к каждому из них (а порой и невозможно объяснить, к кому именно) он время от времени обращается.
Достаточно часты обращения, среди которых необходимо особо отметить автообращения: «Помни, Веничка, об этих часах» (I: 5, с. 15), «...да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак» (I: 5, с. 29) и т. д. Такой вид апелляции не характерен для сказов, так как они направлены на собеседника, а не на самого себя (хотя речь нарратора часто монологизирована). Изредка подобные автообращения все же встречаются. Так, как помним, иронически настроенный по отношению к самому себе рассказчик романа С. М. Гандлевского « НРЗБ » несколько раз обращался к себе. Но если для произведения Гандлевского это были скорее исключения, то для Ерофеева такие автообращения становятся правилом и встречаются в тексте гораздо чаще. Помимо всего прочего, они говорят об «обостренном» восприятии героя, о том, что его сознание постоянно «начеку».
Неоднократно можно встретить обращения к «конкретным» собеседникам: «А знаете что, ангелы?» (I: 5, с. 10), «Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу» (I: 5, с. 39), «Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю? Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа?» (I: 5, с. 18-19). Есть в поэме и обращения к нерасчлененному множеству (предполагаемый собеседник, читатели поэмы): «Давайте лучше так — давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа» (I: 5, с. 15), «Я даже вижу — отсюда, с мокрого перрона, — как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головами и беретесь иронизировать» (I: 5, с. 16). Приводятся даже диалоги с подобными собеседниками Вени: «— Так-так-так, — говорите вы, — а общий итог? Ведь все это страшно интересно...» (I: 5, с. 16).
Еще одним видом апеллятивов, активно используемых в произведении, становятся вопросы: «.. .вы умеете играть в сику?» (I: 5, с. 27), «Что это предвещает, знатоки истинной философии истории?» (I: 5, с. 32), «Кому из вас в три года была знакома буква "ю"?» (I: 5, с. 35) и т. д. Вопросы активизируют читательское восприятие и являются одним из средств создания диалогического целого поэмы.
К апеллятивам относятся и фразы, привлекающие внимание собеседника: «А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин...» (I: 5, с. 28), «За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь» (I: 5, с. 27), «А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист» (I: 5, с. 95) и др.
Часто встречаем в тексте этикетные формулы: «А пока — вы уж простите меня — пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь» (I: 5, с. 35), «Если в Петушках я об этом забуду — напомните мне, пожалуйста» (I: 5, с. 56). Обилие этикетных формул в речи — прочная примета Вени (в отличие от Николая Николаевича у Алешковского, к примеру) — создает особый тон его рассказа — несколько «размягченный», порой даже сентиментальный.
Одним из признаков сказовой ситуации является доверительная атмосфера между рассказчиком и его слушателем. В произведении Ерофеева перед нами предстает такая обстановка, в которой Веня готов практически всему миру (он обращается к людям, о которых говорит, что они «...рассеянны по моей земле» (I: 5, с. 16) выложить душу. Он сам обещает нам поведать о себе, неоднократно указывает на то, что разговор с нами — реальность, предваряя тот или иной рассказ фразами: «Вот сейчас я вам расскажу» (I: 5, с. 22), «...слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу» (I: 5, с. 42) и т. п. Эти формулировки «я вам все расскажу» свидетельствуют об открытости рассказчика, о стремлении Вени к диалогу, к тому, чтобы быть если не понятым, то хотя бы выслушанным.
Для сказов типично воспроизводить диалоги и слова других лиц. Этим компенсируется субъективированность сказов, ведь они не могут строиться исключительно в виде монолога нарратора. Герою-рассказчику зачастую необходимо привести слова тех или иных людей. У Ерофеева же, помимо фигурирующих диалогов Вени с ангелами (I: 5, с. 10-11), «палачами» из ресторана Курского вокзала (I: 5, с. 12-14), его слушателями (I: 5, с. 16-17), Господом (I: 5, с. 18-19), соседями по комнате в Орехово-Зуеве (I: 5, с. 23-25), попутчиками в электричке и др., приводится и несколько диалогов-противоборств рассудка и сердца в Вене (I: 5, с. 33 165
Дополнительной диалогизации текста способствует и воспроизведение мыслей самого Вени, оформляемых как вставки, в кавычках: «"Ну, раз желанно, Веничка, так и пей", —- тихо подумал я, но все медлил» (Г. 5, с. 19), «"В чем дело? — терзался я. — Отчего это так?"» (I: 5, с. 23). Такое оригинальное решение традиционных для сказа установок создает причудливую ткань повествования в поэме.
С поэтикой сказа связано и наличие повторов в речи героя, которые часто им самим и фиксируются: «А я вам скажу, я вам снова повторю: "Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание"» (I: 5, с. 41), «В Петушках, как я уже вам говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет» (I: 5, с. 42), «Надо чтить, повторяю, потемки чужой души» (I: 5, с. 81) и др. Подобные повторы, так сказать, намеренны и не идут от спонтанности речи как одной из сказовых черт. Но есть и такие повторы, которые обусловлены неподготовленностью речи, однако и они по-особому обыгрываются, поскольку не столько спонтанны, сколько предстают свидетельством определенных черт рассказчика. Веня несколько раз использует одни и те же формулы (например, слова о том, что никто не знает, отчего умер Пушкин, или о косе его «неслыханной» возлюбленной — «коса от затылка до попы» (I: 5, с. 34, 42, 114). Такие повторы в поэме напоминают лейтмотивы лирических стихотворений.
Спонтанность, неподготовленность речи может быть усмотрена и в подборе Веней наиболее подходящего слова прямо в момент рассказа: «.. .это будило во мне — как бы это назвать? "негу", что ли? — ну да, это будило во мне негу» (I: 5, с. 45), «...у входа в наше "купе" (назовем его "купе")» (I: 5, с. 83) и др. Подобные черты придают поэме Ерофеева характеристики постмодернистского ге-нотекста, поддерживающего иллюзию создания произведения на глазах читателя.
Отвлечения в сторону от основной линии рассказа говорят не только об установке на спонтанность речи, неподготовленность ее, но и о лирической природе всякого сказа. Подобные отвлечения сродни лирическим отступлениям. Рассказчик излагает нам свои мысли в той последовательности, в которой они возникают в его сознании, но не обязательно в строго логической и «прямолинейной».
Так, нахождением героя в пути объясняются его отступления по ходу рассказа: «Да! Где это мы сейчас едем?.. ... Итак, неделю тому назад...» (I: 5, с. 26). Но часто Веня. отвлекается от своего монолога не в силу окружающих обстоятельств (рассуждения, об икоте,, рецепты коктейлей и т. д.), что говорит о его всегдашней лирической настроенности на все окружающее: любаяшелочь может стать для него предметом философского осмысления.
Сам герой осознает эти свои «отвлечения» и, как и многие другие: герои-рассказчики произведений, построенных в; виде«устного» монолога главного героя; фиксирует это: «Но, с другой.стороны, ведь они в И... из нагана стреляли! .. . .И было бы смешно-после этого говорить неге;.. Но.я отвлекся» (I: 5, с. 45),. «Тут я должен- сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную1 дозу, я поскорее вам объясню, почему "Шехерезада" и что значит "отвертишься"?» (I: 5, с. 95) или останавливая себя словом .«короче» (I: 5-с. 32, 57, 59, 90, 91). Данная черта типична; для-сказов, именно слова рассказчика о том,.что он отвлекся, помогают ему не только самому вернуться к тому,.о чем ранее шл а.речь, но и напомнить о факте отступления слушателю (читателю).
Использует Веня в своей речи и многочисленные фразеологизмы, и устой чивые сочетания; которых немало и в: речи других: персонажей: поэмы: «провал литьсягсквозь землю» (I: 5, с. 93), «в ногах правды нет» (I: 5; с. 102);.«у черта на/ куличках» (I:.5,.с. 103), «от горшка два вершка» (I: 5,.с. 110),.«хоть глаз::коли» (I: :5i с. 114) и др: Этаособённость.типична для? всех анализируемых, намт ска зов без исключениям не зависит от творческих приоритетов, автора: Своеобра зие каждого из текстов при этом выявляется при анализе, конкретного набора устойчивых сочетаний, их лексического наполнениями тех,изменений;; которым ; они подвергаются-в.речирассказчика.