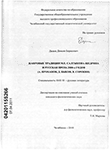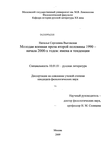Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Генезис современной военной прозы 21
1, 1. Современная баталистика и традиции «лейтенантской прозы» 1950-1960-х гг. 21
1.1.1. «Поэтика участника»: о позиции повествователя 30
1.1.2. Читатель как инстанция 35
1.1.3. Образ героя 37
1.1.4. Фронтовое братство 42
1.1.5. Образ врага 46
1. 2. Современная батальная проза и традиции военной прозы начала 90-х годов 50
1.2.1. Уроки В. П. Астафьева 50
1.2.2. Традиции «афганской прозы» 53
1.2.3. «Дембельская» проза и современная баталистика 60
Глава вторая. Современная военная проза: аспекты индивидуальной поэтики 67
2. 1. «Новый реализм» в литературной ситуации двухтысячных 67
2.1.1. «Новый реализм»: травматическое сознание и проблематика национальной идентичности 69
2.1.2. Особенности поэтики «нового реализма» 71
2. 2. Творчество А. Бабченко: новый реализм как журнализм 74
2.2.1. Исповедальное начало текстов А. Бабченко 74
2.2.2. Герой 76
2.2.3. Сюжетная организация 81
2. 3. Концепция героического в прозе 3. Прилепина 84
2.3.1. Героическое в современной прозе 84
2.3.2. Место романа «Патологии» в современной батальной прозе 86
2.3.3. Образ героя 90
2. 4. 1. Садулаев: поэтика мифологизации 100
2.4.1. «Свой среди чужих, чужой среди своих»: рецепция творчества Г. Садулаева 100
2.4.2. Лирическое и документальное начала прозы Г. Садулаева 103
2.4.3. Образ повествователя в прозе Г .Садулаева 106
2.4.4. Лейтмотив безумия в прозе Г. Садулаева 109
2.4.5. Особенности хронотопа 112
Глава третья. Современная баталистика в контексте массовой культуры 119
3.1. Чеченская война и массмедийные нарративы 121
3.1.1. Пародийная поэтика романа Е. Даниленко «Дикополь» 127
3. 2. Великая Отечественная война в зеркале массовой культуры 135
3.2.1. Фэнтези о Великой Отечественной: роман И. Бояшова
«Танкист, или "Белый тигр"» 140
3.2.2. Интертекстуальные связи 148
Заключение 154
Список литературы
- «Поэтика участника»: о позиции повествователя
- Уроки В. П. Астафьева
- «Новый реализм»: травматическое сознание и проблематика национальной идентичности
- Пародийная поэтика романа Е. Даниленко «Дикополь»
«Поэтика участника»: о позиции повествователя
Традиция хроникальной, дневниковой формы повествования от первого лица, полностью лишенная какого-либо «взгляда со стороны», была задана В. Некрасовым в повести «В окопах Сталинграда». Некрасов нарушал традицию полифонии Л. Н. Толстого (унаследованную и используемую советским метажанром1 - панорамным романом), в которой эпическое изображение войны основано на смене ракурсов - то с точки зрения или участника, или наблюдателя, или противника, то - в авторских описаниях - с некой «всеобщей», «объективной» позиции. Именно формой повествования задана основная стилистическая особенность повести Некрасова - эстетика сдержанности: демонстративная локальность, лаконичность, отсутствие метафорики.
Субъектная организация художественного мира нашла свое продолжение и в «лейтенантской прозе». Доминирование повествования от первого лица или от лица главного персонажа сочеталось с минимальной дистанцией между автором и героем. Это придавало повествованию мемуарную достоверность (так, Л. Лазарев называл первые произведения "лейтенантской прозы" «лейтенантскими и солдатскими мемуарами» [Лазарев 2000: 10] в широком смысле слова). Документальная точность в изображении военной реальности - введение в сюжет ситуаций, пережитых писателями на войне, персонажей, наделенных чертами людей, с которыми автор воевал, описаний реальных мест военных действий (например, географические границы прозы В. Кондратьева - треугольник У сово -Овсянниково - Черново), - формировала «поэтику участника» [Свирский 1982: 369], ставшую одной из особенностей «лейтенантской прозы».
Авторы новой военной прозы также неизменно выбирают «поэтику участника» - повествование от первого лица, от «Я», акцентируемый автобиграфизм. Однако именно «участие» и документальная, фактографическая точность в изображении военного быта, в ситуации локальности конфликтов и видения «боевых действий в условиях телевизионной реальности» [Садулаев 2010а: 37], приобретают для современной прозы о войне первостепенное значение. Весьма симптоматично заглавие книги В. Миронова «Я был на этой войне (Чечня -95)», в котором употребление местоимения «Я» манифестирует первостепенность модальности личного присутствия, проецирует определенный «горизонт ожиданий» - описания подлинного опыта войны. Обратимся к этимологии слова "подлинный". Согласно словарю В. И. Даля, оно произошло от названия пытки - битья палками - «длинниками», или «подлинниками» [Даль 2003: 153]. Для современных военных прозаиков «документальная» правда войны легитимируется именно личным присутствием, непосредственным участием, т. е. правда эта должна быть выстрадана, пережита. «Войну нельзя рассказать или понять, ее можно только пережить» - утверждает А. Бабченко [Бабченко 2006: 61]. Иллюстративным примером, отражающим примат факта личного участия как легитимности права писать о войне, является критика молодым прозаиком А. Бабченко романа В. Маканина «Асан» (2008).
Действие большей части романа «Асан» происходит в Чечне во время второй чеченской войны (в ретроспективных главах повествования описываются и более ранние годы - приход к власти Дудаева, начало первой чеченской кампании в конце 1994-го). Роман, как и предыдущее обращение Маканина к военной теме в рассказе «Кавказский пленный» (1994), насыщен аллюзиями к текстам русской классики (так, фамилия главного героя Жилин - отсылает к хрестоматийному «Кавказскому пленнику» Л. Толстого). Присутствует в романе и «Костылин», приятель Жилина: он превращен в петербургского чеченца по фамилии Костыев: он каждый раз бежит из Чечни ровно за день до начала очередной войны. Александр Сергеевич Жилин не сбегает, а выживает и организует свой бизнес по продаже «горючки» боевикам. Фабула романа состоит из череды коммерческих операций - они окольцовывают текст: произведение начинается сделкой и сделкой, последней в жизни «бензинового короля» майора Жилина, заканчивается. «Уж лучше коррупция, чем бардак» [Маканин 2008а: 77], - констатируют генералы, собравшиеся посовещаться и получившие компромат на Жилина. Именно благодаря Жилину и сотне таких же коррупционеров война продолжается. «Не скажу, что я ввел рынок. Это смешно. Это нескромно... Но я и такие, как я ... ввели начальные рыночные отношения. А рынок возник, конечно, сам. Рынок всегда сам» [Маканин 2008а: 128].
Симптоматично, что чеченцы называют героя Асан: сокращая имя-отчество героя, они уподобляют его Асану - древнему языческому кровавому божеству, которому, как объясняет увлекшийся древней историей Кавказа генерал Базанов, в древности поклонялись чеченцы. Жилин-Асан неуязвим для чеченцев и гибнет от рук своего - Алика, одного из «шизов» (контуженных солдат), к которому испытывал отеческие чувства: «Я вдруг назвал его сынком - а почему нет?.. Мне сорок с хвостом, оба пацана могли быть мне сыновьями. У нас с женой дочка. Мальчишек нет... Так вышло» [Маканин 20086: 45]. «Сын», убивающий «Отца», - архетипическая ситуация, обнажающая ситуацию новых войн, где гуманистические проявления (жалость, сочувствие, доброта), выходящие за рамки коммерции, - слабости, ведущие к гибели. Этот эдипальный подтекст романа своеобразно преломился в реальности - молодой прозаик А. Бабченко «выстрелил» в Маканина, выступив срезкой критикой его романа.
А. Бабченко обнаружил в романе множество фактических неточностей и назвал роман «фэнтези о войне на тему "Чечня"»: «Разбирать все несуразицы "Асана бессмысленно, потому что они не то чтобы "встречаются" - роман на них построен полностью. Соприкосновения с реальностью в "Асане" нет ни единого. Понятно, что писал Маканин не о Чечне. И даже не о войне в целом. А о человеке на войне. Но для исследования тему надо представлять хотя бы приблизительно, а Владимир Маканин не знает не только чеченскую войну - он не знает войну вообще» [Бабченко 20086]. В. С. Маканин в ответ обвинил Бабченко в публицистичности, «монополизации темы войны» и смешении художественного текста и реальной жизни: «не такой уж Вы мальчик, чтобы всерьез смешивать погибших на войне с погибшими в Ваших рассказах»1 [Маканин 2008].
Уроки В. П. Астафьева
В конце 80-х - начале 90-х годов, в условиях отсутствия цензуры и выхода писателей из соцреалистической парадигмы, в орбиту художественного рассмотрения вовлекались исторические события и темы Великой Отечественной (например, действия заградотрядов, СМЕРШевцев и штрафбата1, Русской Освободительной Армии генерала Власова2), освещение которых в прежние времена было табуировано. Расширение проблематики батальной прозы открыло неведомые ранее перспективы переосмысления концепции войны.
Показательно изменение взгляда на Великую Отечественную войн} в творчестве В. П. Астафьева. Война в ранних его произведениях («Звездопад», 1960, «Пастух и пастушка», 1967) - это «тяжелое, но и романтическое время» [Мирошниченко 1998: 22]. В конце 80-х В. Астафьев утверждает, что «во всяком случае, к тому, что написано о войне, за исключением нескольких книг, я как солдат никакого отношения не имею. Я был на совершенно другой войне» [Астафьев 1988: 34]. Последующие произведения автора -попытка изобразить эту «другую войну».
В романе «Прокляты и убиты» (1990 - 1994) были не только заданы новые содержательные векторы в описании военных будней (например, появление топоса «учебки» - «чертовой ямы»), но и произошли глубокие изменения в осмыслении сущности войны. Основным архетипическим образом, мирообъясняющим символом войны в романе (с его эпиграфами из евангелий и структурой, обращенной к библейским сюжетам) становится Апокалипсис . Уже первая книга романа с заглавием «Чертова яма» определяет новые акценты в понимании травматического опыта войны. Центральным топосом является «чертова яма» - «учебка», казарменная преисподняя, «антихристово пристанище» [Астафьев 1992: 75]. В «чертовой яме» под «руководством» «мучающегося за всех» [там же: 76] товарища Сталина, политотдельцев и целой армии дармоедов болеют, морально опускаются и «обезличиваются», превращаются в скот «ребята - вчерашние школьники» [там же: 74]. Казарма соотносится с гигантской могилой: «без конца, без края, вроде бы и без стен, из сырого леса строенная, она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой, плесневелой от многолюдного дыхания» [там же: 71], той могилой, куда падают расстрелянные братья близнецы Снегиревы. В сцене убийства братьев - смысловом центре астафьевского произведения - выражено окончательное переосмысление образа врага. Стереотипная оппозиция «русские» - «немцы» («свои» «чужие») трансформирована в дихотомию «свои» - «свои»: «патриотизм (советский, атеистический) патриотизм традиционный, поверенный христианским критерием» [Есаулов 1994: 227, 236]. Главным «чужаком» оказывается свое, Советское государство («...суд здесь не божий... а... советский»), легитимирующее убийство, и значит, что защищать такое государство - идти против христианской совести. Роман Астафьева, раскрывающий античеловеческую и антинародную сущность войны, антигероическую невыносимость и бессмысленность каждодневного бытия солдата, взламывает «толстовскую матрицу» военного романа1. В. Астафьев показал, что физическое измождение и плохие бытовые условия вызывают не меньшие страдания, чем жизнь на грани смерти. В конечном итоге они ведут к разрушению бытийных основ, в результате чего человеческая эволюция начинает двигаться в обратном направлении -человек превращается в животное. Умаление человеческого до бестиарности, в меньшем масштабе и контексте, чем у В. П. Астафьева звучит и в современной баталистике. Показательна сцена приема пищи голодных солдат у Бабченко, свидетельствующая о регрессивном характере хода жизни: «Они паслись, как лоси, губами срывая с веток ягоды, фыркая и отгоняя оводов. Они больше не были солдатами, они забыли про войну, автоматы их валялись на земле, им очень хотелось есть, и они рвали губами эти холодные вкусные ягоды, переходя от одного пастбища к другому, оставляя после себя пустые обглоданные ветки, чувствуя, как после мертвой ночи в их тела вливается жизнь, как теплеет и ускоряется кровь в жилах ... Они паслись долго, пока не обглодали все» [Бабченко 2002: 29 -30]. Писателем подчеркнута трагическая абсурдность этой экзистенциальной трансформации: человек выступает животным, не способным мыслить и чувствовать в том, что должно его отличать от животного, и, наоборот, «очеловечивается», опускаясь до уровня животного, поскольку еда становится единственным действием, которое одухотворяет человека, вселяет в него способность чувствовать. 3. Прилепин и Д. Гуцко близость человека к образу идеального солдата акцентируют, используя зооморфные сравнения. У Д. Гуцко такой солдат, вступивший в драку с Митей Вакулой, охарактеризован как «крупный агрессивный самец» [Гуцко 2004: 54]. 3. Прилепин в рассказе «Сержант» описывает бойца по кличке Вялый, который «хочет кого-нибудь загрызть. Он и ехал сюда убить человека, хотя бы одного, даже не скрывал желания. "Здорово увидеть, как человеческая башка разлетается", - говорил, улыбаясь»; «у Вялого дрожат ноздри и пигментная щека вздрагивает» [Прилепин 2007: 89], он «прикармливал себя», «двигал желваками, словно жаждал перекусить что-то, мешающее дышать, наброшенное, как узда». Таким образом, астафьевские мотивы античеловечности и антинародности всякой войны, кем бы она ни велась, проблематика взаимосвязи нравственной порчи и физической деградации, глубокий разрыв между солдатом и властью оказываются близки современным авторам. Аналогия фронтовой повседневности с библейской апокалипсической символикой, раскрытие сущности происходящего с религиозно-мистической точки зрения объединяет текст В. Астафьева и роман О. Ермакова «Знак зверя», посвященного афганской войне.
Об апокалипсической сюжетике романа Ермакова свидетельствует и название, и эпиграф из Апокалипсиса к роману: «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие очертания имени его» [Ермаков 1992а: 6], и ономастическое пространство текста - имена центральных персонажей Бориса и Глеба - очевидно восходят к житийным мотивам.
«Новый реализм»: травматическое сознание и проблематика национальной идентичности
Литературовед М. Липовецкий, изучая влияние травмы на поэтику модернистких текстов первой половины XX века , выделил центральные характеристики травматического сознания: «новое представление о личности, биографии и истории»; «принципиальная невыразимость травматического опыта» [Липовецкий 2008: 73, 75].
Для авторов «нового реализма», личностей, становление которых определил хаос анархии и безвременья, бесформенная эстетика постмодернизма2 «отцов» (писателей 90-х) не может стать образцом, основанием для формирования упомянутых «новых представлений». Поэтому, в аспекте литературной преемственности «новые реалисты» обращены к опыту «дедов» - советским эстетическим моделям . Как отмечает С. Шаргунов, «обновленный реализм - это внук, внимающий суровому деду-фронтовику, бунтующий против расслабленного отца-анекдотчика с его растленным самодовлеющим дискурсом» [цит. по: Чупринин 2007: 364]. Художественный мир новореалистической прозы представлен в логике бинарных противопоставлений, характерных для соцреалистической системы оппозиций. «Актуальному миру городской цивилизации противопоставлена деревня, "лихим" девяностым устойчивость порядков родового прошлого, обществу либеральных ценностей - ориентиры советской империи» - замечает литературный критик В. Пустовал [Пустовал 2009: 442]. Таким образом, формируется особая форма травматического письма, которую литературовед А. Эткинд назвал «магическим историзмом» - описанием «прошлого не просто как "другой страны", но как страны экзотической и неразведанной, так и оставшейся беременной нерожденными альтернативами и непременными чудесами» [Липовецкий, Эткинд 2008: 179]. Мифологизирование - идея выстраивания ретро-утопии «другой страны», желание отмежеваться от литературы 90-х обуславливает ярко выраженный антицивилизационный пафос новореалистической прозы. Один из молодых критиков М. Свириденков, говоря о «новом поколении литераторов», называет их «варварами на пепелище Рима» [Свириденков 2005: 433]. Герои «новых реалистов» -онтологические сироты, маргиналы - изъяты из необходимого жизненного контекста: у них нет родины, родителей, дома, или это отнято у них (властью, либералами, банкирами, чеченскими боевиками), поэтому они обращаются к агрессии, для того чтобы это обрести или вернуть свой разрушенный мир (советское прошлое). Агрессивность, протестность, «варварство» и телоцентризм (обусловленный первобытными, мистическими представлениями героев и молодостью героев-авторов) - вот константные черты большинства героев т. н. «нового реализма».
Образ центрального героя также выстраивается по канонам советской агиографии: стихийный (в первобытной идеологии инстинктов) герой, близкий к народу, с мудрыми бабушкой и дедушкой, ведет массы на борьбу, бьется с бюрократией, классово чует врага (им может быть либерал, банкир, или чеченец), припадает к деревенским корням, ездит по «горячим точкам», дышит ветром революции. Таковы, например, герои 3. Прилепина («Патологии», «Санькя») и С. Шаргунова («Ура!»), «Библиотекарь» М. Елизарова. Невыразимость травматического опыта связана с тем, что вызвать чувство боли художественным словом у совершенно незнакомых людей -трудная задача. По мнению философа Элейн Скарри, трудно описать как чужую боль, так и свою собственную. Ведь не существует языка боли, и, чтобы вообразить ее, требуется готовность другого человека. Еще сложнее представить себе боль члена иного общества, чем твое собственное. Скарри пишет: «То, что трудно вообразить себе чувства другого, - не только проблема, которая выражена в причинении боли, но и причина этого действия. Боль причиняется именно потому, что нам нелегко поверить в реальное существование других людей» [Scarry 1985: 65].
Попытки концептуализировать и выразить травматический опыт реализовались в т. н. «новой искренности» «нового реализма» - в акцентировании авторами документального, автобиографического и автопсихологического начал. Предыдущий контекст постмодернизма стер грань между личным и чужым, иронично вписав интимные переживания в безличные стереотипы. «Новые реалисты» совершают противоположный жест - пытаются наделить личным экзистенциальным смыслом, казалось бы, мертвые клише, явив читателю сложность, осколочность личности в современном обществе. Стремление к концептуализации личного травматического опыта неразрывно соединено с моментом его проживания, создания собственного «болевого» контекста, отмеченного маркерами только своего опыта1. Поэтому тематическое разнообразие текстов «новых реалистов» обусловлено житейским опытом. Прямое следствие этого -востребование журналистской практики и логики работы - побывать на месте событий. Особенно это актуально для авторов прозы о войне. Работают журналистами А. Бабченко, 3. Прилепин, А. Карасев. Итак, подвергнем анализу реализацию обозначенных граней «нового реализма»: журнализм, обращение к советским моделям героя, мифологизацию прошлого в творчестве А. Бабченко, 3. Прилепина, Г. Садулаева соответственно.
Главной чертой текстов А. Бабченко (два цикла «Десять серий о войне» и «Маленькая победоносная война», рассказы «Аргун» и повестей «Алхан-Юрт» и «Взлетка»), наряду с доминирующим автобиографическим началом, критиками единогласно названа документальность, журналистская точность в описании военных будней: «его рассказы - череда моментальных фотографий, череда кадров, выхваченных из промозглой действительности. Кадр: солдаты безуспешно пытаются спасти умирающую корову; кадр: зверски замученный солдат; кадр: плывущие по реке трупы чеченцев» [Урицкий 2002: 220]; «проза Бабченко близка к документализму» [Беляков 2003: 242]; «у Бабченко в прозе преимуществен журнал истско-корреспондентский стиль» [Иванова 20116: 11].
«Журналистский» стиль текстов А. Бабченко стал главным объектом полемики в литературной среде. Одни критики упрекают автора в «игре на теме» войны - эксплуатации и постоянном ее «перепевании» [Немзер 2002]. Другие не считают Бабченко «конъюктурщиком» («Я вовсе не считаю его конъюнктурщиком. ... Его умонастроение и его взгляд совпали с общепринятым взглядом на войну» [Беляков 2007: 236]), но отказывают текстам автора в эстетической значимости, предлагая вывести «репортажные заметки, лишенные прекрасного вымысла, за пределы художественной литературы» [Беляков 2003: 243]. Известный исследователь жанра автобиографии Л. Я. Гинзбург отмечала: «для эстетической значимости не обязателен вымысел (курсив наш - А. Д.) и обязательна организация - отбор и творческое сочетание элементов, отраженных и преображенных словом» [Гинзбург 1999: 55]. Война у Бабченко отражена и преображена через органы чувств, эмоции, переживания конкретного человека Аркадия Бабченко и его литературных двойников Артема или Аркаши, она субъективна и в этом смысле художественна. Автор полифункционален в текстах. Он выступает в роли рассказчика-репортера и одновременно в роли рефлектирующего субъекта действия, рассуждающего на тему войны.
Пародийная поэтика романа Е. Даниленко «Дикополь»
В романе Е. Даниленко «Дикополь» (2003) присутствуют знаковые черты современной батальной прозы: натуралистическая поэтика, однолинейное повествование от первого лица, понимание войны как бизнеса, а солдат - как заложников политических и коммерческих игр. Топос действия - г. Дикополь, время военной операции - Новый год, конфликты за власть между генералами с прозрачными именами и фамилиями Адам Бугаев и Джохар Байсаев - за всем этим трудно не узнать реальные события штурма Грозного 31 декабря 1994 года и последующие события в республике Ичкерии (которые с документальной точностью воспроизведены в романе «Шалинский рейд» Г. Садулаева).
Литературный критик Л. Данилкин отметил, что «даниленковская проза про войну вылита по какой-то неизвестной в здешней литературе матрице - и не по реалистической толстовской и не по романтической лермонтовской» [Данилкин 2007: 121]. Исследователь молодой батальной прозы Н. Выговская объясняет, что в основе литературной матрицы Даниленко лежит «пародия на сюжеты масс-литературы о войне» [Выговская 2008]. Выговская сосредотачивает свое внимание на анализе приема иронии и функций смеха в романе1. В центре нашего внимания - структура матрицы-пародии2, при помощи которой Даниленко удалось «остранить» (критически деконструировать) клише массового жанра романа-боевика.
Для выявления непривычных (странных) концептуальных коннотаций шаблонов популярной литературы в романе, обратимся к «массовым» составляющим текста: названию, образу центрального героя, поэтике.
Заглавие текста - «Дикополь» - не только обозначает основной топос повествования, но и отражает высокую степень агрессивности, дикость, варварство, убийство (это связь и с городом-прототипом Грозным). Название коррелирует с представлениями, закрепленными в текстах массовой литературы, об имманентной дикости, присущей чеченскому народу, - это иронично обыгрывается в тексте романа: «В этом городе Дикополе, совершенно мирном и тихом, ни с того ни с сего появилось множество вооруженных людей...» [Даниленко 2003: 17]. Кроме того, в заглавии использован прецедентный феномен из слоя русской культуры (что характерно для массовой литературы [Черняк 2009: 381]): «дикополь» - (аббревиация слов «дикое» и «поле») выступает антонимом «русскому полю» («Русское поле» -знаменитая песня на слова И. А. Гофф и музыку Я. Френкеля). Название провоцирует читательское ожидание - перед нами роман-боевик.
В центре повествования - судьба лейтенанта Иванова по кличке Нож, участника некоего элитного взвода специального назначения. Взвод посылают в город Дикополь, где захвативший власть вожак Бугаев сеет сепаратизм. Там, в результате предательства командования, отряд гибнет. Выжившему - Ножу предлагают обучать врагов снайперскому делу, но он сбегает, убив одним выстрелом семь человек.
Роман начинается с описания процесса обучения сирот (будущих солдат) и первых операцией элитного взвода. В целом это соответствует «формуле» русского романа-боевика, о котором Б. Дубин, в частности, писал: «герой как правило один, обычно сирота и бездетен, любимые им женщины, не говоря о случайных подружках, рано или поздно гибнут» [Дубин 1996: 253]. Писатель и критик О. Славникова в сиротстве видит вариант константной характеристики героя «российского "экшена"»: «Герой действительно должен быть немного "ущербным", немного "больным" ... в отечественном случае странность должна иметь оттенок страдательный» [Славникова 1998а: 160]. Герой «Дикополи» говорит о себе: «Мы были из детских домов. В этом все дело» [Даниленко 2003: 7]. Семью герою заменяет учитель: «Героя воспитывает не отец, а Учитель» [Дубин 1996: 254]. В тексте Даниленко Учитель - это лейтенант Лазарев, предлагающий совершить первое осознанное зло - убить кролика.
Герой, в соответствии с жанровым каноном, обладает совершенно обычным «валентным» именем (с ним любой читатель легко может себя отождествить): Сергей Сергеевич Иванов. Это принципиально для жанра боевика, где соотношение «герой - автор», актуальное для высокой литературы, меняется на «читатель - герой» [Славникова 1998а: 159], и основной целью является самоидентификация читателя с фигурой супергероя. О. Славникова отмечает, что супергерой должен совершить «подвиг обыкновенности ... чтобы дальнейшие его победы имели в глазах читателя серьезную цену» [там же: 161]. Иванов-Нож обладает не только обыкновенным именем, но и весьма заурядными способностями. Среди целой команды супергероев, например, он не отличается силой, как боец Костанжогло, который разрубил штыковой лопатой мужчину «от левого плеча к пояснице» [Даниленко 2003: 16]. Лейтенант Лазарев характеризует Иванова как «...середняка. Не самого храброго, не самого сильного, не самого умного среди остальных...» [там же: 50]. Тем ярче выглядит его конечный подвиг - убийство сразу семерых врагов одной пулей. Супергерой, бесстрашно побеждающий врагов, - один из типичных образов романов-боевиков середины 90-х (например, цикл книг В. Доценко о Бешеном), да и в нулевые эксплуатация этого типа не ослабевает (произведения Пучкова Л. Н. «Кровник (Дело чести)» 1999; Ольбика А. «Президент» 2002; Пучков Л. Н. «Испытание киллера» 2004). Супергерою соответствует и такой же непобедимый враг: генерал Бугаев, его голову (в прямом смысле) элитный взвод доставляет в начале романа, но он оказывается жив и возглавляет мятеж в Дикополи.
Для современных медиа и массовой культуры характерно количественное нагнетание изображений боли, страдания, насилия. Все большая визуальная медиализация боли становится привычной для зрителей и ведет к эмоциональной инфляции. Как отмечает И. Калинин, «опыт войны постепенно растворяется в визуальных образах - все более шокирующих, но все менее очищающих зрение и мышление от их автоматизированных привычек» [Калинин 2012: 34].
Натуралистические сцены убийств и насилия в романе Даниленко построены на риторическом рефрене, переакцентирующем перцепцию с речевого плана на визуальный. Сценарист Даниленко явно ориентировал эти сцены1 на привычное и легко опознаваемое для читателя - визуальный ряд фильмов-«слэшеров» . Как и фильмах этого жанра, в романе убийство показано с максимальной изобретательностью, как шоу-стоппер, как аттракцион, как самодостаточный рассказ - с собственной завязкой, кульминацией и развязкой. Вот как, например, представлена картина «форсированного допроса пленного»: «...от растянутого между четырех вбитых в землю колышков субъекта отрезаются небольшие, граммов на сто кусочки, во рту же у него деревянный кляп, так что громко кричать он не может, только стонет, хрипит, и вот, строгая партизана перочинным ножом, разведчики задают ему разные вопросы...» [Даниленко 2003: 16].