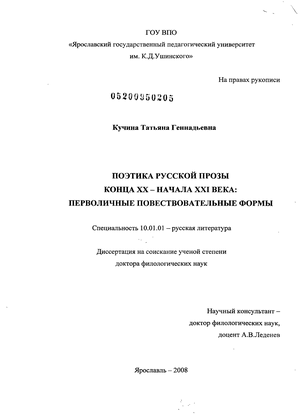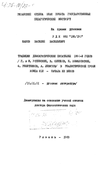Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Методология исследования форм перволичного повествования в литературоведении XX века 19
Глава 2. Стилевые ресурсы перволичного повествования в романной прозе концаXX-началаXXI в 45
1. Семантическая амбивалентность повествования в романе Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» . 48
1.1. Проблема нарративной компетентности героя-рассказчика в романе Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» 48
1.2. Литературный фон повествования. Мотивы двойничества в романе 67
2. Повествователь-вуайер: визуальная поэтика Николая Кононова («Похороны кузнечика» и «Нежный театр») 86
2.1 .Оптическая метафора в повествовательной структуре текста 86
2.2 Слово и тело: идиолект телесности в прозе Николая Кононова. «Я» как «Другой» 107
Глава 3. Повествовательная структура текстов с ономастическим тождеством автора и персонажа 132
1. Формы объективации авторского присутствия в художественном тексте 135
2. «Говорящие фиктивны, но говоримое реально»: повествовательный акт как онтологическое событие в прозе Михаила Шишкина («Взятие Измаила» и «Венерин волос») 142
2.1. Многосубъектность повествования в романах Михаила Шишкина 142
2.2. Мотивная структура повествования. Автобиографические мотивы как проекции историй романных персонажей 158
2.3. Narratio contra Tanatos: «воскрешение словом» как ключевая интенция «я»-повествователя 167
3. «Подлинная жизнь» Сергея Довлатова: «литературность» как критерий аутентичности автобиографического метатекста 178
3.1. «Я»-повествователь и автобиографический герой в прозе Сергея Довлатова 180
3.2. Повествовательное конструирование прошлого в прозе Сергея Довлатова 189
4. Рубен Давид Гонсалес Гальего: документальное письмо как фикциональный нарратив 209
Глава 4. «Я» - «не-я»: субъект повествования и повествовательные нормы non-fiction 222
1. Фактуальный и фикциональный аспекты автобиографического повествования в литературе конца XX - начала XXI в 227
2. «Я»-повествователь как ненадежный читатель автобиографического претекста в русской прозе конца XX - начала XXI в 250
3. «Чужая речь мне будет оболочкой»: автопортрет в литературном интертексте 269
Заключение 292
Библиографический список 296
- Проблема нарративной компетентности героя-рассказчика в романе Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»
- Формы объективации авторского присутствия в художественном тексте
- Narratio contra Tanatos: «воскрешение словом» как ключевая интенция «я»-повествователя
- Фактуальный и фикциональный аспекты автобиографического повествования в литературе конца XX - начала XXI в
Введение к работе
Проблема границ «я» и «не я», несовпадения «реального» и «воображаемого» «я» (в терминах Ж.Лакана), опознания собственного «я» только в «Другом» и через «Другого» (в терминах П.Рикера) - одна из центральных в философии и эстетике XX века. В культуре последних десятилетий представление о раздробленности «я», утрате аутентичности стало едва ли не общим местом. «Кризис идентификации» (лучше сказать, кризис самоидентификации) - специальный термин в философских работах нескольких последних десятилетий, и по своему содержанию он теснейшим образом связан с идеей недостижимости тождества субъекта сознания с самим собой.
В литературе авторская субъективная устремленность к фокусировке индивидуальности в «я» реализуется прежде всего в формах перволичного повествования - как в художественной прозе, так и в документально-автобиографической. Автором данной диссертации при исследовании особенностей поэтики non-fiction намеренно выводятся из зоны рассмотрения «обыденные автотексты» (термин Ф.Лежена, которым ученый описывает разнообразные современные автобиографические практики типа дневников и их электронных эквивалентов - блогов, «живых журналов», излагаемых на форумах личных историй и т.п.). Исследуемый в диссертации корпус произведений non-fiction может быть охарактеризован в соответствии с формулой Натальи Ивановой, предложенной в статье «По ту сторону вымысла»: «Non-fiction есть все, что не fiction, но остающееся в пределах художественного письма (в пределах интеллектуально-художественного дискурса). Я отношу non-fiction к изящной словесности - а не просто к книгам как таковым» .
Однако в литературе рубежа XX - XXI вв.и границы между fiction и non-fiction едва различимы: заведомо фикциональная проза В.Попова или исповедально-лирические произведения Н.Кононова воспринимаются как автобиография писателя, в то время как подлинная жизнь ученого-филолога превращается в литературный сюжет (в «Записях и выписках» М.Гаспарова, «Мемуарных виньетках» А.Жолковского, «Конце цитаты» и «Пиши пропало» М.Безродного). Истории С.Довлатова, рассказанные, например, в «Соло на ундервуде» или в «Ремесле», мало чем отличаются по своей повествовательной технике от «Мемуарных виньеток» А.Жолковского -однако Довлатов никогда не скрывал вымышленности своих сюжетов, а Жолковский всегда настаивал на том, что ни в одном эпизоде ни на йоту не отклонился от правды. Экстраполяция фикциональных норм нарратива на автобиографический текст и, наоборот, использование художественной
Более подробно см. словарную статью «Идентификации кризис» в «Новейшем философском словаре» (Минск, 2003). Автор статьи - М. А.Можейко.
2 Иванова Н.Б. По ту сторону вымысла// Знамя. 2005. №11. С.7. Более подробно о поэтике non-fiction см. раздел о гл.4.
прозой приемов документально-автобиографического письма - значимые характеристики перволичного повествования в современной литературе, и именно их исследование определило основные направления данной работы.
В отечественной прозе последних двадцати - двадцати пяти лет перволичные повествовательные формы представлены весьма разнообразно. Отчетливо выделяется группа произведений, которая - в терминах современного европейского литературоведения - может быть отнесена к autofiction : автор выступает здесь под собственным именем и ведет рассказ от первого лица; однако на документальной достоверности рассказываемого автор не настаивает (определяя свое произведение как роман, повесть, рассказ или поэму), оставляя читателю возможность самому выбрать стратегию толкования. В прозе последних десятилетий к числу таких произведений принадлежат поэма «Москва - Петушки» Вен. Ерофеева, романы «Подросток Савенко» и «Это я - Эдичка» Э.Лимонова, рассказы и повести С.Довлатова, В.Попова, Р.Сенчина, Е.Гришковца, З.Прилепина, С.Шаргунова, И.Кочергина, А.Бабченко, С.Говорухина и др.
Создававшиеся в русле документальной автобиографической прозы
«Альбом для марок» А.Сергеева и «Белое на черном» Р.Гальего были
удостоены Букеровской премии (а затем переизданы) как романы.
Внежанровая книга М.Гаспарова «Записи и выписки» имеет обширные
«вставки», сконструированные по традиционной модели
автобиографического повествования (история семьи, информация о родителях, школьные годы, поступление в университет и т.д.). Беллетризованная «история болезни» С.Гандлевского «Трепанация черепа» по мере повествовательного развертывания проявляет черты автобиографического романа (при этом истории многочисленных и разнообразных предков - начиная от прадеда - рассказываются в той же стилистике, в которой С.Довлатов писал о своих предках по отцовской и материнской линии в повести «Наши»). В книге А.Битова «Неизбежность ненаписанного» в воспоминания, выстроенные по весьма прихотливой хронологической канве, вплетены тексты ранних рассказов и стихотворений, фрагменты незавершенных или претерпевших впоследствии правку произведений (по сути, черновики и наброски, версии и варианты), и
Термин С.Дубровски, активно используемый на протяжении последних трех десятилетий французскими литературоведами. См. след. работы: Doubrovsky, S. Autobiographie I verite I psychanalyse// Doubrovsky, S. Autobiographiques: de Corneille a Sartre. Paris: PUF, 1988. P. 61-79; Lecarme, J. L'autofiction: un mauvais genre?// Autofictions & Cie/ dir. S. Doubrovsky, J. Lecarme et Ph. Lejeune. - Colloque de Nanterre, 1992, RITM, №6; Colonna, V. L'Autofiction. Essai sur la fictionalisation de soi en litterature. These EHESS, 1989; Gasparini, P. Est-il je? Roman autobiographique et autofiction. Seuil, 2004; Vilain, P. Defense de Narcisse. Grasset, 2005. Электронные ресурсы: (профессиональный сайт преподавателей французского языка и литературы). Страничка «L' autofiction» расположена по адресу: ); Laurent Jenny. L'autofiction: Methodes et Problemes (Dpt de Francais moderne - Universite de Geneve ; 2003).
автобиография писателя в конечном итоге едва вычленяется из «дали свободного романа». Документально-автобиографическая книга Р.Киреева «Пятьдесят лет в раю» строится - в весьма нестойкой связи с хронологией -как система «парных портретов» (повествовательная структура тем самым демонстративно фикционализирована): каждая глава рассказывает историю встречи/ знакомства автора-повествователя с людьми, сыгравшими важную роль в его творческой судьбе (это и Б.Балтер, и Н.Рубцов, и В.Лакшин, и В.Катаев, и С.Наровчатов, и Г.Семенов, и Е.Дубровин).
Разграничить фактуальные и фикциональные жанровые формы в прозе таких авторов, как А.Бабченко (сборник повестей, рассказов и очерков «Алхан-Юрт»), А.Ефимов («730 дней в сапогах») или С.Говорухин («Сто сорок лет одиночества»), часто не представляется возможным (весьма показательно, например, что в оформлении книги «Алхан-Юрт» использованы подлинные фотографии Аркадия Бабченко и реальные снимки тех мест, где разворачиваются основные события повестей). Репортажная стилистика отнюдь не исключает «психологических» ретардаций (доступа к интеллектуально-эмоциональной сфере жизни персонажа) и детальной разработки отдельных эпизодов (с внятными акцентами на наиболее значимых подробностях) - а это традиционно выделяемые черты фикционального повествования .
Романная проза конца XX - начала XXI века активно использует опыт автобиографического повествования. В данной работе объект рассмотрения ограничен именно теми литературными произведениями, в которых «я»-повествование соотнесено с автобиографическим контекстом либо создает иллюзию автобиографического равенства автора/ героя/ повествователя. В художественной прозе конца 1990-х - начала 2000-х гг. примерами таких романов являются произведения В.Маканина («Андеграунд, или Герой нашего времени») и Н.Кононова («Похороны кузнечика» и «Нежный театр»). История автофикционального повествования прослеживается на более обширном материале - начиная с 1980-х гг. (прозы С. Довлатова) и
Терминологическая пара фактуальное/ фикциональное (factual/ fictional) активно используется в западноевропейском и американском литературоведении последних десятилетий (см. работы К.Хамбургер, Дж. Олни, У.Ховарта, Б.Мэндела, В.Шмида и др.). В этапной для исследования повествовательной техники работе Ж.Женетта «Вымысел и слог» специальный раздел посвящен обсуждению характеристик разных форм нарратива («Фикциональное и фактуальное повествование»), хотя сам ученый сетует на несовершенство используемого понятийного аппарата - прежде всего термина «фактуальный»: «За неимением лучшего, я буду употреблять здесь это отнюдь не безупречное... прилагательное, с тем чтобы не прибегать систематически к отрицательным конструкциям (не-вымысел, нефикционалъный и пр.)» (Женетт, Ж. Фигуры. В 2-х т. Т.2. М., 1998. С. 386).
На эти особенности повествования как на значимые маркеры фикциональности еще полвека назад указывала в своих работах Кэте Хамбургер (Hamburger, К. Die Logik der Dichtung, 1957; английский перевод: Hamburger, К. The Logic of Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1973).
заканчивая произведениями, появившимися в 2000 - 2006 гг. (романы М.Шишкина, Р.Гальего, повести С.Шаргунова). Наконец, проза non-fiction представлена произведениями А.Битова, М.Гаспарова, М.Безродного, А.Сергеева, А.Жолковского, А. Бараша, А.Архангельского и др.
До сих пор большая часть этих произведений была объектом лишь журнальных и газетных рецензий и литературно-критических статей обзорного характера (исключение составляют роман В.Маканина и проза С.Довлатова - к творчеству этих авторов критики и литературоведы значительно более внимательны). Научная новизна данного исследования как раз и состоит в том, что впервые в отечественном литературоведении собственно художественная и документально-автобиографическая проза конца XX - начала XXI века (fiction и non-fiction) рассматривается в одном ракурсе - с точки зрения повествовательной организации текста - и с единых методологических позиций - позиций нарратологического анализа текста.
В современных исследованиях повествовательной организации текстов (это касается как отечественного, так и зарубежного литературоведения) non-fiction явно «дискриминирована» по сравнению с fiction. На этот факт указывал еще Ж.Женетт: он отмечал, что нарратология «должна была бы заниматься всеми видами повествования, и фикциональными, и нефикциональными. Однако нельзя не видеть, что до сих пор... уделяли почти исключительное внимание построению и предмету одного только фикционального повествования» .
Это положение абсолютно справедливо и по отношению к исследованиям современной российской литературы. Яркие и значительные произведения non-fiction по большей части остаются объектами разрозненных (хотя часто и проницательных) рецензий; целостного описания повествовательной структуры нефикциональных текстов, которое бы в синхронном срезе представило наиболее существенные, магистральные тенденции этой области литературы с учетом творческого опыта разных авторов, в науке нет. Отсюда вытекает и следующее положение, определяющее направленность данного исследования (суть этого положения в полной мере выражена формулировкой Ж.Женетта): нарратология «не может до бесконечности уклоняться от вопроса, применимы ли ее результаты - если не методы - к сфере, которой она никогда по-настоящему не занималась и которую присвоила себе молчком, без рассмотрения и объяснений» . Следует отметить, что прошло уже больше тридцати лет (во Франции работа Ж.Женетта была опубликована в 1972 году), а однозначного ответа на вопрос о том, как же соотносятся нормы фикционального и нефикционального «я»-повествования и в какой мере применимы литературоведческие технологии изучения художественного нарратива к автобиографической прозе, так и не появилось. По отношению к современной
6 Женетт Ж. Вымысел и слог// Женетт Ж. Фигуры. В 2-х т. Т.2. М.: Издательство
Сабашниковых, 1998. С. 385.
7 Там же. С. 386.
российской литературе такой вопрос никогда даже и не ставился - именно это и обуславливает научную актуальность настоящего исследования.
Цель работы - выявление тех черт, которыми определяется специфика перволичных повествовательных форм (фикциональное повествование, автобиографическое повествование) в русской прозе конца XX - начала XXI века.
Основными аспектами повествовательной структуры текста, составившими предмет исследования, являются способы авторепрезентации перволичного повествователя и соотношение его с «я»-персонажем, особенности повествовательной фокализации, специфические черты «ненадежного» повествования, формы объективации авторского присутствия в повествуемом мире, приемы экспликации литературных «подтекстов» в автобиографическом и автофикциональном повествовании и алгоритмы авторской интерпретации персонального биографического сюжета в фикциональном и фактуальном повествовании.
Основные задачи исследования:
определить коммуникативные интенции «я»-повествователя и охарактеризовать диапазон его нарративных компетенций в прозе конца XX -начала XXI века;
установить принципы нарративного конструирования «я»-повествователя и «я»-персонажа в фикциональном и нефикциональном тексте и вычленить критерии самоидентификации субъекта речи/ субъекта действия;
выявить систему повествовательных приемов, обеспечивающих вариативность биографического / автобиографического сюжета и эксплицирующих процесс его фикционализации в прозе non-fiction;
выяснить, какие интратекстуальные и паратекстуальные параметры повествования определяют его читательскую рецепцию в качестве фактуального или фикционального в произведениях с ономастическим тождеством автора, повествователя и героя;
дать анализ мотивной организации повествования и охарактеризовать структурно-семантические функции сквозных мотивов;
описать функции интертекстуальных отсылок и автореминисценций в повествовательной структуре автобиографического текста.
Методологическую основу исследования составили научные труды по нарратологии, проблематика которых связана прежде всего с изучением типов и форм повествования, нарративных уровней и повествовательных инстанций (работы Р.Якобсона, Р.Барта, Ж.Женетта, С.Чэтмена, Дж. Принса, Х.Миллера, М.Баль, В.Шмида), сферы компетенций нарратора и наррататора и характерных признаков «надежного» (reliable) и «ненадежного» (unreliable) повествования (работы У.Бута, С.Чэтмена), специфики формирования визуальной перспективы словесного текста, особенностей его внутренней и внешней фокализации (работы Ж.Женетта, С.Чэтмена, Ц.Тодорова, Б.Успенского). В анализе механизмов соотнесения дискурсивной и референтной сферы нарратива важное значение имели исследования
Н.Шмелева, И.Левонтиной, Анны А.Зализняк, а также Е.Падучевой, М.Дымарского (в частности, характеристика «классического» и «неклассического» нарратива, указания на невозможность однозначной атрибуции субъекта нарратива и нарушение повествователем границ «чужого» сознания как на признаки «неклассического» нарратива). Рассмотрение автобиографических повествовательных форм базировалось на трудах Ж.Гусдорфа, Ф.Лежена, Ж.Женетта, Д.Олни, П. де Мана, Э.Брасс, У.Спенжмена, Дж.Д.Харрис, К.Хамбургер и др., исследование норм автофикционального повествования - на теоретических построениях С.Дубровски, В.Колонна, Ф.Гаспарини. В анализе мотивной организации повествования автор диссертации придерживался тех принципов экспликации мотивов и истолкования связей между ними, которые разработаны Б.Гаспаровым, А.Жолковским, В.Шмидом, И.Силантьевым. Наконец, трактовка закономерностей читательской рецепции «я»-повествования как fiction или non-fiction строилась с учетом теоретических положений работ В.Изера, М.Риффатерра, Ф.Лежена (идея «автобиографического пакта»), Э.Брасс, Б.Мэндела. Методы и приемы нарратологического анализа, структурного анализа, мотивного анализа текста формируют исследовательский инструментарий данной работы.
Проблема концептуализации «я», выявления и самоопределения «я» в зоне контакта с «другим» не теряла своей актуальности в гуманитарных исследованиях на протяжении всего XX века (начиная, например, с работ М.Бубера, М.Бахтина, Л.Шестова и заканчивая трудами Ж.Лакана и П.Рикера). Однако сами способы собственно художественной репрезентации «я» не становились в них объектом системного исследования; на первый план выходило установление онтологических границ «я», а не характеристика литературных форм экспликации «я». Отсюда и возникает необходимость целостного и системного описания способов повествовательного конструирования «я» в литературе конца XX - начала XXI века, и этим определяется теоретическая значимость данного исследования. В диссертации рассматривается повествовательная структура около тридцати произведений разных современных авторов, что позволяет воссоздать с достаточной степенью детализации ведущие нарративные тенденции в литературе последних двух десятилетий, причем в тех аспектах, которые имеют решающее значение для понимания ее гносеологических, аксиологических, эстетических установок.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его материалов в преподавании учебных курсов «Современная русская литература» и «Историческая поэтика литературы XX века» на филологических факультетах вузов, а также при разработке спецкурсов и элективных курсов по истории русской литературы XX - XXI вв.
Структура работы: диссертация состоит из введения, четырех глав (в состав которых входит 9 параграфов), заключения и библиографического списка, включающего 578 наименований.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
-
В русской прозе конца XX - начала XXI века концептуализация «я» осуществляется исходя из представлений об относительности и открытости его границ. Персональная история «я»-повествователя лишается телеологической устремленности биографического сюжета, свойственной классической литературе XIX - начала XX в., и представляет собой вариативный набор повествовательных версий, каждая из которых в равной степени может рассматриваться как легитимная хроника индивидуальной жизни. При всем разнообразии вариантов единственно «правильный» инвариант установить невозможно: сохранение точных «анкетных» данных «я»-повествователя не гарантирует онтологической уникальности его истории.
-
Повествовательная репрезентация «я» сопровождается в современной прозе актуализацией текстуальных свойств реальности - в том числе и реальности биографического/ автобиографического прошлого. Вне зависимости от литературной генеалогии (равно как и от реалистической или постмодернистской ориентации) писатели конца XX - начала XXI века обращаются к сходным способам выстраивания персонального биографического сюжета «поверх» того или иного литературного претекста. История «я»-повествователя может быть попыткой уклониться от предзаданных сюжетных схем (как в романе В.Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени») или выражением готовности повторить «чужие» сюжеты в собственной жизни (как в романах М.Шишкина), признать литературные «трафареты» тематическими узорами собственной судьбы (как в прозе С. Довлатова и отчасти в романах Н.Кононова и В.Месяца); в любом случае жизнь, осознанная как «не-текст», в глазах пишущего лишена аутентичности.
-
Создание повествовательными средствами литературного автопортрета регистрирует неизбежную и неустранимую «асимптотичность» изображения по отношению к изображаемому. Фиксация экзистенциального неравенства «я»-объекта и «я»-субъекта изображения - общая черта фикционального и нефикционального повествования; она в равной мере характеризует, например, автобиографическую прозу С. Довлатова и романную прозу Н.Кононова. История героя - не объективная данность, неизменная в силу завершенности в прошлом, а трансформирующийся объект литературного сюжета, в котором автор узнает и познает себя, свое непрерывно становящееся, но не ставшее «я».
-
Подвижный и многослойный палимпсест прошлого, будучи объектом «я»-повествования, получает семантический код из настоящего. Свое значение факты прошлого приобретают именно в процессе нарративного упорядочивания; иными словами, фабульное «означаемое» формируется повествовательным «означающим» и «управляется» им (означающим) согласно актуальному контексту письма. Даже при сохранении субъективной писательской установки на достоверность и точность
повествования биографический / автобиографический претекст восстанавливается в соответствии с теми сюжетными алгоритмами, которые становятся видимыми из зоны письма.
-
Автобиографические повествовательные формы в литературной истории второй половины XX - начала XXI века приобретают отчетливые фикциональные черты. Алгоритмы фикционализации «филологических» автобиографий в современной литературе имеют в своей основе нелинейную последовательность событий, дискретный событийный ряд, приоритет внефабульных связей между составными элементами. «Документальный» факт сливается с литературным фактом или замещается им, вследствие чего подрывается реальная модальность повествования. Литературные «черновики», записные книжки и мемуарные виньетки превращаются в самодостаточный, завершенный текст, и создается он писателем, как правило, на протяжении всей жизни. Утверждая (как Л. Гинзбург) или отвергая (как А.Жолковский, М.Гаспаров, А.Сергеев, С.Довлатов) «последнюю прямоту» этого метатекста, автор пытается именно в нем разглядеть («прочитать») знаки персонального «тематического узора» судьбы, уловить их подлинное содержание. Именно в письме любое событие эстетически завершается, «отдает» и одновременно получает свой смысл.
-
Одной из значимых черт автобиографической прозы рубежа XX -XXI вв. является воссоздание прошлого как прежде всего дискурсивного мира; для читателя именно фактор «дискурсивной истинности» - независимо от фактуальной достоверности/ недостоверности рассказываемого - является решающим. Личностное сознание повествователя формируется скрещением -в расширительном смысле - цитат, стилей, жанров. Повествовательная авторепрезентация как «прочтение» жизненного опыта становится, скорее, интерпретацией его словесных эквивалентов, а само автобиографическое повествование - не столько хроникой частной жизни, «летописью персональности», сколько нарративной реконструкцией «я» как фигуры речи.
-
В автобиографической прозе конца XX - начала XXI вв. реальные факты вплетаются в уже существующие литературные схемы. «Дешифровка» персональных автобиографических кодов осуществляется на основе универсального фонда литературных сюжетов; чем богаче и разнообразнее литературный опыт «я»-повествователя, тем больше возможностей разглядеть тот событийный узор, который хочет быть рассказанным, тем больше шансов отыскать индивидуальную траекторию собственного автобиографического сюжета, уклонившись от общих, трафаретных схем. Фикционализация воспоминания как «эмпирического» источника перволичного повествования приводит к тому, что реально бывшее вступает в симбиоз с воображенным, а доподлинно установить действительный «денотат» воспоминания становится уже невозможно. Любые «апокрифические» отображения реальности в той же мере верны, в какой и недостоверны. Центром же, нарративной «константой» текста остается «я»-повествователь.
Апробация работы: результаты исследования представлялись в докладах на международных и межвузовских научных конференциях: «Русская литература XX - XXI вв.: проблемы теории и методологии изучения» (МГУ, 2004 и 2006), «Русское литературоведение в новом тысячелетии» (Москва, МГОПУ, 2002, 2003, 2004), «Славянские литературы в контексте мировой» (Минск, 2005, 2007), «Новейшая русская литература рубежа XX-XXI веков: итоги и перспективы» (Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена, 2006), «Пушкинские чтения - 2007» (Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2007), «Литература в контексте современности» (Челябинск, 2007), «Экология культуры и языка: проблемы и перспективы» (Архангельск, 2006), «Литература в диалоге культур» (Ростов-на-Дону, 2004, 2005, 2006, 2007), «Художественный текст и культура» (Владимир, 2005), «Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты» (Чита, 2007), «Открытое образование и информационные технологии» (Пенза, 2005), «Взаимодействие вуза и школы в преподавании отечественной литературы» (Ярославль, 2006), «Риторика и культура речи в современном информационном пространстве» (Ярославль, 2007), «Человек. Русский язык. Информационное пространство» (Ярославль, 2007), Шешуковские чтения (Москва, МШУ, 2007, 2008), Чтения Ушинского (Ярославль, 2002, 2005). Основные идеи диссертации изложены в 36 опубликованных работах, в том числе монографии «Поэтика «я»-повествования в русской прозе конца XX - начала XXI века» (Ярославль, 2008). Отдельные положения исследования получили отражение в отчете по гранту РГНФ «В.В.Набоков и современная русская проза» (научно-исследовательский проект №05-0404396а; совместно с А.В.Леденевым и Е.А.Ермолиным), а также в учебном пособии «Современный отечественный
литературный процесс» (М.: Дрофа, 2006; 2-е издание - 2007 г., 3-е издание -2008 г.)
Проблема нарративной компетентности героя-рассказчика в романе Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»
«О чем говорили при появлении маканинского «Андеграунда»? - о типе героя, о проблеме андеграунда как особой категории- вообще, о преступлении и наказании, о подпольном сознании, о проблеме поколений, — словом, о все той «философии», которой и без того наполнен роман; о том, что в тексте выговаривается прямо и в лоб», - так сформулировал обсуждавшиеся в первых откликах на роман Маканина» вопросы Н.Александров1. Если судить только по заголовкам рецензий и статей, именно такое впечатление и могло бы сложиться: размышления о В.Маканине самого Н.Александрова отразились в статье «Новый экзистенциализм»2, опорными категориями в, отзывах о романе самых разных литературных критиков были «Герой», «Слово», «Свобода» .
Однако более подробный обзор работ о романе Маканина позволяет говорить о существенно более широком спектре проблем, ставших предметом дискуссий еще в конце 1990-х гг., — это и специфика авторской позиции, как раз скорее закамуфлированной, намеренно сведенной к «нулевой степени», а не выговоренной «в лоб», и мотивная структура романа, и функции героев-двойников (и вообще мотива двойничества) в композиции, и разветвленная система литературных аллюзий и реминисценций.
Само заглавие романа, будучи провокационным смешением знаковых для Лермонтова и Достоевского понятий («герой времени» — «подпольный человек»), указывает на сложную систему антитез и отождествлений, которыми будет пронизано все повествование В. Маканина. На наш взгляд, весьма точно антиномичные характеристики романного повествования в «Андеграунде...» определены А.Архангельским: «Здесь, как у Лермонтова, все заранее известно, и потому главное — следить не за событиями, а за психологией героев; здесь, как у Достоевского, нет ничего сюжетно предрешенного, читатель должен насторожиться и ждать всяческих событийных неожиданностей. Единственное, что внутренне объединяет повествовательные принципы, на которые в равной мере ориентирована новая проза Маканина, это «ich-erzahlung», рассказ от первого лица»1.
Уточним, однако, что это фикциональное «первое лицо» романа демонстративно наделено В. Маканиным отдельными автопортретными штрихами (и даже автобиографические детали разбросаны по тексту ) — и зыбкое «двойничество» реального автора и вымышленного героя («узнавание» возможно лишь промельками и лишь в определенных ракурсах) явно входит в намерения писателя, поскольку поддерживает семантическое «мерцание», пронизывающее всю историю Петровича.
Автобиографические аллюзии трактуются в литературной критике по-разному. Андрей Немзер предлагает всерьез с ними считаться: «Лишняя маска не мешает, но помогает распознать лицо. Для недогадливых по тексту рассыпаны опознавательные приметы: настойчиво поминаются седые усы и высокий рост, значимо введен «некруглый» возраст героя (Маканину в 1991 году было аккурат «полета четыре»), автобиографизм главы «Другой» виден невооруженным глазом, автореминисценций не меньше, чем отсылок к русской классике. Маканин говорит: «Петрович — это я!», но не как Флобер об Эмме Бовари, а как Лермонтов о Печорине. Я то есть не я. Я то есть все мы. Только потеряв имя, становишься текстом»2.
А. Архангельский настаивает на необходимости различения автора и героя: «Петрович — это... литературная проекция авторской личности. (А не социальная, не автобиографическая, не метафизическая.) Маканин, отказывающийся судить или возвеличивать рассказчика, не просто разыгрывает в его лице «подпольный» инвариант собственной биографии; не просто... просчитывает выгоды и невыгоды этого отвергнутого... хода жизни: какую цену пришлось бы заплатить?.. Нет; он как бы засылает героя-рассказчика в условное пространство русской словесности, где, как в литературном зеркале, отражается российская реальность 1990-х годов...»1
Если А.Немзер предлагает признать в Петровиче В.Маканина реального, то А.Архангельский - «виртуального» (автопортрет, написанный в вероятностной модальности); М.Ремизова призывает не искать сходства вовсе: «Или сам текст «Андеграунда», поданный как монолог Петровича, следует рассматривать как не маканинский, а петровичевый художественный труд? (Тогда, кстати, легко понять авторское «неприсутствие» в тексте)» .
Идея авторского «неприсутствия» (точнее - «отсутствия присутствия») детально разрабатывается Е.Ермолиным. Опорным в рассуждениях критика является следующий тезис: «Маканин... не дал ни одного повода заметить, опознать свое вмешательство в самодовлеющий мир романа. То, что происходит в романе, происходит как будто бы без автора. Он холодно вычерчивает фигуру собственного отсутствия. И это отсутствие присутствия весьма сильно влияет на наше восприятие происходящего. В конце концов становится самым вероятным предположение, что роман писался лишь для детального отражения непростого душевного обихода придуманного Маканиным редкого, маргинального героя, изобретенного (из ресурсов авторского воображения) человека»3.
Формы объективации авторского присутствия в художественном тексте
Не вдаваясь в подробности истории вопроса о способах «проникновения» автора в фиктивное художественное пространство, о приемах зашифровывания авторского присутствия и декодировки его читателем (или зрителем - в живописи), укажем только, что традиция восходит еще к античности. В частности, в 5 веке до н.э. - видимо, одним из первых в истории искусства, - Фидий, вырезая на щите Афины сражение греков с амазонками, ввел в рельефное изображение и собственный портрет: представил себя самого «в виде плешивого старика, поднявшего камень обеими руками»1. Эксперимент стоил Фидию свободы, зато позднее его опыт был «канонизирован» в легенде, утверждавшей невозможность изъять из щита изображение автора: без него разрушится вся скульптурная композиция.
Живопись Ренессанса (достаточно вспомнить «Поклонение волхвов» Боттичелли, картины старых фламандцев — Яна ван Эйка, Петруса Кристуса, Ганса Мемлинга) позволяет рассматривать «вставку» реальной фигуры автора в сюжет художественного полотна как явление едва ли не массовое. Впрочем, автопортрет художника обычно намеренно отодвинут на периферию, спрятан в «массовке» (фигура Сандро Боттичелли убрана в нижний угол полотна, в толпу гостей), предстает в отражении (в «Мадонне каноника ван дер Пале» Яна ван Эйка); буквальные следы присутствия автора в собственном произведении можно найти на «Портрете четы Арнольфини» - надпись «Ян ван Эйк здесь был» над отраженными в зеркале фигурами персонажей-молодоженов.
Схожие тенденции к «проникновению» автора в текстовую реальность легко обнаружить и в литературе. Зашифрованные в виде маркированных дат автографы («19 октября» рядом с подписью «издателя» в «Капитанской дочке» Пушкина), анаграммы из имени автора (хрестоматийные примеры из романов Набокова: Vivian Darkbloom - «Lolita», baron Klim Avidov - «Ada», Adam von Librikov — «Transparent Things»1), латинско-кириллические перекодировки авторского псевдонима (мистер Фрейби/ Freyby в «Коронации» Акунина ) — вот лишь малая часть того арсенала приемов, который используется для обозначения авторского присутствия в тексте.
Впрочем, авторское присутствие совсем необязательно может «шифроваться»; в произведениях последних десятилетий доминирует, скорее, обратная тенденция - к его намеренной экспликации с передачей герою-рассказчику имени и фамилии писателя (ограничимся кратким перечислением: «Москва - Петушки» Венедикта Ерофеева, «Это я - Эдичка» и «Подросток Савенко» Эдуарда Лимонова, «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину» Евгения Попова, «Ура!» Сергея Шаргунова, «Чужой» и «Вперед и вверх на севших батарейках» Романа Сенчина, «Комар живет, пока поет» Валерия Попова, «Взлетка» и «Моздок-7» Аркадия Бабченко, рассказы Захара Прилепина). В новейшей зарубежной литературе примером могут послужить многочисленные французские романы-автофикции, а также романы Харуки Мураками (в «Dance, dance, dance...» в нескольких эпизодах мелькает писатель Хираку Макимура) и Орхана Памука «Снег», где историю поэта Ка рассказывает персонаж Орхан Памук.
Опыт Орхана Памука интересен тем, что у него литературный текст первичен по отношению к реальности (точно такой же принцип «следования» сюжета за словом героя-писателя использован и в его «Черной книге»). Эмпирическая и вербальная реальность меняются местами. Писатель Памук движется по маршрутам, пройденным вначале его «виртуальным» героем; герой же подчиняется тому распорядку действий, о котором сообщено во вчерашней газете. Ка, не помышлявший ни о каких публичных чтениях, из вечерней газеты узнает о том, что он выступит в Национальном театре и прочитает свое новое стихотворение - «Снег». «Вы... чтобы не огорчать нас, сначала напишете стихотворение «Снег», а затем пойдете и прочтете его»1, - спокойно и уверенно объясняет поэту Ка его планы на вечер редактор местной газеты с характерным названием «Граница». В кафкианской атмосфере «Снега» границы условности демонстративно разрушаются. Внутритекстовая «реконструкция» автора ведет к «смерти» эмпирической реальности — она всего лишь рельефно прорисованная тень, отбрасываемая литературным произведением.
Сходные литературные следствия имело введение в текст «тезки»/ «однофамильца» автора и в отечественной прозе. Для Е. Попова был важен эффект постмодернистской «необязательности» текста: «я» - «не-я», или я Ф я, а следовательно, все сказанное находится вне категорий истинности/ложности; реальность в той же мере зависит от литературы, в какой литература — от реальности. В поэме Вен. Ерофеева рассказчик-балагур Веничка превращается в финале в подлинно трагическую фигуру, открывая лирико-философскую перспективу прочтения «похмельного бреда». Как проницательно замечает О.А. Маркелова, «только что прожитая жизнь героя на глазах превращается в литературу, и литература начинает диктовать находящемуся в ее пространстве рассказчику свои условия»1. Более того, «литература» открывает те смысловые перспективы, которые недоступны эмпирическому опыту Венички-героя. Трагедийная подлинность метафизических прозрений Венички — результат использования сугубо литературных, предельно конвенциональных приемов, организующих его монолог. Иными словами, эффект реальности в «Москве - Петушках» создается артистической игрой вымысла.
Радикально оппозиционная постмодернизму литература поколения next (один из самых активных представителей поколения next Сергей Шаргунов в 2001 году был удостоен литературной премии «Дебют») провозглашает «новый реализм» и утверждает в качестве основополагающего постулата художественности «эстетику прямого зеркала». Суть ее в том, чтобы «продублировать реальность, клонировав ее в искусство (мир идеального). Тут и раскрывается особый смысл реалистического метода. Реалист застает и «вяжет» время на месте преступления»2. В полемике с постмодернистскими аксиомами («мир есть текст», например) «новые реалисты» настаивают на том, что мир должен войти в текст, не будучи «деформированным» словом или литературным приемом.
Narratio contra Tanatos: «воскрешение словом» как ключевая интенция «я»-повествователя
«Пусть говорящие фиктивны, но говоримое реально ... Какая разница, с кем это было? ... Мы есть то, что мы говорим» [ВВ; 25]. Как правило, все напрашивающиеся в абсолютные истины формулы М. Шишкин дезавуирует тем, что озвучивают их в романах «ненадежные» рассказчики (в данном случае это анонимный беженец, готовый сказать что угодно, лишь бы получить право остаться в Швейцарии). Однако на сей раз утверждение слитности, «сплавленности» слова и человека, рассказа о жизни и самой жизни, многократно варьируясь в устах самых разных нарраторов, становится смысловым ядром романа, и повествование призвано материализовать, текстуально осуществить созидание мира словом. «Мы станем тем, что будет занесено в протокол. Словами. Поймите, Божья мысль о реке есть сама река» [ВВ; 25]; с минимальными вариациями тема многократно проводится и в историях самых разных персонажей романа: «От вас останется только то, что я сейчас запишу» [ВВ; 265]; «Так ты исчезнешь, а вот если я тебя запишу, ты останешься» [ВВ; 384]1.
Рассказанная жизнь и есть жизнь настоящая; нерассказанной - просто не было. Рассказывающий укореняет себя словом в бытии — вне зависимости от того, есть ли у него слушатели. «Если не записать... то все исчезнет и ничего не останется, будто ничего и не было» [ВВ; 113]. Парадоксальным образом существующий в физическом мире читатель оказывается менее реален, чем те книжные персонажи, о которых написано в романе: если автор в нем — Бог, то его мысль о человеке есть уже человек; судьба же читателя — вне авторской воли.
Два героя разных сюжетных линий романа «Венерин волос» - толмач и Леонид Михайлович (актер, о котором в своем дневнике пишет Белла) -читают Ксенофонта, и размышления их эхом откликаются одно в другом: Ксенофонт написал о древних греках, штурмующих вражеские крепости, — и вот они «уже третье тысячелетие каждый раз, увидев то море, к которому он их вел, бросаются обнимать друг друга и кричать: Таласса! Таласса! Потому что он их привел к совершенно особому морю. Таласса - это море бессмертия» [ВВ; 279]. Преодоление смерти, воскрешение словом - главная лейт-тема М.Шишкина, общая для «Взятия Измаила» и «Венерина волоса».
Смерть преодолевается не бесконечным растягиванием, удлинением одной отдельной жизни, но разыгрыванием, воспроизведением жизненного сценария другими героями. И даже если частью этого сценария является смерть (например, смерть маленького сына Николая Александровича и Олежки - сына героя-повествователя Михаила Шишкина во «Взятии Измаила»), он все равно возвращает героям жизнь - на то время, что отведено им романом. «Вопросительный или восклицательный знак имеют силу перевернуть и фразу, и судьбу. Прошлое - это то, что уже известно, но изменится, если дожить до последней страницы» [ВВ; 388]. Пока на «своих» страницах герой проходит через отведенные ему события - смерти нет.
Каждая такая страница — моментальный снимок его истории, удостоверяющий факт его бытия. В нем значима каждая мелочь, даже «пыль, прах, тлен» — все те микроскопические «частицы бытия», до которых распадается каждая жизнь и из которых она собирается вновь, воскрешаемая словом. Вот лишь один пример: «Мотылек попался, обжег крылья о раскаленную лампочку, а за окном пошел ночной дождь, но с неба падают не капли, а буквы - к, а, п, л, и - слышишь, барабанят по подоконнику, и запах сгоревшего мотылька - все это буквы. И мы все - единое целое» [ВВ; 374-375].
Мир, выстраиваемый М.Шишкиным в романах, увиден словно сквозь фасеточный объектив: «единое целое» существует как множество либо проходящих по касательной друг к другу, либо частично отраженных один в другом персонажей и сюжетов. Так, в романе «Взятие Измаила» помимо параллелей в судьбах основных героев появляются дубли историй и эпизодических, «проходных» персонажей. В той части сюжета, где действующими лицами выступают Юрьев и его мама, проводник поезда рассказывает про телефонистку Надю, тяжело заболевшую и сумевшую выздороветь, вопреки прогнозам врачей, только благодаря беременности и рождению ребенка [ВИ; 152]. Та же история проводника и Нади-телефонистки звучит второй раз - но уже для Михаила Шишкина и его друзей, отправляющихся отдыхать на юг [ВИ; 384]. Нигде не пересекающиеся сюжетные линии незнакомых друг с другом персонажей вдруг обретают в романном пространстве точку соприкосновения (фактически читателю предлагается принять на веру, что курортники попали в поезд, в котором по-прежнему работает все тот же проводник, пустивший когда-то в вагон без билетов Юрьева и его маму) - и, повторяясь, история
Нади дарует ей жизнь — вопреки нелепой смерти под колесами автомобиля через несколько недель после рождения ребенка.
Несколько раз повторяется во «Взятии Измаила» и описание маятника Фуко. Одно упоминание связано с историей Михаила Шишкина и рыжеволосой девушки - и местом действия является Ленинград («Мы ездили с ней на студенческие февральские каникулы в Ленинград» [ВИ; 196]). Другое - с сюжетной линией адвоката Александра Васильевича и его помощницы Ларисы Сергеевны; место действия - Петербург конца XIX -начала XX века: «Тут маятник сбил кеглю, та звонко упала и запрыгала мне под ноги, выстукивая полированной головкой мрамор пола и доказывая что-то важное, без чего жизнь невозможна» [ВИ; 326]. Заметим, что кегля и потянувшаяся к ней рука Ларисы Сергеевны1 появляются в кадре раньше, чем сама героиня вообще будет представлена читателю и будет «утверждена на роль» в сюжете как действующее лицо: «Обождите, афиняне! Ведь для того, чтобы добраться до этой кегли-неваляшки, нужно еще сначала объяснить что-то очень важное. Что такое может быть важным, дурачок? Прямо такое важное, без чего жизнь невозможна?» [ВИ; 249]. Очевидно, что в одну и ту же сюжетную ситуацию «подставляются» разные фигуры - и тем самым она получает возможность не исчезнуть из времени (и даже перешагнуть через столетия) и удержать память о всех, чьими жизнями она была реализована.
Фактуальный и фикциональный аспекты автобиографического повествования в литературе конца XX - начала XXI в
В современной литературной ситуации авторские указания на отнесенность текста к non-fiction отнюдь не всегда следует воспринимать буквально - тем более что внятно проведенные текстуальные границы между non-fiction и fiction отсутствуют. Сравнительное исследование фактуального и фикционального типов повествования привело Ж.Женетта к следующему заключению: «Фикциональное гетеродиегетическое повествование в значительной мере представляет собой мимесис фактуальных форм, таких, как историография, хроника, репортаж, их симуляцию, в рамках которой приметы фикциональности — это всего лишь факультативные вольности ... И наоборот... приемы "фикционализации"... перекочевали... в некоторые формы фактуального повествования, такие, как репортаж или журналистское расследование... в иные, производные жанры, такие, как "Non-fiction Novel"»1. Иными словами, эффект «документальности» повествования может в большей степени достигаться сугубо «беллетристическими» приемами, нежели прямым репродуцированием реальности в ее фактографических подробностях.
Прозрачность или, по крайней мере, истончение границ «литературности/ нелитературности» становятся в современной литературной практике почти привычными. Присуждение Андрею Сергееву Букеровской премии за «Альбом для марок» перевело «коллекцию людей, вещей, слов и отношений»1 в категорию романов («не-романы» жюри не рассматривает) - хотя по своей нарративной структуре книга вполне сопоставима с «документальным» текстом «Белое на черном» Рубена Гальего (при переиздании тоже оказавшемся не мемуарами, а романом в рассказах). Сергей Гандлевский, принимая участие в «круглом столе», организованном журналом «Вопросы литературы» и посвященном современной мемуаристике, подчеркивает фикциональный статус «Трепанации черепа», хотя редакцией приглашен был именно как автор книги мемуаров. «Я не считаю свою повесть мемуарами в точном смысле этого слова — и вот почему. Мемуарист судит о событиях прошлого, само собою разумеется, со своей колокольни, но все-таки его пером водит желание рассказать о прошедшем, «как оно было на самом деле» ... Мои задачи были прямо противоположными. Всякий раз, когда передо мною был выбор: рассказать «легендарную» версию какой-либо истории или документальную, я руководствовался не правдивостью, а уместностью данной версии в замысле повествования — и не задумываясь предпочитал «легендарный» извод событий, если от этого, по моему мнению, эстетически выигрывало все произведение» . Граница между литературой факта и литературой вымысла, таким образом, оказывается проницаемой настолько, что само ее существование теперь необходимо верифицировать .
Автобиографическую прозу 1990-х — 2000-х гг. отличает разнообразие жанровых дефиниций-«неологизмов», пришедших на смену традиционным категориям «автобиографической повести» или «автобиографического романа». Наряду с уже упомянутой «коллекцией людей, вещей, слов и отношений» Андрея Сергеева можно назвать роман-идиллию Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», «ретроактивный дневник» Александра Бараша «Счастливое детство»; свою повесть «Трепанация черепа» Сергей Гандлевский определяет как «историю болезни», а А.Архангельский свою автобиографическую книгу «1962» - как «послание». Ж.Женетт счел бы подобные жанровые обозначения «признаками вымысла» — иными словами, паратекстуальными маркерами фикциональности, посредством которых «текст сигнализирует о своей вымышленное»1 (обоюдная мимикрия нарративных режимов fiction и non-fiction заставляет искать параметры их разграничения за пределами текста).
По верному замечанию М.Маликовой, применительно к русской традиции, где преобладают не аутентичные (документальные) автобиографии, а фикциональные (и едва ли не чаще встречаются автобиографические поэмы - демонстративно конвенциональные «жизнеописания»), «"сепаратистское", ограничительное определение автобиографии оказывается особенно непродуктивным. Можно говорить только о градуальных различиях, исторических тенденциях»2. Среди тенденций, характеризующих русскую автобиографическую прозу рубежа XX-XXI вв., мы выделяем следующие: — нетождественность автора, повествователя и персонажа, необязательность соответствия реальным событиям (оценка автобиографического текста по критерию истинности/ ложности факультативна и не является больше жанрообразующим признаком; актуальная достоверность рассказываемого становится величиной переменной); — фикционализацию воспоминания как «эмпирического» источника автобиографического письма (замещение документального факта литературным и подрыв реальной модальности повествования); — преобладание внефабульных связей между событиями при нелинейной их последовательности. Остановимся на каждом из перечисленных пунктов более подробно. Для современной нарратологии функциональная нетождественность «я» повествующего и «я» повествуемого (даже в том случае, когда они выступают «от имени» и под «паспортным» именем автора) - аксиома. Так, опираясь на исследования второй половины XX века - и прежде всего работы В.Кайзера и Ф. Штанцеля, В.Шмид в «Нарратологии» резюмирует: «Повествующее «я» относится к повествуемому как... нарратор к актору (персонажу)» ; Ж.Женетт, иллюстрируя рассуждение о нетождественности автора и персонажа, приводит следующий пример: «Борхес-автор, гражданин Аргентины, почетный лауреат Нобелевской премии, подписывающий своим именем «Алеф», функционально не тождественен Борхесу-рассказчику и герою «Алефа», пускай даже в их биографиях много общего» . Иными словами, «сведение» Борхеса-автора, Борхеса-повествователя и Борхеса-персонажа в одну фигуру противоречит нарратологическому разграничению внетекстовых и внутритекстовых инстанций; признание же лишь «однофамильцами» — приводит к необходимости игнорировать те достоверные «области пересечения», которые образованы, например, общими «анкетными» фактами из биографии Борхеса-автора и Борхеса-повествователя.