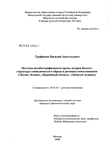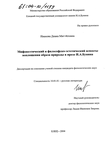Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Антропонимические реминисценции и их семантика в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 21
1.1 «Чужие» «положительные» образы в интерпретации сатирика 21
1.2 Усиление сатирического звучания реминисценций-антропонимов 47
1.3 Новая эстетическая функция «чужих» персонажей 68
ГЛАВА II. Цитатные заимствования и их семантика в щедринском контексте 77
2.1 Библейские «отражения» 77
2.2 Обращение Салтыкова-Щедрина к русской поэзии 86
2.3 Проза писателей XIX века в переосмыслении Щедрина 106
Заключение 119
Список использованной литературы 125
- «Чужие» «положительные» образы в интерпретации сатирика
- Усиление сатирического звучания реминисценций-антропонимов
- Библейские «отражения»
- Обращение Салтыкова-Щедрина к русской поэзии
Введение к работе
Проза М.Е. Салтыкова-Щедрина дает неисчерпаемый материал для разработки теории сатиры. Одним из перспективных направлений в изучении поэтики этого писателя являются художественные заимствования, значимость которых можно установить лишь путем аналитического рассмотрения их эстетической функциональности. Реминисценции в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина разнообразны: от приблизительных цитации и полуочерченных образов-намеков до преднамеренно введённых в текст «чужих» персонажей, действующих на тех же правах, что и собственно щедринские. В произведениях Салтыкова-Щедрина находит прямое отражение целая литературная эпоха: период конца XVIII века - II половины XIX века. Внимание писателя приковано к контексту русской литературы не случайно: в связи с поисками глубинного нравственно-эстетического идеала и общечеловеческого ценностного смысла.
Острый интерес к теории и практике литературного заимствования, цитаты, реминисценции вызвали новые тенденции в литературе XX века, что побуждает к краткому обозрению всех этапов литературного процесса в их отношении к «чужому» слову.
Постмодернизм настаивает на том, что реминисценция - его открытие и достижение. Новый метод «присваивает» прием как один из основных стилеоб-разующих и отличительных признаков. Однако если идентифицировать художественные произведения по наличию или отсутствию в них реминисценций, то в мировой литературе, пожалуй, не найдется таких, которые не опирались бы (хотя бы в скрытом виде) на уже имеющийся литературный опыт. Сознательное или подсознательное включение «заимствованных» элементов обусловлено единым культурно-историческим опытом, существованием и взаимодействием разных текстов в общелитературном пространстве. Это своеобразное переос-
мысление, внутреннее освоение («переработка») и образуют то, что можно назвать преемственностью в литературе.
Литературное «отражение» — прием очень древний, имеющий архетипи-ческую основу, поскольку он связан с передачей человеческого опыта (эта функция имеет глубокие корни, уходя в основание эволюции: не только человеку свойственно передавать накопленный опыт последующим поколениям). Спорное утверждение о приоритете постмодернизма в открытии реминисцент-ных способов интертекстуальности акцентирует новый аспект этого явления: предположение, что литература (точнее, художественное слово) имеет направленность не на действительность, а на саму литературу. «...Уничтожение границ понятия текста и самого текста вместе с отрывом знака от самого референта, осуществленным Дерридой, свело всю коммуникацию до свободной игры означающих и породило картину "универсума текстов", в котором отдельные безличные тексты до бесконечности ссылаются друг на друга и на все сразу, поскольку они все вместе являются лишь частью всеобщего текста, который в свою очередь совпадает со всегда "текстуализированными" действительностью и историей» [59, с.225-226].
В подтверждение этому можно вспомнить статью Ю.Н. Тынянова «Литературный факт», в которой он писал: «В эпоху разложения какого-нибудь жанра - он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин выплывает в центр новое явление <...> Вся суть новых приемов может быть в новом использовании старых приемов в их новом конструктивном значении...» [163, с.124-125]. Современные исследователи творчества Салтыкова-Щедрина сумели развить эту идею: «Литературные приемы не рождаются и не умирают вместе с писателями, использовавшими их в своем творчестве. Они подготавливаются всем ходом развития литературы и, обогащаясь, переходят к художникам слова других поколений» [140, с. 37].
В современном литературоведении традиция изучения фактов взаимодействия «чужих» образов со «своими» была основательно подкреплена, получив
дальнейшее развитие в работах М.М. Бахтина о диалогической природе механизма литературного творчества. Предложивший понимать каждое отдельное высказывание как «звено в цепи речевого общения» [13, с. 214], М.М. Бахтин говорит «не просто о том, что каждое новое произведение возникает в поле воздействия всех существовавших до него и параллельно с ним текстов, но о том, что рождается оно в результате отклика на эти тексты» [151, с. 6].
В настоящее время концепция литературоведения опирается на ключевой смысл теории структурализма о преемственности в литературном процессе, корректируя ее тем, что литература представляет собой непрерывный процесс, в котором отдельные произведения и художественные образы имеют смысловую ценность лишь во взаимосвязи с предшествующим литературным и культурным опытом в целом, при том что весь этот опыт объявляется алогичным и лишенным какого-то ни было смысла вообще. Взаимосвязь и преемственность обеспечены единым культурно-историческим полем, получившим название интертекстуальности и цитатного мышления: «Каждый текст является интертекстом. Другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях и в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый новый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [10, с. 90]. Литературу постмодернизма часто называют «цитатной литературой», поскольку писательское мышление здесь тоже «цитатное».
Постмодернистская концепция утверждает, что «изолированных» произведений не существует, так как человек - социальное порождение, и, как бы ни была ярка его индивидуальность, основой творчества всегда будет уже созданное, имеющийся гуманистический опыт. Однако это открытие для XX века диалектически вполне закономерное.
К примеру, эллинистическая литература почти не знает не мифологических сюжетов. Большинство реминисценций восходят как к устным мифологическим сказаниям, так и к письменным источникам, появлявшимся примерно с
V века до н.р. Традиционализм античной литературы (стремление античных авторов прикрепить себя к какой-либо древней великой традиции: например, поэтической форме гомеровского гекзаметра) сопрягается с современными представлениями об интертекстуальности, когда текст - причина порождения другого текста, а не действительность.
Реминисценциями изобилуют произведения Средневековья, находящие неистощимый материал для заимствований в Библии. Особенно примечательны здесь апокрифы, в которых библейские легенды пересказаны в новом, зачастую ироническом, плане.
Литературные законы и сюжеты Древней Греции и Древнего Рима, в свою очередь, были взяты за основу классицизмом и в целом эпохой Возрождения. Эпоха Возрождения активно использует реминисценцию в различных видах цитирования богословских трудов (с целью выявить их несоответствие поведению церковнослужащих, контраст со смыслонаполнением полноценной жизни) и обращается к наследию античности как к примеру для подражания.
Особенно богат реминисценциями период в литературе Западной Европы, начиная с XVII века, когда светская литература сложилась, обрела основу, и стал возможен полилог мнений на фоне единого художественного поля. Один из примеров: Вольтер в романе «Простодушный» иронически переосмысляет один из религиозно-философских афоризмов: «все к лучшему в этом лучших из миров», доказывая его нелепость на примере злоключений своих персонажей.
В России светская, нерелигиозная литература складывается с XVIII века. Первоначально почти вся она была переводной с французскоого. Полоцкий, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков и другие писатели так или иначе обращаются к иной, по их мнению, более развитой литературной традиции. Ломоносов переводит античных поэтов (Анакреонт, Катулл, Гораций).
Классицизм в своем следовании законам порядка, четкости, безусловной однозначности и определенности использует заимствования в высоких жанрах как фон для демонстрации всех этих законов. Здесь нет места творческому раз-
маху и полету фантазии, потому что слишком жесткие правила построения произведения изначально диктуют (задают) композицию, идею, характеры и даже финал. Определенный набор сюжетов, взятых из античности, - готовый материал, который нуждается не в вымысле, а только в оформлении по данным классицистическим законам. Произведения классицизма ориентированы на сцену и служат не развлечению зрителя, а его воспитанию. Нужный эффект достигается не новизной содержания, а утверждением идеи прерогативы законов разума на основе уже известного сюжета, который малозначим сам по себе без этой идеи. Сюжетная реминисценция является в классицизме средством, фоном, материалом для оформления и нагрузки его определенным, «правильным» смыслом. Сама же она безлика и никакого нового смысла не порождает. Таковы, например, «античные» трагедии Расина. Однако о механическом реми-нисцентном перенесении здесь тоже говорить нельзя. Герои античности в классицизме - это «переодетые» герои той эпохи, в которую произведение создавалось, потому что автор проецирует на них культуру той страны и того времени, в котором живет. Проблемы, решаемые в художественном пространстве, современны писателю. Здесь уместен термин Д.С. Лихачева, употреблённый по отношению к древнерусской переводной литературе, — «литературная трансплантация»: «Не только отдельные произведения, но целые культурные пласты пересаживались на русскую почву и здесь начинали новый цикл развития в условиях новой исторической действительности» [81, с. 22].
Русский классицизм по примеру западноевропейского столь же широко использовал сюжетную реминисценцию. На основе античных произведений создаются различные «Телемахиды», «Россиады» и пр. Но заимствуется не только античная традиция: литература Европы также, а может быть, и в первую очередь, была образцом для подражания. Здесь на первый план выступает переводная литература. Смысл реминисценции трансформируется здесь независимо от воли автора по объективным причинам. Читатель не сможет увидеть в переводе несколько смыслов и сопоставить их, поскольку в силу неосведомленно-
сти не учитывает особенности другой культуры, явившейся причиной появления текста. Да и не в том цель Тредиаковского, чтобы обнажить культурные наслоения и их многозначность. Произведение - проводник идеи автора, которая проецируется на чужой текст как на основу для своего.
Таким образом, реминисценция в классицизме - вспомогательное средство, не несущее никакой дополнительной смысловой нагрузки, нейтральное по отношению к цитирующему автору и читателю.
В XIX веке, пожалуй, не найдется писателей, не использовавших в своих произведениях накопленный литературой опыт. Реализм использует цитату преимущественно как полемическое орудие. В произведениях писателей XIX века (большей частью II половины) реминисцентные образы выступают чаще в пародическом свете. Реалистическая сатира направлена на критику действительности, разоблачение её «тёмных» сторон, связана с осмеянием ложных, на взгляд писателя, социальных идей и псевдоценностей. Однако реминисценция вводится не только с полемическими целями. Кроме пародии, литературное заимствование используется и для доказательства присоединения к чьей-либо концепции, и в качестве удачной характеристики, и как демонстрация литературного опыта. Литература реализма сложна, рефлексивна и требует большой работы мысли в усвоении многозначности слова и образа. Каждая деталь наполняется значением, и не одним. Поэтому реминисценция в литературе XIX века не просто указывает на то или иное произведение: преломленная через призму авторского мировоззрения, она имеет глубокий оценочный смысл. В насмешке, иронии, сатире реалистических произведений воплощался серьезный взгляд на действительность (в противоположность, например, легкости игрового начала постмодернизма).
К XX веку литературное и культурное наследие уже настолько велико, что реминисценция обретает здесь особые функции, превращаясь из идеологической необходимости в самоцель. Если раньше ее назначение заключалось в порождении нового смысла на основе имеющегося или в реализации опреде-
ленных художественных задач, то теперь это необязательно. Здесь важно, чтобы цитирование присутствовало. Ценно не само произведение, а его связь с другими, к которым от него протянуты отсылочные нити в виде реминисценций и аллюзий.
Несмотря на то, что литературой накоплен немалый по объёму материал, доказывающий немаловажное значение «чужого» слова в творчестве каждого отдельного писателя, в этой области литературоведения до сих пор не выработана устойчивая терминология.
Всевозможные виды заимствований нуждаются в дифференцированном подходе. В связи с этим необходимо подробно рассмотреть сущность понятия «реминисценция», имеющее самое разное конкретное смысловое наполнение. Сам термин, этимологически связанный с позднелатинским reminiscentia (воспоминание), в современном литературном тезаурусе понимается как «содержащаяся в произведении неявная, косвенная отсылка к другому тексту, напоминание о другом художественном произведении, факте культурной жизни» [80]. Реминисценция - это разновидность цитаты - «дословного воспроизведения отрывка из какого-либо текста...» [69, т. 8, 402 стлб.] Принадлежащая в основном научной (преимущественно гуманитарной) и официально-деловой речи, цитата в художественной речи и публицистике становится стилистическим приемом употребления готового словесного образования, вошедшим в общелитературный оборот.
Таким образом, реминисценциями называют содержащиеся в произведении неявные, косвенные отсылки к другому тексту, напоминания о другом художественном произведении, факте культурной жизни. Реминисценция может быть эксплицитной, рассчитанной на узнавание, или имплицитной, скрытой. Во втором случае особенно важен момент верификации (проверки достоверности), тем более что, в отличие от цитаты, реминисценция может быть не осознанной самим автором.^Реминисценция - это способ создать определенный контекст для восприятия произведения, подключить его к традиции и одновременно -
средство продемонстрировать отличие, новизну создаваемого произведения, вступить в диалог с традицией. Реминисценция может отсылать не к «чужому слову», но к другим произведениям того же автора. В этом случае имеет место автореминисценция» [80].
Реминисценции близко по значению понятие литературного заимствования: «Заимствование литературное - одна из форм литературных связей, обращение к уже существующим в литературе художественным идеям, сюжетам, образам и т.д., а также фольклорным и мифологическим источникам. Заимствование - функционально значимый элемент произведения; нередко содержит элемент подражания, пародии, стилизации и реминисценции» [69, т. 9 (доп.), 307 стлб.].
В статье В.А. Западова «Функции цитат в художественной системе «Горе от ума» (1977) к реминисценции отнесено только непроизвольное цитирование, «т.е. более или менее случайное воспроизведение мотивов и эпизодов, отложившихся при чтении литературных произведений где-то в отдаленных глубинах сознания» [56, с. 84]. Здесь понятие сужено до содержательной стороны заимствования.
На наш взгляд, нельзя не признать понятия «реминисценции» и «литературного заимствования» синонимичными, тождественными. «Краткая литературная энциклопедия» определяет реминисценцию, используя близкое по значению «заимствование»: «реминисценция рассматривается автором как бессознательное заимствование чужих образов [здесь и далее курсив мой - КН.]... Интересен случай реминисценции как сознательного... приема, рассчитанного на память читателя. Заимствованные элементы, намекающие на творчество другого автора, вызывают у читателя сложные ассоциации» [69]. Тот же источник, объясняя понятие «литературное заимствование», утверждает, что «заимствование нередко содержит элементы подражания, пародии, стилизации и реминисценции [69]».
Некоторые исследователи, среди которых можно выделить З.Г. Минц, относят к реминисценции то, что в иных источниках принято считать заимствованием — «собственные имена героев, перенесенные из чужого текста» [101, с. 376]. Поэтому нам представляется правомерным использование терминов «реминисценция» и «заимствование» как тождественных.
Выявление реминисценции требует от исследователя определенного самоограничения, иначе любой элемент слова можно интерпретировать как отсылку к «чужому слову».
Важным моментом является разграничение понятий реминисценции и аллюзии. Аллюзия - «в художественной литературе, ораторской и разговорной речи одна из стилистических фигур: намек на историческое событие или литературные произведения, которые предполагаются общеизвестными» [69, т. 1, 161 стлб.]
Таким образом, аллюзия отсылает к внешнему факту существования явлений литературы, искусства, общественной жизни, истории, напоминает об их существовании, тогда как реминисценция обращена к внутреннему миру литературного произведения: его композиции, структуре, идеям, содержанию, .отдельным мыслям. Изучение реминисценции вплотную связано с исследованием интертекстуальных связей.
Другими понятиями, необходимыми при анализе реминисцентных образов, являются следующие: интекст («чужие» слово, образ), материнский текст, пратекст, текст(произведение)-первоисточник.
Таким образом, если принять за основу представление о реминисценции как о всяком узнаваемом это «чужом» слове в литературном произведении, представленном эксплицитно или имплицитно, то по своему происхождению реминисценция окажется связана с культурной преемственностью, имеющей архетипическую основу, поскольку всё новое всегда опирается на то, что уже создано. Как известно, реминисценции присутствуют в литературе уже на начальной стадии её развития. Ввод реминисценции в текст означает новую ста-
дию осознания текста-первоисточника. Это осознание носит диалогический характер, поскольку апеллирует не только к тексту, но и к автору конципированному как творцу и стороннику какой-либо идеи. Поскольку реминисценция -сложный сплав концепций мировосприятия, который нуждается в дополнительном осмыслении, научное исследование этого приёма в высшей степени актуально для сущностного постижения художественных идей того или другого творца, в особенности же тех художников, у которых реминисцентные образы бытуют как стилеобразующие и эстетически значимые.
В этом теоретическом контексте понятен сегодняшний интерес к «чужому» образу, поэтому столь актуально наше обращение к специфическому ракурсу поэтики Салтыкова-Щедрина, творчество которого чрезвычайно насыщено реминисценциями всякого рода. Сам писатель остро осознавал значимость заимствований в общем процессе развития личности: «В сложном процессе всестороннего развития человека заключается вся его жизнь, и чем более приобретает он знаний, тем шире и яснее становится его умственный кругозор. Что в этом процессе своё и что чужое? С одной стороны, всё чужое, потому что, не будь этого «чужого», не было бы и «своего», с другой стороны, всё своё, потому что, не будь этого «своего», то не существовало бы (для данного человека) и «чужого» [145, с. 461].
Продлив жизнь «чужим» образам, Салтыков-Щедрин стал «соавтором» создателей первоисточников. Попытки установить меру и принципы такого соавторства в щедриноведении предпринимались неоднократно. История изучения реминисценций у Салтыкова-Щедрина представлена основными положениями в работах В.А. Десницкого, А.Г. Дементьева, А.С. Бушмина, А.П. Ауэра, М.Б. Степановой, В.В. Рыжова, Е.И. Покусаева, П.С. Рейфмана, Л.В. Чернец. Специальное научно-монографическое исследование Е.Н. Строгановой «"Современная идиллия" М.Е. Салтыкова-Щедрина в литературном пространстве» посвящено изучению аспекта заимствований на примере одного из произведений сатирика.
В одной из своих статей («Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина») В.А. Дес-ницкий, сравнивая образы двух произведений - поэмы «Мёртвые души» Н.В. Гоголя и сатирического романа «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина, соотносит творческие концепции двух писателей и выявляет у Гоголя и у Салтыкова-Щедрина аналогичные образы «мертвых душ». По мнению критика, различие - лишь в оценках изображаемого мертвенного мира: если Гоголь надеется на духовное воскресение своих героев-«небокоптителей», то Салтыков-Щедрин считает благом его исчезновение: позднее прозрение и раскаяние Иудушки Головлёва ничего не может изменить. По словам В.А. Десницкого, «у Салтыкова-Щедрина нет веры в эту "необгонимую тройку" феодальной поместной Руси... Превосходно понимая, что «праздное барство» неумолимым "историческим процессом обречено на уничтожение, он не верит в его творческие силы даже в условиях... которые были созданы крестьянской реформой» [44, с. 273].
Таким образом, В.А. Десницкий, отмечая использование Салтыковым-Щедриным предшествующего литературного опыта и его критическое переосмысление, не берет во внимание факты эстетического переосмысления «чужих» образов.
А.С. Бушмин, говоря об «истолковании персонажей классической литературы» [23; 24] в творчестве Салтыкова-Щедрина, трактует заимствования "как «оживление литературных типов». Констатируя такую особенность щедринской сатиры, как наличие во многих циклах и отдельных произведениях писателя известных литературных героев в качестве действующих лиц, исследователь тоже не преследует цели специального изучения эстетической специфики подобных фактов. Однако А.С. Бушмин отмечает, что данная тема нуждается в особом литературоведческом осмыслении. Он пишет о том, что уже ранние произведения Щедрина содержат обращение к предшествующему литературному опыту. Так, в «Губернских очерках» (1857) речь идет о «выцветших провинциальных Печориных», в «Сатирах в прозе» (1862) упоминаются Сквозник-
Дмухановский, Хлестаков, Ноздрев, Чертопханов, Пеночкин. В «Глуповском
распутстве» (1862) представлена история юности Митрофана Простакова. При
водятся примеры из более поздних произведений Салтыкова-Щедрина: «При
знаки времени» (1863/68), «Дневник провинциала в Петербурге» (1872), «Пом
падуры и помпадурши» (1873), «Господа Молчалины» (1878) и многих других.
Вывод исследователя сводится к тому, что до 70-х гг. (до «Дневника провин
циала в Петербурге») «чужие» персонажи еще не выступают в качестве дейст
вующих лиц и что «по частоте появления первое место принадлежит персона
жам Гоголя и Тургенева» [23, с. 81]. '
А.С. Бушмин отмечает также, что литературные типы для Щедрина — это «типы непосредственной жизни, имеющие значение жизненной достоверности», демонстрирующие «идейно-художественную преемственность» [25, с. 197]. А.С. Бушмин классифицирует заимствования по степени их «трансформации»: 1) перенесение «в полной солидарности с предшественниками» - Щедрин принимает «чужие» образы как готовое достояние и оперирует ими без особых пояснений; 2) осовременивание, развитие образов в новых исторических условиях, хотя и в соответствии с их первоначальными потенциями (персонажи Фонвизина и Грибоедова); 3) полемическая интерпретация, переосмысление в условиях нового социального контекста (образы Тургенева, Гончарова) [23, с. 83].
Одним из способов сатирического заимствования у Щедрина является, по А.С. Бушмину, «скрещивание» литературных героев с появлением новой сатирической генерации. Кроме того, почти во всех случаях с героями происходит метаморфоза: из персонажей семейно-психологического, бытового плана они в разряд политических деятелей. Такой прием служит дополнительным средством обобщения явлений социальной жизни и высвечивает факты современности с неожиданной стороны.
Классификацию А.С. Бушмина нельзя признать в полной мере корректной, поскольку исследователь объединяет такие разные образы, как, например,
Скотинин и Молчалин. Если первый у Щедрина в новом художественном контексте остаётся в рамках гоголевской традиции, то щедринская интерпретация образа Молчалина эту традицию разрушает. Трактовка заимствований у А.С. Бушмина, посвященная содержательной их стороне, но не является исчерпывающей, так как опирается на ограниченную часть заимствованных Щедриным образов и скупо характеризует происшедшие изменения персонажей, помещённых в новый контекст.
В.В. Рыжов вслед за А.С. Бушминым пишет о том, что результатом литературного заимствования в творчестве Салтыкова-Щедрина было «обновление», или «оживление», «вторая жизнь» персонажа: «Обновление литературного героя как способ сатирической типизации было не просто одним из любимых приемов Щедрина, но очень органичным для его поэтики» [140, с.37]. Сатирический эффект здесь возникал из-за несоответствия формы обновляемого образа и иного содержания, воплощённого Салтыковым-Щедриным. В.В. Рыжов следующим образом классифицирует щедринские способы литературного обновления «чужих персонажей»:
-расширение области типического, в процессе которого корректируется биография и характер героя (однако с сохранением основных установившихся черт типа), возникает продолжение его прежней истории, а также художественно исследуется поведение персонажа в новых исторических условиях;
- деформация первообраза (изменение идейного содержания: например, по отношению к образу Чацкого) - коренной пересмотр историко-литературного значения типических характеристик. Так, у персонажа возникает «новая» биография, прежняя история подвергается оригинальной трактовке с пояснениями и комментариями. Иногда, отмечает исследователь, происходит «наложение» образной структуры щедринского произведения на художественную структуру другого литературного шедевра, оживление одного литературного персонажа ведет к реанимации его образного окружения» (в качестве примера взят персонаж «Писем к тетеньке» Ноздрев). Резюме исследователя: «Об-
новление литературного образа связно... с «взаимодействием» образных тканей двух произведений» [140, с. 92].
Среди причин творческого пародирования «чужих» текстов В.В. Рыжов называет социально-политическую востребованность и живучесть уже созданных литературных типов: «Изменения в их [персонажей] биографиях связано прежде всего с эволюцией русского дворянства после крестьянской реформы... С оживлением политического материала связана и «вторая жизнь» гоголевских героев, известность и значимость которых для читательского сознания поднимала политическую сиюминутность, делая ее рельефнее и объемнее» [140, с. 39-42].
А.Г. Дементьев, Е.И. Покусаев, П.С. Рейфман разделяют щедринские заимствования на две группы. К первой относятся персонажи, изображенные в произведениях сатирика в соответствии с семантикой, закреплённой в читательском сознании, это, прежде всего, комедийные образы, куда включены также Молчалин и Глумов. Ко второй группе относятся образы, привычное представление о которых резко нарушается в интерпретации Салтыкова-Щедрина. Сюда помещены образы «лишних людей».
М.Б. Степанова, исследуя заимствованные образы в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина, приходит к выводу, что литературные заимствования для писателя - «особые средства художественного познания действительности». С их помощью сатирик вскрывает неизжитые анахронизмы прошлого [149, с. 331]. Этической целью использования чужого образа, по мнению М.Б. Степановой, для Салтыкова-Щедрина было разоблачение «аморального характера эпохи... через удвоение нравственной оценки персонажей» [149, с. 333]. Заимствованные образы в прозе Щедрина связаны также с «общей экономией художественного пространства» [149, с. 333].
М.Б. Степанова вычленяет три группы заимствований: 1) «образы-цитаты», которые используются в полном соответствии с традицией материнского произведения (персонажи Фонвизина, Гоголя, некоторые герои Грибое-
дова); 2) «образы-перифразы», получившие в контексте щедринского произведения новое, порой контрастное содержание (Молчалин, Глумов); 3) «образы-травести», в которые включены переосмысленные Щедриным образы «лишних людей» из произведений Тургенева, Гончарова, а также грибоедовский Чацкий.
Авторы большинства названных работ, выявляя художественно-сатирические цели в творчестве писателя, анализируют либо содержательную сторону реминисценций, либо формальные способы трансформации персонажного образа. При этом реминисценции, выявленные на речевом уровне (прямые цитаты, композиционно-стилевые, синтаксические заимствования), или не принимаются во внимание, или рассматриваются отдельно как эстетическая особенность языка произведений Салтыкова-Щедрина.
Изучение реминисцентных образов в литературоведении представлено немногочисленными разрозненными работами, посвященными исследованию творчества отдельных писателей (А.С. Пушкина [155], А.С. Грибоедова [165], А.А.Блока [101], некоторых других). По большей части в этих работах реминисценции выявляются без их интерпретации, тогда как интерпретация, на наш взгляд, необходима при формулировании общих законов использования «чужого» образа, целей видоизменения пратекста и введения его в новое контекстуальное окружение.
На наш взгляд, особого внимания заслуживают работы А.П. Ауэра, посвященные анализу «чужого» образа в произведениях Салтыкова-Щедрина. Исследователь делает акцент на главной черте сатирической поэтики писателя -так называемом «гиперболизованном психологизме»: «Салтыков, осуществляя эксперименты с «чужим» героем (это особенно относится к героям «Горя от ума» и гоголевским персонажам), всегда сдерживает сюжетное развитие, но зато дает полный простор психологическому анализу, что продиктовано стремлением всесторонне мотивировать эволюцию характера» [7, с. 80].
Характеризуя особенности функционирования заимствований в прозе Салтыкова-Щедрина, исследователь отмечает, что сатирический контекст про-
изведений писателя одновременно и разрушает «чужой» образ, и конструирует ядро поэтики уже видоизмененного образа. Кроме того, А.П. Ауэр полагает, что «чужой» герой у Щедрина - «опора в художественном постижении бытия» [7, с. 80], так как новое смыслонаполнение заимствования представляет собой не что иное, как «свое понимание той жизни, которая породила эти образы» [7, с. 80].
В монографии Е.Н. Строгановой «"Современная идиллия" М.Е. Салтыкова-Щедрина в литературном пространстве» её автор подробнейшим образом высвечивает становление щедринского текста как процесс постоянного взаимодействия с чужим словом, которое входит в художественную ткань произведения, определяя первоначальный замысел и стимулируя его развитие. Е.Н Строганова, рассматривая процесс написания романа как взаимодействие со множеством литературных текстов, анализирует стадиальное развитие этого диалога и приходит к существенному научному результату. Впервые автор монографии включает в круг рассмотрения означенных проблем полемику Салтыкова с Достоевским и отчётливо демонстрирует идеологическое обоснование ухода из художественной структуры щедринского романа пушкинского слова, замечая: «В эстетически значимой форме Салтыков показал, что именно литература делает человека человеком и что деградация личности происходит параллельно с процессом «умаления» литературного творчества» [151, с. 252].
Все имеющиеся исследования становятся основой для нового обращения к прозе Салтыкова-Щедрина с целью последовательного выявления «готовых» образов, порождающих новый текст. Чрезвычайно насыщенное реминисценциями, его творчество относится к периоду, который предшествовал и подготовил основу эпохе «цитатной литературы», не получившей до настоящего времени последовательного и глубокого научного осмысления. В нашей работе мы надеемся в какой-то мере возместить этот научный пробел.
Поэтому предметом нашего исследования является художественная функция «чужих» образов у М.Е. Салтыкова-Щедрина, на материале таких
произведений, как «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Головлёвы», «История одного города», «Письма к тётеньке», «Современная идиллия» и некоторые другие. Все они отмечены явными и подтекстовыми литературными заимствованиями и относятся к разным творческим периодам автора, что способствует полноте охвата необходимых для анализа художественных фактов и установлению специфики их «отражений».
Целью нашего исследования является подробное выяснение законов функционирования «чужого» образа в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина и анализ его поэтики в эстетической концепции писателя, для чего требуется решить ряд задач:
исследовать основные вехи Салтыкова-художника через словесную яв-ленность чужого литературного материала;
определить семантику образных трансформаций;
найти и сопоставить заимствованные Щедриным образы с их первоначальным смыслонаполнением в исходном художественном контексте;
сформулировать эстетические закономерности функционирования реминисценций в прозе Щедрина и попытаться определить эстетическую значимость приёма заимствования в целостной художественной концепции этого писателя;
на основе анализа разных типов реминисцентных образов в прозе Щедрина реконструировать процесс их саморазвития;
классификацировать разные виды заимствований.
Новизна нашего исследования - в установлении эстетической содержательности заимствованных образов и выявлении их взаимосвязи с общелитературными тенденциями эпохи.
Работа является преимущественно историко-литературным исследованием. В качестве основного метода был избран системно-комплексный метод анализа в сочетании со структурно-типологическим подходом к материалу.
На защиту выносятся следующие положения:
«Чужие» образы в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина могут рассматриваться в общелитературном контексте как закономерное следствие внимания писателя к фактору сопряжённости живой реальности и её отражения в искусстве слова. «Чужое» слово в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина становится средством экспликации собственной художественной системы, способом диалогического освоения литературного прошлого.
Целенаправленность включения различного рода реминисценций и заимствований определяется своеобразием поэтики сатирика в её обусловленности поисками Щедрина в области философски-теоретического самосознания, активным взаимодействием в сфере различных эстетических идеологий, неприятием любых готовых истин, идеалов и образцов, не имеющих под собой реальной жизненной основы в изменившемся социуме.
«Готовые» образы, помещённые Салтыковым-Щедриным в новый художественный контекст, неизбежно начинают реализовать свои скрытые потенции, вступая в тончайшую эстетическую игру с текстом-прототипом. Выделяется три способа заимствований: 1)модификация образа-прототипа с расширением области типического; 2) опрощение, сужение художественного диапазона, связанного с ним, до представления об образе как носителе одной, доминантной черты-характеристики, когда образ лишается внутреннего потенциала развития; 3) Салтыков-Щедрин часто лишает реминисцентный антропоним места в сюжете, создавая вокруг других героев некую ономастическую зону и косвенно характеризуя их с помощью тех коннотативных смыслов, которыми заимствования обладают в исходном контексте. Реминисценции-характеристики функционируют и как структурные элементы при создании образа нового героя. С их помощью Салтыков-Щедрин выстраивает генеалогию типа, проясняет «истоки» его появления.
Полемика Щедрина с «чужим» образом и «чужим» словом становится основой для уникальной художественной системы, по силе и значимости эсте-
тического воздействия не только не уступающей первоисточнику, но в диалоге с последним наращивающей потенциал социально-политического отрицания, в совмещении, синтезе крайностей рождающей искомую истину.
Результаты, полученные в диссертации, могут быть использованы в вузовских курсах по истории русской литературы второй половины XIX века (раздел: творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина), по теории литературы (раздел: проблема «чужого» образа в художественной прозе).
Диссертация состоит из введения, двух глав, демонстрирующих изложенные позиции и служащих основанием для обобщений, заключения по итогам всей работы и списка использованной литературы, включающей 116 наименований.
«Чужие» «положительные» образы в интерпретации сатирика
Проблема текста в тексте (то есть цитаты и ее разновидностей) впервые была глубоко осмыслена М.М. Бахтиным в работах по теории романных жанров и поэтике Ф.М. Достоевского, поэтому его можно считать основоположником теории цитаты. Труды Бахтина стали фундаментом в формировании концепции постмодернизма. Главная идея его теоретических исследований заключается в том, что слово в тексте всегда диалогично: «Событие жизни текста, т.е. его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [13, с. 301]. Это особенно важно в случае, если текст содержит апелляцию к другому тексту в форме цитаты, аллюзии, реминисценции: «Два сопоставленных чужих высказывания, не знающих ничего друг о друге, если они хоть краешком касаются одной и той же темы (мысли), неизбежно вступают друг с другом в диалогические отношения. Они соприкасаются друг с другом на территории общей темы, общей мысли» [13, с. 310]. По мнению Бахтина, вне диалога слово принципиально не существует. Даже в целом монологические научные и литературные тексты всегда апеллируют к другим текстам, иногда еще не созданным: «Диалогические отношения, таким образом, гораздо шире диалогической речи в узком смысле. И между глубоко монологическими речевыми произведениями всегда наличны диалогические отношения ... Для слова (а следовательно, для человека) нет ничего страшнее безответности. Даже заведомо ложное слово не бывает абсолютно ложным и всегда предполагает инстанцию, которая поймет и оправдает...» [13, с. 321-323]. По мнению Е.Н. Строгановой, «признание диалогической природы литературного творчества позволяет говорить о том, что чужой литературный текст играет решающую роль в становлении и оформлении авторского замысла» [151, с. 211]. Главным маркером, обнаруживающим диалогизм текста, является «чужое слово» в тексте, то есть прямое или косвенное присутствие в одном целостном авторском высказывании обращений к другим текстам, а именно: к речевым субъектам, стоящим за ними. Понятие «чужое слово» М.Н. Бахтина обозначило цитату в широком смысле термина (то есть любое не принадлежащее автору высказывание в его тексте и отсылку к иной мысли, точке зрения, концепции). Сам Бахтин так определяет внутритекстовые диалогические отношения: «Диалогические отношения... Это особый тип смысловых отношений, членами которых могут быть только целые высказывания (или рассматриваемые как целые, или потенциально целые), за которыми стоят (и в которых выражают себя) реальные или потенциальные речевые субъекты, авторы данных высказываний» [13, с. 320]. Бахтин характеризует «чужое слово» по способу примыкания. Он перечисляет следующие: - доверие к чужому слову, - благоговейное приятие (авторитетное слово), - согласие / несогласие, - полемика - наслаивание смысла на смысл, голоса на голос, - усиление путем слияния, - сочетание голосов (коридор голосов), - дополняющее понимание, - выход за пределы понимаемого. Не оговаривая различий между «цитатой», «аллюзией» и «реминисценцией», Бахтин останавливается на том главном, что объединяет «цитаты всякого рода»: цитаты способствуют диалогизации монологической речи. «Степень диалогизации монолога может быть очень различной. Необходимость считаться с различными точками зрения, высказываемыми по предмету речи, необходимость полемизировать с одними, опираться на другие точки зрения (цитаты, пересказы чужих взглядов и т. п.), - приводит к диалогизации монологической речи. Более того, можно говорить об общей исторической тенденции диалогизации монолога (научного, публицистического, художественного, газетных и журнальных жанров и т.п.)» [14, с. 217]. Существенными в теории «чужого слова» являются понятия, введенные М.М. Бахтиным и раскрывающие понятие диалогических отношений в тексте. Так, текст, по Бахтину, представляет собой неповторимое событие. Таким образом, элемент этого текста в другом контексте не является полностью самим собой, поскольку обладает «двойной экспрессией», появляющейся вследствие смены речевых субъектов. Здесь можно говорить о двойном авторстве. «Чужое слово» в тексте (цитата, интекст, метатекст) демонстрирует диалог, «неслиянность» авторских сознаний, отсутствие сущностного единства цитаты с новым контекстом, что только и позволяет опознавать ее. С другой стороны, можно вести речь о «нераздельности» цитаты и нового окружения, так как вне нового контекста извлеченный из текста-предшественника отрывок цитатой не является. Новым текстовым окружением определяется и возможность «переакцентуации» чужих слов в составе нового высказывания. По отношению к цитате эта идея Бахтина может быть осмыслена следующим образом: цитата обретает «полноту своего смысла» только с учетом двойного контекста - первичного и вторичного.
Усиление сатирического звучания реминисценций-антропонимов
Молчалин как антропоним-заимствование в творчестве Салтыкова-Щедрина также обретает особую значимость. В разных произведениях сатирика он выступает то в качестве главного («Господа Молчалины»), то в качестве эпизодического действующего лица («Письма к тетеньке», «Современная идиллия»). О важности этого литературного типа для сатирика свидетельствует авторская жанрология. Роман «Господа Молчалины», а также цикл рассказов и очерков под общим названием «В среде умеренности и аккуратности» посвящены художественному осмыслению социального явления «молчалинства». Имя героя вынесено в заглавие. Здесь оно является одновременно именем текста и персонажа. Выступая в качестве имени текста, антропоним символизирует текст как целое, однако как имя персонажа он обозначает всего лишь часть текста. Таким образом, имя персонажа подчиняет себе все смысловое пространство произведения, не теряя при этом своего особого значения. Молчалин у Салтыкова-Щедрина - это одновременно тема сатирического цикла и главное действующее лицо.
Имя в заглавии - свидетельство того, что данный образ является стержневым в сюжете. Судьба поименованного персонажа составляет основу повествования. Заглавие-антропоним обеспечивает предпонимание, определяющее читательское восприятие текста. Имя в заглавии формирует определенные читательские ожидания. Оно предполагает жизнеописание, биографию персонажа. Биографический метод фиксирует некоторое константное состояние персонажа, обычный тип его поведения. Формирование типа объясняется эволюцией характера персонажа под влиянием объективных условий жизни. Биофафические характеристики главных действующих лиц вводили в роман антитезу «человек-среда» и прочно связывали с ней особенности воссозданных характеров и логику развития сюжета.
Однако в «Господах Молчалиных» Щедрин в сатирических целях добивается прямо противоположного эффекта обманутых читательских ожиданий. Он многократно высказывал в литературе и публицистике свое негативное отношение к семейному роману, проблематика которого, по его мнению, исчерпала себя. Любовные перипетии сюжета писатель считал пригодным только для развлекательного чтения, что было для Щедрина синонимом легкого и пустого времяпровождения. Взамен семейно-биофафического Салтыков предлагает социальный роман-исследование, изображающий не историю образа-персонажа, а социальный генезис типа, его характер как общественного явления. Кроме того, Салтыков-Щедрин отрицает и саму сложившуюся форму жанра - романное повествование. Все крупные произведения сатирика складывались из циклов очерков или рассказов, объединенных общей темой и проблематикой. Формула заглавия, подчиненная замыслу автора, в интерпретации Салтыкова-Щедрина пародирует семейно-бытовой роман. «Господа Молчалины» — это не просто жизнеописание, а социальная «биография», то есть не собственно биография, а художественное исследование эволюции социального явления, обозначенного образно-типическим обобщением в имени «Молчалин»: «Своей глубокой и оригинальной художественной интерпретацией Салтыков придал ранее известному литературному образу новый масштаб, показав молчалинство как широкое социально-политическое и психологическое явление» [86, с. 622].
Образ щедринского Молчалина также не совпадает с грибоедовской оценкой этого персонажа. Грибоедовский герой обладал личностными характеристиками, человеческой индивидуальностью. Щедринский Молчалин — пример крайней степени отвлеченности. «Символы Салтыкова достигли еще большей универсальности, что прямо обусловлено жанровыми особенностями творчества сатирика. Захваченный глобальной циклизацией, столь характерной для поэтики Салтыкова, символ стал выполнять не только существенные смысловые, но и организующие художественные функции» [9, с. 7]. Заменяя конкретику жизненного характера на художественную условность, сатирик «размножи-вает» своего героя, лишая индивидуальной определённости. Это - образ-формула, или образ-концепт, с основой-характеристикой, данной еще Грибоедовым. Не лишаясь специфического художественного облика, образ сатирика содержит повышенную долю абстракции. Молчалин лишён черт единой личности, в варианте Щедрина он предстаёт в различных ипостасях: как Молчалин-чиновник, Молчалин-журналист, Молчалин-аскет, Молчалин-жуир. Причина такого «разнообразия» оттенков молчалинства в различии качеств характера представленных персонажей, которых при этом объединяет всех их безоговорочное принятие всего, что исходит от начальства, и полное личностное подчинение власти.
Библейские «отражения»
Значительную часть реминисцентного присутствия в произведениях Салтыкова-Щедрина отводится библейскому тексту. Библия, которую принято разделять в христианстве на Ветхий Завет и Евангелие, издревле причисляется к сакральным текстам. Она, выступая основным символом веры, обладает для верующих безусловным авторитетом. Церковь ещё в средневековье защищала библейский текст от критического и иронического переосмысления, объявлявшегося инакомыслием (ересью) и беспощадно преследовавшегося. Противовесом догматизму, утверждавшему незыблемость и неоспоримость постулатов веры, изложенных в Священном Писании, служила культура карнавала, шуточная театрализация, апокрифические тексты.
Библия в качестве источника для цитатного заимствования актуализируется в творчестве писателей XIX века, например, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, И.С. Тургенева и др. Чаще всего её интерпретация носит характер безоговорочного принятия.
Произведения Салтыкова-Щедрина демонстрируют особую позицию автора в расставлении семантических акцентов при использовании библейских образов. Салтыков-Щедрин обращается к библейскому тексту не столько для того, чтобы аргументировать те или иные доводы повествователя или персонажей, а по причине общеизвестности изречений, мифологем, сюжетов Священного Писания, бытовании их в житейском обиходе. Ассоциативное поле библейского текста очень сильно, так как он является главной книгой в жизни христианина, а значит, и каждого русского человека. Текст запоминался зачастую механически, без осознания и понимания его содержания. В результате многократного неосмысленного повторения цитат и изречений из библейского источника высокий смысл нивелировался, искажался и терялся. Возникало означающее без означаемого, форма с «обесцененным» содержанием. Сатирика, использовавшего библейский сюжеты, «формулы», изречения в своих произведениях, интересовал именно этот психологический аспект.
В романе «Господа Головлёвы» библейские «формулы» служат прикрытием лицемерной, двойной морали Арины Петровны и Иудушки Головлёвых. Многозначительно прозвище Порфирия Петровича - Иудушка, соотносимое с именем евангельского Иуды. Общая коннотация антропонима - «предатель». В сочетании с уменьшительным суффиксом (-ушк-) имя отражает мелочное иезуитство характера персонажа. Назойливое повторение героями библейских формул-изречений, адресованное другим персонажам, обнаруживает догматизм сознания, служит разоблачительной характеристикой их греховного ханжества, так как библейское слово не обеспечено деятельным служением добру. Сами герои следуют христианской норме лишь внешне, заботясь только о публичном приличии. Речь Иудушки изобилует церковно-библейскими изречениями, с помощью которых он не устает поучать всех вокруг: «Бог непокорных детей наказывает», «гордым Бог противится», «благословясь да Богу помолясь», «Бог дал, Бог и взял», «всякому человеку свой предел от Бога положен». Беззастенчиво захватывающий жизненное пространство, Иудушка лицемерно масикрует своё хищничество авторитетом библейского слова. По определению одного из исследователей, «герой Салтыкова-Щедрина Иудушка Головлев в маске «истинного христианина» делает нехристианское дело, разрушая тем самым христианство» [7, с. 39].
Размышляя об умершей в нищете дочери, состоятельная помещица Арина Петровна искренне считает, что, приютив внучек, следует божественному милосердию: «У Бога милостей много... сиротки хлеба не бог знает что съедят, а мне на старости лет - утешение! Одну дочку Бог взял - двух дал!» [1, т. 13, с. 14]. Слово «Бог» непременный атрибут речи матери и сына, которые склонны постоянно ссылаться на «промысел Божий»: «Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на божию помощь, "которая, по нынешнему легковерному времени, и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои, по достаткам своим, надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были"» [1, т. 13, с. 59]. Иудушка, сидя у постели больного брата, истязает его лицемерными сентенциями, тем самым психологически приближая смерть Павла Владимирыча: «- Церковь-то что нам предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения... А ещё: христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны - вот что, мой друг!.. Павел Владимирыч лежал весь багровый и чуть не задыхался» [1, т. 13, с. 79].
Обращение Салтыкова-Щедрина к русской поэзии
Пожалуй, после библейских наибольшее количество реминисценций апеллирует в щедринской прозе к творчеству Г.Р. Державина. Державинская поэзия явилась у писателя источником для множества цитат, пародий, парафраз, иронических переосмыслений. Некоторые строки из его од можно считать излюбленными у Салтыкова-Щедрина, поскольку одни и те же реминисценции повторяются в нескольких произведениях сатирика, например в «Помпадурах и помпадуршах», «Господах Головлёвых», «Письмах к тётеньке», «Современной идиллии». В своей монографии Е.Н. Строганова характеризует особенности обращения Салтыкова-Щедрина к державинской поэзии как к источнику заимствований. Она констатирует, что в текстах сатирика имеет место переоценка не творчества поэта, а своего прежнего восприятия, в котором было немало преклонения. Исследователь утверждает, что в произведениях Салтыкова-Щедрина необходимо разграничивать две точки зрения на поэзию Державина: точку зрения самого писателя и точку зрения его героев. Если для щедринских персонажей стихотворение Державина - «народная мудрость», авторитетное слово, подтвержденное устойчивой литературной репутацией автора, то для сатирика - это иронически воспринимаемое «бряцание», то есть «писательство, не имеющее серьезного общественного значения» [151, с. 187]. Большое значение имеет то, что для героев Щедрина Державин - эталон литератора «благонамеренного», творчество которого проникнуто «верноподданническим» духом. Герои ищут опоры литературным образцам, заданным державинской поэзией, в действительной жизни. Это низводит литературное державинское слово до бытового уровня. Кроме того, Е.Н. Строганова отмечает, что в общем плане поэзия Державина у Щедрина — это «средство организации идейно смыслового содержания романа» [151, с. 194]. Со всем этим нельзя не согласиться, однако здесь можно выделить ещё несколько особенностей. Рассмотрим некоторые из реминисценций. Одно из стихотворений Державина, часто цитируемых Щедриным, - ода «На смерть князя Мещерского». Реминисценция устойчиво воспроизводится и в «Помпадурах и помпадуршах», и в «Господах Головлевых», и в «Современной идиллии». Чаще всего воссоздаются строки: Где стол был яств, там гроб стоит; Где пиршеств раздавались клики, Надгробные там воют лики, И бледна Смерть на всех глядит... Глядит на всех... А завтра - где ты, человек? [45, с. 30] Продолжая тему трагической конечности человеческого бытия, поэт размышляет о равенстве людей перед неизбежным исчезновением из жизни: «Монарх и узник - снедь червей», «Сегодня бог, а завтра прах» и т.п. Салтыков-Щедрин нашёл в стихотворении Державина поэтическую форму для выражения собственной, во многом сходной идеи. Героям произведений сатирика в переломные или драматические моменты приходят мысли о том, как всё переменчиво в жизни. Так, в рассказе «Сомневающийся» из цикла «Помпадуры и помпадурши» главный герой (помпадур) неожиданно осознаёт зыбкость своего положения: «Если я совсем-совсем не обеспечен, то это значит, что я обеспечен вполне. Где стол был яств, там гроб стоит - и ничего больше. Сегодня я помпадур, стою прямо и бодро; завтра явился помпадур в квадрате - прилетел и переломил. Где пиршеств раздавались клики, надгробные там воют лики - вот и всё» [1, т. 8, с. 129]. В «Господах Головлёвых» мотив державинских размышлений появляется дважды. Степан, возвращаясь в ненавистное ему Головлёво, где он родился, вырос, навек остался постылым Стёпкой-балбесом и куда едет на верную смерть, рассуждает: «Важно! - говорит он, — сперва выпили, теперь трубочки покурим! Не даст ведьма мне табаку, не даст... Есть-то, даст ли? Объедки, чай, какие-нибудь со стола посылать будет! Эхма! были у нас денежки - и нет их! Был человек — и нет его! Так-то вот и всё на свете! Сегодня ты сыт и пьян, живёшь в своё удовольствие, трубочку покуриваешь... А завтра где ты, человек?» [1, т. 13, с. 25-26]. Легкомыслие уступает место осознанию ужаса своего положения. Подъезжающий к Головлеву Степан со страхом смотрел на барскую усадьбу: «Там чудился ему гроб. Гроб! гроб! гроб! — повторял он бессознательно про себя» [1, т. 13, с. 30]. Выброшенные Головлёвым в реальность сёстры-сироты Аннинька и Лю-бинька устремляются к запретным удовольствиям. Жизнь вне Головлёва кажется им свежим глотком воздуха по сравнению с затхлым миром Арины Петровны и Иудушки. Ставшие актрисами провинциального театра, они не осознают последствий этой свободы и всех превратностей судьбы, которую выбрали. Впервые интуитивное понимание приходит к Анниньке, вернувшейся в Головлёво и посетившей могилу Арины Петровны: «- И кто бы, сударыня подумал, что под сим скромным крестом, при бедной нашей церкви, нашла себе успокоение богатейшая некогда помещица здешнего уезда! - сказал священник по окончании литии.