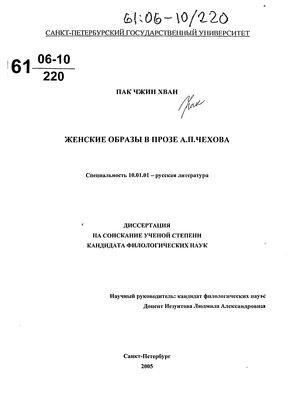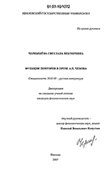Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Способы создания женских образов в ранних рассказах и повестях АЛ.Чехова (1880 - 1887) 48
Глава 2. Трансформация женских образов в прозе Чехова второй половины 1880-х-первой половины 1890-х годов 120
Глава 3. Эволюция женских образов в прозе А.П.Чехова 1895 - 1904 гг . 188
Заключение 254
Список использованной литературы 264
- Способы создания женских образов в ранних рассказах и повестях АЛ.Чехова (1880 - 1887)
- Трансформация женских образов в прозе Чехова второй половины 1880-х-первой половины 1890-х годов
- Эволюция женских образов в прозе А.П.Чехова 1895 - 1904 гг .
Введение к работе
Тема данного диссертационного исследования посвящена поэтической семантике женских образов в прозе А.П.Чехова, начиная с раннего периода и заканчивая поздними рассказами. Предполагается, что главным материалом для исследования будут рассказы Чехова, в которых образ женщины является центральным, что обозначено уже в заглавии произведения («Ведьма», «Юристка», «Дачница», «Княгиня», «Жена», «Душечка» и т.д.). По мере необходимости будут привлекаться и другие произведения писателя, в которых образу женщины уделяется значительное внимание, принципиально важные, на наш взгляд, для анализа общей «концепции женщины» в прозаическом творчестве Чехова. Хронологически объектом исследования будут рассказы 1880 - 1903 годов, а также некоторые повести («Цветы запоздалые», «Ненужная победа», «Живой товар», «Дуэль» и др.).
Актуальность исследования определяется местом и ролью творчества А.П.Чехова в общем литературном процессе конца XIX — начала XX веков. Анализ социальных, этических и психологических взглядов писателя на женщину, отразившихся в художественных образах его произведений, помогает точнее понять как особенности его личного мировосприятия, так и глубинные процессы, происходившие в общественном сознании. Особенности творческой манеры художника, наложившие свой отпечаток на способ изображения персонажа, также позволяют судить о ведущих тенденциях той или иной исторической эпохи.
В разные исторические эпохи обращение к образу женщины в
искусстве не просто воплощает личные представления художников о «прекрасной половине человечества». Образ женщины в литературе представляет собой сложный комплекс социально-этических, этнографических, культурно-исторических и психологических параметров, связанных с общественными установками и требованиями, предъявляемыми к женщине. Русская литература обладает богатой традицией изображения женщины. Достаточно назвать имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, Н.А.Некрасова, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, открывших всему миру целую галерею ярких и запоминающихся типов русских женщин, которые стали достоянием мировой литературы.
К концу XIX века, времени, когда Чехов создавал свои произведения, «женская тема» стала одной из наиболее актуальных в русской литературе. Значительный интерес к этой теме характерен также для французской литературы, произведений Ж.Санд, Бальзака, Золя, Флобера, Мопассана, хорошо известных и популярных в России, в рассматриваемый период. Как пишет Н.Е.Разумова, «рост интереса к этой теме был обусловлен прежде всего остротой "женского вопроса" в обществе. Положение женщины было наиболее наглядным показателем нравственности и гуманности социальной системы, заявлявшей о своей демократизации. Женская тема являлась и органичным порождением собственно литературного развития, которое стремилось к проникновению во все более глубокие зависимости между обществом и человеком, все более сложные психологические явления. Женщина, обладающая не столь явными и прямыми социальными детерминантами, не столь рациональным и аналитическим сознанием, как мужчина,
открыла литературе интереснейший комплекс социальных, нравственно-психологических, физиологических детерминант» [142, 133].
Несмотря на то, что интерес к творчеству А.П.Чехова не ослабевал у критиков и литературоведов на протяжении всего его литературного пути и многих десятилетий после его смерти, все же предложенная тема, на наш взгляд, оказалась недостаточно изученной и практически никогда не рассматривалась в заявленном объеме. Существовала устойчивая традиция рассмотрения женских образов в общем контексте чеховской характерологии персонажей. Зачастую также выделялись для анализа и изучения отдельные женские образы, как правило, из рассказов позднего периода, что не давало возможности составить целостное представление о динамике подходов к образу женщины в творчестве писателя. Между тем, как нам кажется, для адекватного изучения творчества Чехова особенно актуально рассмотрение женских образов как специфического объекта, не растворенного в общей «концепции человека», потому что подход писателей к изображению женских и мужских персонажей (а также, отметим отдельно, детей), во многом различен. Эта особенность чеховского мировосприятия отмечалась в критических и аналитических работах, но до сих пор не стала основой для целостного исследования.
Вопрос о специфике изображения женщины в творчестве Чехова, с одной стороны, оказывается вписанным в контекст общей чеховской характерологии персонажей, со свойственными ей специфическими способами сюжетных ходов и портретных характеристик. В то же время, он содержит в себе ряд особенностей, связанных как с традицией изображения женщины, сложившейся в русской литературе к концу XIX века, так и со своеобразием чеховского подхода к «женской теме».
Чехов придавал большое значение присутствию в произведении образа женщины. В письме И.Л.Леонтьеву-Щеглову (от 22 января 1888 г.) писатель иронически выражает свое «кредо»: «Без женщины повесть, что без паров машина. [...] Я не могу без женщин!!!»1. Нам представляется, что в известном чеховском шутливом изречении «женщин нужно описывать так, чтобы читатель чувствовал, что Вы в расстегнутой жилетке и без галстука» (из письма А.С.Лазареву-Грузинскому от 20 октября 1888 — П2, 163) нашла отражение художественная позиция писателя. Уже в раннем творчестве Чехов выражает свое представление о необходимости деромантизации образа женщины в литературе, приближения его к реалиям повседневного существования, в котором развиваются бытовые, семейные, любовные и социальные отношения, затрагивающие женщин.
Устойчивый интерес к творчеству Чехова у современных ему критиков возник после того, как в мае 1886 года вышел в свет его второй сборник — «Пестрые рассказы». Первые критические отзывы были достаточно противоречивы и зачастую отмечены непониманием особенностей новой художественной системы, непохожей на уже существующие литературные каноны. И.Н.Сухих замечает, что «чеховский мир» продиктовал критикам один распространенный прием: «В обобщающих статьях рассматривались не столько персонажи отдельных повестей и рассказов. Критики пытались понять общий принцип чеховской художественной характерологии, сконструировать
1 Чехов А.П. Письмо ИЛ.Леонтьеву-Щеглову (от 22 января 1888 года) // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 2. С. 182. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках с указанием номера тома и страницы. Серия писем имеет обозначение П.
модель чеховского героя, обозначить интегрирующий образ, возникающий из совокупности чеховских текстов» [179, 24]. Подобные попытки не всегда оказывались успешными, но они содержат в себе ряд ценных замечаний, касающихся новизны художественной манеры Чехова.
А.Л.Волынский, отмечая «блестящие внешние краски, выразительный язык, богатство поэтических нюансов» произведений Чехова, считал при этом, что «за легкими, бойкими, смелыми описаниями, которыми изобилуют его произведения, за меткими, удачными характеристиками, которые в них рассыпаны повсюду», нет «живого художнического увлечения, [...] внутреннего кипения чувств, мыслей» [41, 217].
В.Л.Кигн указывает, что Чехов освободился от «толстовского плена» демонстрации психологической жизни героев и не ограничивается исключительно психологическим анализом: «Кроме души, он занят и внешними проявлениями жизни своих героев. Он охотно подмечает их наружность, он схватывает язык действующего лица, он решительней чистых психологов определяет действия и поступки героя. Это соединение психологической и внешней манеры и составляет [...] оригинальность и прелесть молодого автора» и «составляет органическое свойство его таланта» [87, 109].
Критикам реалистического направления особенно трудно было примириться с творческой манерой Чехова, столь отличной от его предшественников. Так, Н.К.Михайловский запальчиво упрекал Чехова в том, что он «сам не живет в своих произведениях, а так себе, гуляет мимо жизни и, гуляючи, ухватит то одно, то другое» [112, 85]: «При всей своей талантливости г-н Чехов не писатель, самостоятельно разбирающийся в
своем материале и сортирующий его с точки зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический аппарат. [...] Что попадется на глаза, то он и изобразит с одинаково "холодною кровью"» [112, 91].
П.П.Перцов называл «больным местом» Чехова «непонимание им общественного характера своих произведений» и упрекал автора в «их неясности и отрывочности» [131, 194]. При этом критик высоко ценил мастерство писателя в изображении «индивидуального человеческого духа». Перцов утверждал, что писатель — особенный мастер «как психолог, как наблюдатель потаенной внутренней жизни человека, помыслов и душевных движений, зарождающихся в интимной глубине его "я" да большей частью там и остающихся» [131, 190].
В.В.Воровский называл героев Чехова «лишними людьми», «эпигонами поколений, сыгравших в свое время крупную историческую роль», выделяя как доминирующую черту «мелочность идеалов и жизненных задач и большое горе и страдание, когда эти идеалы и задачи разрушает жизнь»; но при этом в «противоположности и несоответствии между желанием и страданием от неосуществившегося желания», присущим чеховским героям, критик обнаруживал глубокий «исторический смысл» [42, 617].
В статье с характерным названием «Жертва безвременья» М.А.Протопопов упрекает Чехова в отсутствии идеалов, которое сказывалось на творческой манере писателя, в том числе, и на способах изображения персонажей. Приводя выдержку характеристики героя из рассказа «Именины», автор статьи пишет: «Сколько ненужной ядовитости и беспричинной злости в этой характеристике! Не только недобрым, но и нечистым чувством она внушена, чувством мелкой
ненависти, личный характер которой не подлежит сомнению. Это не характеристика — это ряд ничтожных придирок и дешевеньких насмешек над внешностью! Порыжелая шляпа... полинявшее лицо... претензия на литературность... декламирование с чувством стихов... грусть о прошлом... вычурный и изысканный язык... замогильный тенорок... Какие, подумаешь, огромные недостатки и тяжкие преступления! Если против человека можно поставить только такие обвинения, если при самом пламенном желании очернить или унизить его приходится ограничиваться гостинодворским зубоскальством над костюмом, голосом и манерами, — это значит, что обвинитель или не понимает обвиняемого, или ему во всех отношениях далеко до него, что, впрочем, почти одно и то же» [137, 124-125].
Если критики «реального направления» видели слабость Чехова в отсутствии выраженной гражданской позиции, равнодушии к изображаемым людям и событиям, отсутствии «общей идеи», а его героев обвиняли в «мелочности идеалов и жизненных задач», то со стороны представителей иных литературных направлений упреки были не менее запальчивыми. Часто они парадоксальным образом совпадали, особенно там, где речь шла об особенностях художественной манеры писателя. Помимо «отсутствия идеалов» у чеховских героев, «равнодушия» к ним писателя неприятие у критиков вызывала такая черта художественной манеры Чехова, как пристальное внимание к мельчайшим деталям быта, «растворенности» героев в окружающей обстановке. «У чеховских героев нет жизни, а есть только быт, — писал Д.С.Мережковский, — быт без событий или с одним событием — смертью, концом быта, концом бытия. Быт и смерть — вот два неподвижных полюса чеховского мира» [109,
697].
Одну из наиболее крайних точек зрения на подход Чехова к изображению мира и человека высказал Л.Шестов, увидевший в произведениях писателя подтверждение своих философских воззрений. Шестов утверждал, что «настоящий, единственный герой Чехова — это безнадежный человек [Курсив автора — П.Ч.Х.]. «Делать» такому человеку в жизни абсолютно нечего — разве колотиться головой о камни. [...] Такой человек невыносим для окружающих. Он всюду вносит смерть и разрушение. [...] Он всей душой стремится вырваться из своего ужасного положения. [...] Начало разрушения всегда оказывается всепобеждающим, и чеховский герой в конце концов остается предоставленным самому себе. У него ничего нет, он все должен создать сам. И вот «творчество из ничего», вернее, возможность творчества из ничего — единственная проблема, которая способна занять и вдохновить Чехова» [218, 584 — 585]. Как указывает А.Д.Степанов, «парадоксальную, ни на кого не похожую интерпретацию Шестова» невозможно понять, если не поставить статью о Чехове в контекст всей шестовской философии» [170, 1002], а понятие «творчество из ничего» подразумевает «необходимость жить, думать, чувствовать и действовать человеку, полностью разочарованному в тех рациональных идеях, которые раньше определяли его существование» [170, 1003]. Даже поверхностное чтение чеховских рассказов позволяет заключить, что характеристики Шестова приложимы (весьма условно) лишь к некоторой части мужских персонажей, а значительная часть героинь-женщин оказываются за рамками этой характеристики. Это может означать как меньшую (по сравнению с мужчинами) степень рефлексии, сказывающуюся на
поступках и мироощущении женских персонажей, так и принципиально иной подход писателя к изображению своих героинь. Вместе с тем, данное заключение нуждается в уточнении и дополнительном рассмотрении с учетом динамики художественной манеры Чехова на разных этапах его творчества.
Некоторые критики, интуитивно чувствуя сложность вопроса о религиозно-философских взглядах Чехова, отразившихся в судьбах и характерах его персонажей, стремятся совместить традиционные представления об атеизме писателя с признаками потаенных поисков веры, потребностью в присутствии в мире какой-то иной, высшей правды. «По натуре Чехов считал себя реалистом и в основе не ошибался, — пишет А.А.Измайлов. — В сочинениях его занимает только реальное, подлинное, житейское» [79, 878], но при этом «для Чехова [...] искусство было религией, да и вся жизнь его была по отношению к людям истинно религиозная, хотя слов на ветер о религии он никогда не бросал» [79, 887].
По мере изменения художественных методов писателя и роста популярности Чехова среди русской читающей публики тональность критических суждений о нем заметно меняется. В статье Н.Я.Абрамовича говорится о соединении в чеховской прозе двух противоположных мотивов: «Часто между изображениями безнадежности и тоски вторгается «сладкая человеческая музыка», появляются нежные изображения детей и светлых избранных душ, звучат слова неизъяснимо-красивой грусти и томления душевного. [...] Вся характерность человеческой музыки по Чехову именно в том, что эта музыка соединяет в себе два мотива: теплоты и нежности душевной и бессильной — гибели, обреченности на гибель» [17, 23]. А.Волынский находит элементы
«какой-то тихой, грустной, ничем не заменимой поэзии» в чеховском рассказе «О любви» [40, 38]. В.П.Альбов отмечает, что в рассказах Чехова слышится «глубокая, затаенная тоска по идеалу, которому нет места на земле, тоска по скрытой в жизни красоте мимо которой равнодушно проходят люди и которая гибнет никому не нужная и никем не воспетая» [21,374].
Ю.И.Айхенвальд, присоединяясь к определению чеховских персонажей как «лишних людей», по-новому рассматривает эту категорию, утверждая, что «может быть, на высшую оценку, некоторые из лишних Чехова окажутся наиболее нужными» [20, 745]. Причина того, что «они погружены в неделание», — в их наивности и бескорыстности, в том, что они «не спешат воспользоваться жизнью»; «ушли от суеты»; «непрактичные и неспособные к делу [...] любят слова теплые, высокие, хорошие слова, которые живут в каждой человеческой груди, но стыдливо прячутся, потому что окружающая жизнь примет их удивленно и холодно» [20; 744, 745, 747].
Свое понимание особенностей чеховской художественной манеры выражает К.И.Чуковский: «Как и всякий великий писатель, Чехов был мелиоратором жизни. Он не просто описывал жизнь, но жаждал переделать ее, чтобы она стала умнее, человечнее, радостнее. Но его художнические методы были так сложны и тонки, рассчитаны на такую изощренную чуткость читателя, что многие — особенно люди предыдущей эпохи, из так называемого поколения «отцов», — не только не поняли, куда зовет, чему учит и что проповедует Чехов, но именно вследствие неумения читать его книги, вследствие непривычки к его новаторским методам вообразили, будто он вообще ничего не
проповедует, никуда не зовет, ничему не учит, ни на что не жалуется, ничего не желает» [216, 90]. Специфику авторского отношения Чехова к изображаемым персонажам Чуковский определял так: «Из всех людей, из всех вещей, какие только попадали Чехову на страницы, он любил только то, что было ненужно, бесполезно, бесцельно, наименее приспособлено к жизни» [215, 11].
Широкая амплитуда разноречивых оценок свидетельствует об ощущении современниками непривычности, новизны поэтической манеры Чехова, не сводимой к единому знаменателю и допускающей возможность разнообразных вариаций прочтения его произведений. Столь же неоднозначно воспринимались и женские образы писателя. Их отличие от предшествующей традиции отмечалось и критиками, и читателями. Оно связывалось как с собственно чеховской художественной манерой, так и с новыми социальными и психологическими реалиями, веяниями эпохи. Первые попытки выделить определенные типы чеховских героинь были предприняты уже современными писателю критиками. В сборнике В.И.Покровского есть несколько статей, посвященных женским образам чеховских произведений. В одной из таких статей, взятой из журнала «Женский вестник», рассматривается освещение Чеховым типа «ученых женщин» (т.е. получивших высшее образование) как нового явления русской общественной жизни. Высшее образование для женщины, по мнению автора статьи, играет важную роль, т.к. оно «совершенно естественно уничтожает мужские преимущества и привилегии и вызывает у женщин сильное сознание несправедливости своей неравноправности с мужчинами, возвышая женщину тем, что она видит отсутствие
справедливости и среди мужчин» [13, 429]. Некоторая наивность подобных выводов напоминает современному читателю, что во времена Чехова вопрос о женской эмансипации был еще достаточно актуальным. В статье Миронова описывается положение русской женщины в современном Чехову мире, ее среда бытования: «Ее окружает заколдованный круг [...]: общественные предрассудки, бесправие, стихийный гнет; в низах общества над женщиной властвует физическая сила. [...] Пристроиться — вот главная ее задача, как для мужчины — избрать себе ту или иную карьеру. Женщина вступает в семью часто случайно, подчиняясь обычаю или чтобы заполнить пустоту жизни» [111, 409]. Патковский пишет об отражении в рассказах Чехова проблем семьи и воспитания детей [130, 429 — 439]. Эти статьи ценны не столько анализом собственно поэтики произведений Чехова, сколько выражением общественных установок и взглядов на роль женщины (в первую очередь — как жены и матери), господствовавших в эпоху написания его рассказов. Чешихин выделяет в произведениях Чехова две категории молодых незамужних женщин: «каботинки», т.е. женщины, «стремящиеся к артистической карьере, к внешнему успеху, блеску и переносящая актерские манеры в свою жизнь» [228, Стлб. 1275], и «влюбленные женщины» [208, 420 — 423]. Наличие здесь одновременно двух, причем неоднородных, признаков «классификации» женских образов (профессиональная принадлежность и эмоционально-психическое состояние) заставляет предположить, что автор усматривал некие общие психологические черты у первого типа («каботинок»), что позволяет сравнивать его со вторым.
Вопрос о типизации чеховских образов, о степени типичности
персонажей, наличии или отсутствии у них характерных черт представителей своей эпохи, класса, сословия был одним из центральных в чеховедении советского периода. К.И.Чуковский говорит о свойственном Чехову умении «широко обобщать те особенности, какие присущи той или иной категории людей» [216, 113]. При этом каждое из подобных обобщений являлось итогом «пристального изучения жизни», «науки человековедения» [Курсив автора — П.Ч.Х.]: «С каким упорным, ненасытным интересом нужно было вглядываться в разные качества и повадки людей, чтобы заявлять с такой уверенностью, что то или иное их свойство, то или иное действие характерны не только для них, но и для огромного большинства им подобных» [216, 115]. В монографии, посвященной творчеству А.П.Чехова, А.Б.Дерман обращает внимание на такую черту его писательской манеры, как лаконизм, который достигался «благодаря несравненной характерности в приемах изображения» [65, 151].
В большинстве литературоведческих работ советского периода (монографиях З.С.Паперного [125], М.Е.Елизаровой [Елизарова], В.В.Голубкова [51], Л.П.Громова [58] и др.) авторы рассматривают творчество Чехова с позиций соответствия его принципам «критического реализма». При этом внимание акцентируется на реалистичности изображаемых лиц и ситуаций, а также социальной проблематике произведений. В характеристиках персонажей рассказов на первый план выходит их отношение к существующему миропорядку, а поступки и характеры героев объясняются социальными условиями среды, их сформировавшей. Так, к примеру, М.Е.Елизарова утверждает: «Нервность, болезненность чеховских героев является естественной реакцией на
«нездоровые», ненормальные отношения, античеловеческие условия жизни» [71, 53]. Авторы значительной части исследований этого времени старались не замечать тех аспектов творчества писателя, которые не вписывались в рамки общепринятой литературоведческой концепции.
Следует особо отметить работы Г.А.Бялого, в которых была предпринята попытка освобождения читательского представления о Чехове от привычных догм и демонстрировался объективный подход к анализу произведений и взглядов писателя. Бялый пишет об изменении взглядов Чехова на роль автора в понимании и отражении «нормы» жизни и человеческих отношений, произошедшем в 1887 — 1888 гг., — времени перехода от ранних юмористических произведений к произведениям зрелого периода [35, 19 — 22]. Выдвигая тезис о «свободе Чехова от художественных канонов», Бялый говорит о свойственном поэтике писателя принципе «незаметной тенденциозности», основанном на «полном доверии к читателю, который волен сам, без авторской помощи, извлекать из рассказа ту "мораль", которая вытекает из самой логики жизненных фактов, из целой картины современной жизни» [34; 153, 155].
В диссертационном исследовании В.Я.Линкова [96] предпринимается попытка целостного рассмотрения принципов изображения персонажей в прозе А.П.Чехова. Важнейшим признаком, по которому можно разделить чеховских персонажей на два типа, Линков считает наличие у них самосознания, самооценки и способность к критическому анализу своих поступков. Определяющим моментом, движущим поступками героев, Линков считает «бессознательность», которая может обозначать как следование первобытно-животным инстинктам (похоти, накопительства, страха перед сильными), так и
интуитивно-трепетного отношения к жизни, не сводимой к банальным «истинам».
В большинстве исследований женские образы рассматриваются фрагментарно, в контексте избранного автором аспекта изучения творчества Чехова. Лишь в небольшом количестве работ образ женщины становится предметом отдельного изучения. Часто чеховские подходы к созданию женских образов увязываются с общественной полемикой по «женскому вопросу», актуальной для России конца XIX — начала XX вв. И.Ю.Твердохлебов, упоминая о намерениях Чехова написать магистерскую диссертацию или книгу по «женскому вопросу», рассказывает об истории создания чеховского рассказа «О женщинах», ставшего своеобразной пародией на тенденциозную книгу К.А.Скальковского. Автор статьи обращает внимание на социально-исторические аспекты освещения писателем «женской темы», отмечая, что Чехов, хотя и не написал задуманной диссертации, интерес к этой теме «сохранил и перенес в художественное творчество» [181, 289].
А.М.Турков анализирует расхождения А.П.Чехова и Л.Н.Толстого во взглядах на место женщины в обществе и ее роль в жизни мужчины, которые проявились в диаметрально противоположных оценках Толстым рассказов Чехова «Душечка» и «Дама с собачкой» [186]. О сходстве и различии взглядов двух художников на проблемы брака, семьи, любовных отношений мужчины и женщины, отразившихся в повести «Крейцерова соната» и в рассказе «Ариадна», а также о специфике художественного освещения этой темы Чеховым и Толстым, говорится в статье М.Л.Семановой[156, 1980].
В диссертационной работе Л.В.Лукьяновой проблема женских
характеров в творчестве Чехова исследуется в сопоставлении с художественными методами П.Д.Боборыкина («Полжизни», «В усадьбе и на порядке», «Жертва вечерняя»), Б.М.Маркевича («Марина из Алого Рога») и других современных ему авторов. По мнению Лукьяновой, в отличие от этих писателей, Чехов «утверждает оригинальную идею о будущем равенстве женского организма мужскому» [101, 5]. Главной причиной, мешающей осуществлению этого в настоящем, писатель считает неправильное воспитание, которое не может повлиять на «глубину и разрушительную силу чрезмерного чувственного влечения» [101,8].
В.И.Сахаров рассматривает тип «новой женщины» (т.е. женщины эмансипированной, отвергающей общественные установки и предрассудки) в творчестве Чехова и считает предшественниками писателя в изображении этого женского типа И.С.Тургенева, И.А.Гончарова и Н.Г.Чернышевского [151].
В работах А.С.Страховой исследуется женский тип «барышни», присутствующий в творчестве писателя. В качестве устойчивых признаков этого типа выделяются «внешние проявления персонажа» (имя, портрет, костюм), служащие, по мнению автора, «потенциальным выражением определенного типа психологии» [173, 8], представляющего собой «особый вариант стереотипности сознания, сложившийся под влиянием литературных и исторических сюжетов, которые барышни пытаются перенести в жизнь» [173, 9]. При этом неоправданное, на наш взгляд, расширение парадигмы типа «барышни», включающего героинь как ранних юмористических рассказов, так и поздних рассказов «Душечка» и «Дама с собачкой», препятствует четкой дифференциации
женских образов, всегда ощутимо присутствующей у Чехова. Отказ автора от таких типологических критериев, как «мировоззренческие позиции героев, формы их самосознания, самооценки и т.п.» [173, 3], также ограничивает возможности создания целостного представления об эволюции женских образов в прозе Чехова.
Значительный интерес для нашего исследования представляет статья Л.П.Гроссмана [61], написанная в 1920-е годы и посвященная истокам творческой манеры Чехова. Автор связывает их с художественными системами французских писателей-«натуралистов» (Золя, Мопассана, Флобера), рассматривая также влияние на мироощущение писателя трудов Чарльза Дарвина и позитивистской философии.
Медицинская практика, которой начинающий писатель уделял много времени, является, на взгляд Гроссмана, одним из важнейших факторов становления «философии человека» у Чехова. Она «с изумительной полнотой раскрыла перед Чеховым ужас жизни, жестокость природы и беспомощность человека» [61, 288]. «Человек предстал перед ним прежде всего как больное животное [Выд. автором — П.Ч.Х.]», «врачебная привычка к больному телу сообщила ему тот точный, немного холодный, но изумительно ясный взгляд на сущность человеческой природы, который навсегда избавил его от доверчивых иллюзий, пленительных ошибок и наивно-мечтательной веры» [61; 289, 290].
Отметим, что одним из первых чеховскую склонность к «анимализации» персонажей отметил В.П.Альбов. Он выделяет несколько групп чеховских персонажей, первая из которых — «люди-звери, люди-животные, с их чисто животною, и потому [...] бессмысленной
психологией. [...] Это совершенно цельные, звериные фигуры, иногда более ловкие, умные и жестокие, чем те зверьки, которых они напоминают» [21, 376]. На другом полюсе - чеховский «одинокий мечтатель среди общества, живущего животными интересами, и неизменно гибнущий» [21, 378].
Как считает Л.П.Гроссман, «позитивистские» взгляды Чехова-врача привели Чехова-писателя к «натуралистическому» подходу к человеку: «Точные данные научного подхода к действительности сдерживали пугающий мистицизм людских судеб и ограничивали какими-то пределами тайну божественной духовности человека. С тонким
искусством спокойного позитивиста Чехов обнажил человека от всех
бытовых условностей, литературных прикрас или философских возвеличиваний и с изумительным умением выделил какое-то простое, первобытное, естественное начало из сложнейшего аппарата всяких наносных воззрений, житейских предрассудков, исторических традиций и общественных форм. За громоздкими декорациями жизни [...] Чехов неизменно различал простой материал для исследования биолога -человека-животное» [61, 291].
Как на источник подобного отношения к человеку Гроссман указывает на теорию Дарвина, сыгравшую большую роль в становлении позитивистских взглядов Чехова: «В чеховскую безотрадную философию о человечестве творец «Происхождения видов» внес один из главных фундаментов своим основным выводом о животном происхождении человека. Вечная тенденция Чехова видеть в своих героях подстреленных птиц или раненых животных объясняется отчасти элементом дарвинизма
в его мировоззрении» [61, 298].
Та же животная сущность обнаруживается, по мнению Гроссмана, и в чеховских изображениях женских персонажей: «Среди ласковых идеалистов чеховского мира, наделяющих женщину самыми светлыми эпитетами, встречаются холодные философы, открыто заявляющие что в наши дни городская интеллигентная женщина возвращается к своему первобытному состоянию и наполовину уже превратилась в человека-зверя»; «в лучшем случае женщина — подстреленная птица, озирающая с безмолвным изумлением инквизиционное орудие жизни. [...] Даже лучшие человеческие черты — страдание, тоска, безнадежность, — вызывают в этом проникновеннейшем поэте душевной надломленности прежде всего обычные зоологические параллели натуралиста. Даже кроткая и восхищенная девушка, благоговейно следящая за работой любимого человека, милая и умная Вера Лядовская представляется Чехову больным животным, греющимся на солнце» [61; 292, 292 — 293].
Отмечая близость писательской манеры Чехова и Мопассана: («Это [...] особенный способ изображения жизни во всей ее бесцветности, бесформенности и беспорядочности» [61, 304]), Гроссман особо подчеркивает, что «раскрыв Чехову с последней ясностью бессмысленность жизни и смерти, Мопассан внушил ему самый жуткий из всех своих ужасов - ощущение животности в человеке» [61, 310]. Сходная роль отводится Гроссманом и Э.Золя, в произведениях которого «выступает во всей своей цинической неприглядности неистребимый никакой цивилизацией зверь в человеке, доисторический дикарь, выпрямленное четвероногое» [61, 302]. С Флобером Чехова объединяет создание «непогрешимой литературной формы» и «ненависть [...] к
вечному человеческому мещанину и непобедимое презрение его к женщине-самке» [61, 312].
По мнению Гроссмана, хотя «полоса натурализма в современной французской литературе нашла в Чехове убежденного приверженца» [61, 297], все же акценты чеховского представления о человеке у русского писателя несколько иные, точнее, они смещаются со временем: «В безнадежности, вызванной личным опытом врача и школой экспериментального романа, он обратился к тем спасительным надеждам, к которым вели его и склонности его славянской души, и вековые традиции его родной литературы. В больном животном, загнанном или ожесточенном, хищном или покорном, он с тоскою и надеждою стал искать проблески нравственного начала. Понятие человечности как признак высшей духовности сделалось лозунгом его творчества и символом его веры. [...] И в заключительном выводе он с радостью признал, что в огромном человеческом стаде есть одно великое спасительное начало — дар сострадательной любви. [...] Жестокие и темные стороны жизни были оправданы этой великой человеческой способностью заливать нежностью пустыню мировых пространств, освящать кротостью ее бесплодные равнины» [61, 324].
Статья Гроссмана, несмотря на некоторую односторонность подходов, содержит немало ценных наблюдений и выводов, касающихся женских образов в творчестве Чехова, и потому позиция автора заслуживает пристального внимания современных исследователей.
Развивая идеи, высказанные Гроссманом, Г.А.Бялый замечает, что Чехов «был естественник по образованию, и это оказало громадное влияние на весь строй его мысли. Для него истины естествознания
светились поэтическим светом, и именно они, а не социально-политические доктрины, были источником коренных его представлений о жизни, сущей и должной, и о человеке» [34, 159].
В работах современных исследователей продолжаются попытки выделить доминанты художественного мира Чехова, в том числе, путем соотнесения взглядов писателя с религиозными, философским этическими и эстетическими теориями и системами его эпохи.
Проведем краткий обзор некоторых работ последних десятилетий, в которых наиболее очевидно проявлены тенденции, сложившиеся в современном чеховедении. С учетом темы нашего исследования, особое внимание будет обращено на те работы, в которых рассматриваются чеховские принципы изображения персонажей, анализируются психологические и характерологические черты, присущие его героиням, особенности создания портретных и метафорических характеристик, а также затрагиваются вопросы семейных и любовных отношений героев как непосредственной «среды бытования» женщины в большинстве прозаических произведений Чехова.
В монографии В.Б.Катаева выдвигается тезис о присутствии в чеховских рассказах второй половины 1880-х годов идущей от поэтики анекдота сюжетной оппозиции «казалось — оказалось», составляющей ядро «рассказа открытия». Главное событие такого рассказа — опровержение прежних, обычно поверхностных представлений героя о жизни: «Жизнь предстает в новом свете, открывается ее «естественный» порядок: запутанный, сложный, враждебный. Развязка также однотипна во всех случаях: герой впервые задумывается» [84, 12]. Заметим, что черты «рассказа открытия» в той или иной степени сохраняются во
многих повестях и рассказах Чехова более позднего времени.
О влиянии на творчество А.П.Чехова философии «первого позитивизма», одной из наиболее влиятельных философских систем XIX века, говорится в монографии П.Н.Долженкова. Автор исследования выдвигает тезис о «гипотетичности» и «относительности» как постоянных характеристиках человеческих знаний о мире в произведениях Чехова [69, 21]. Жаклин де Пруайар рассматривает раннюю повесть Чехова «Драма на охоте» в контексте учения Герберта Спенсера [138].
Е.Собина анализирует взаимоотношения центральных персонажей повести Чехова «Черный монах» в соотнесении с философским учением Ф.Ницше, необыкновенно популярным на рубеже XIX — XX вв. По мнению автора статьи, «идея избранничества», веры в сверхчеловека, преследует Таню Песоцкую не в меньшей степени, чем Коврина [168, 131].
Западноевропейские ученые часто применяют психоаналитический подход к изучению творчества русского писателя, считая его предшественником З.Фрейда и К.Г.Юнга, ведь, как указывает С.Гоффманн, «многие умозаключения, сформулированные после смерти Чехова, можно найти в чеховских произведениях» [53, 146].
Проводя краткий обзор немецкого чеховедения последних лет и отмечая небывалое разнообразие точек зрения на чеховский текст, К.О.Смола отмечает успешное развитие «психоаналитического» направления, в основе которого лежит убеждение, что Чехов «входит в такие области подсознания человека, которые до него в русской литературе были недоступны и запретны» [164, 14]. Автор статьи
утверждает, что «скрыто аналитический подход писателя к семейным (в частности) проблемам и его свобода в этом анализе от установленных обществом норм соответствовали «раскрепощающей» теории Фрейда, который объяснил, а потому и оправдал многое в области интимного существования человека» [164, 17]. Отсюда следует вывод, что «немотивированность», «случайность» поступков чеховских персонажей объясняется «именно их иррациональной, бессознательной природой» [164, 19].
В работе Р.Ахметшина судьба героини рассказа «На подводе» анализируется с точки зрения теории архетипов К.Г.Юнга [25]. С.А.Лишаев рассматривает героиню рассказа Чехова «Душечка» одновременно как литературный персонаж и воплощение одного из архетипических начал — «женского», «чувственного», «мягкого», «влажного», «пассивного», «материального», которое вплетается в контекст размышлений русских философов о «женственности русского характера» (ПЯ.Чаадаев, Н.А.Бердяев, Г.Флоровский). Автор исходит из посылки, что данный рассказ Чехова является не только повествованием о жизни обычной русской женщины, «одной из многих», но и «изображением "женского" как такового, "материнского" как такового и даже, пожалуй, вообще "материального" как начала жизни в его пассивном выражении, поскольку в женщине на первый план здесь выдвигается именно "женское" начало восприимчивости, рождения и вскармливания» [100, 119]. Лишаев отказывает Ольге Семеновне в наличии личностного начала, утверждая, что ее «душа остается "душечкой"» [100, 123]. Как нам кажется, подобный подход является несколько тенденциозным и «заданным»; он не учитывает динамику
этого художественного образа у Чехова и потому не может считаться исчерпывающим.
Плодотворным представляется чеховедам исследование творчества писателя с позиций мифопоэтики. Рассматривая женские образы рассказа «Студент», Н.Э.Шалагинова обнаруживает в них черты, позволяющие говорить об их включенности как в евангельский, так и в архаический мифологический ряд. При этом «оба мифологических плана соединены с планом бытовым», что приводит к созданию «нового культурного мифа», в котором в качестве вечного и неизменного выступает «универсальный закон бытия» [217, 78].
Г.Ибатуллина отмечает наличие «двух основных параллельных образов мира» в рассказе «Дом с мезонином»: «Во-первых, образ мира реального — и здесь дом с мезонином — ассоциативно-лирический, элегический образ оставленного дома, разрушающегося «дворянского гнезда», утерянной любви; во-вторых, возникает образ мира сказочного — сказочного пространства и времени. И дом с мезонином здесь — сказочный дом, или, вернее, терем, замок, из которого почти сказочным образом, неожиданно, за ночь, исчезла сказочная героиня — Мисюсь» [77, 290 — 291]. Вторая сестра, Лида при таком прочтении сближается по «сказочной функции» со «злой ведьмой» или «злой сестрой» [77, 291]. Признавая оригинальность и аргументированность выводов авторов двух последних статей, мы должны заметить, что они касаются лишь отдельных сторон чеховской художественной системы и не могут быть распространены на других чеховских героинь.
В монографии С.Сендеровича предпринята попытка рассмотрения всего творчества Чехова с точки зрения присутствия в нем мифологемы
Георгия Победоносца [158]. Сендерович указывает на разнообразные формы трансформации мифа о Георгии, девице и змее в произведениях Чехова, в которых происходит парадоксальное замещение функций персонажей: «девица» может оказываться и в роли «змея», и в роли «спасителя», что маркируется в тексте скрыто характерологическими деталями портретных описаний, жестов и поведения героини. Интересны наблюдения С.Сендеровича, касающиеся внутренней формы имен и ассоциативных характеристик чеховских персонажей [158]. В другой работе того же автора рассказ Чехова «Тина» рассматривается как художественная трансформация библейского мифа о Сусанне и старцах; в этом случае, по мнению Сендеровича, писатель «как бы переворачивает традиционный сюжет, лишая его красоты, драматичности и морали» [157, 327]. Обнаружение архетипических и мифопоэтических параллелей обычно касается отдельных героинь Чехова и до сих пор не стал предметом сколько-нибудь целостного анализа женских образов в его творчестве, но он добавляет много интересных и убедительных штрихов к осмыслению их специфики в общем контексте художественного мироощущения писателя.
Не менее актуальной для современного чеховедения оказывается и тенденция поиска в творчестве Чехова сущностных, духовных начал, связанных с традиционными христианскими ценностными ориентирами. Отражению библейских и евангельских мотивов в творчестве Чехова посвящены работы М.Прудниковой [140], Е.А.Абрамовой [16], М.А.Новиковой [119], Н.В.Капустина [81]. Авторы указанных работ исходят из убеждения, что евангельско-библейские реминисценции «являются у Чехова средством характеристики героя, способствуют
переводу повествования в более широкий пространственно-временной план, а порой определяют проблематику повестей и рассказов, оказываясь одним из слагаемых авторского взгляда на жизнь» [81, 17]. По мнению М.Прудниковой, «в рассказах Чехова ярко отразилось русское искание веры, тоска по высшему смыслу жизни. У писателя было христианское понимание значения человеческой личности» [140, 30].
Интересный опыт прочтения чеховской повести «В овраге» с точки зрения отражения в ней христианских нравственных норм предлагает в своей работе Н.Дмитриева. Признавая реальность и психологическую достоверность двух главных героинь этого произведения, Н.Дмитриева указывает на высокую степень символизации этих женских образов: «Женщина-дьявол и женщина-ангел — такой романтический контраст вообще-то не свойственен поэтике Чехова, строящейся на полутонах; «В овраге» — кажется, единственное его произведение, где противопоставление дано открыто» [68, 52 — 53].
О.Г.Самойлова, напротив, разделяет идеи, высказанные ранее Л.Шестовым, и утверждает, что основным признаком мироощущения чеховского персонажа становится утрата связи «Человек — Бог», и, как следствие, разрушение всех способов коммуникации : «перед лицом
Значительный интерес — как для построения «чеховской модели» мира в целом, так и для понимания специфики поведения и психологии персонажей в пространстве чеховского текста — представляет собой монография А.Д.Степанова, посвященная проблемам коммуникации в творчестве писателя [171]. Исследуя ролевое поведение персонажей и особенности функционирования речевых жанров (спора, проповеди, просьбы, приказа, жалобы, исповеди и др.), автор приходит к выводам о ритуализованности, смешении и парадоксальности всех форм коммуникации в чеховских текстах, приводящих к тотальному непониманию и «провале коммуникации» в общении как глобальной закономерности изображаемого мира. Ранее о «провале коммуникации» как одной из трех констант чеховского художественного мира (наряду с «культурой штампов» и «надо и нельзя») писал Ю.К.Щеглов [222, 23 — 24].
маячащей впереди, надвигающейся на него смерти, за которой нет ничего, он не слышит ни себя, ни другого, ни Бога. В этом безжалостном, равнодушном, неотвратимом потоке [времени — движения к смерти — П.Ч.Х.] [...] каждый сам за себя и для себя» [150, 508].
Хотя исследование философских и религиозных установок писателя и мифопоэтических истоков образов его произведений и не входит в задачу настоящего исследования, на наш взгляд, их необходимо учитывать при изучении художественной структуры его текстов. Имея в виду замечание К.И.Чуковского о том, что «для эстетики Чехова художественная откровенность просто невыносима» [215, 4], мы считаем безусловно важным для выяснения авторской позиции писателя и его отношения к изображаемым им героям внимательное отношение ко всем концепциями и гипотезам, существующим в современном чеховедении.
Отдельные женские образы в творчестве Чехова часто становятся предметом сопоставительного изучения. В отличие от исследований чеховедов 1970 — 1980-х гг., проводивших анализ творчества Чехова в сопоставлении с близкими ему по времени написания произведениями Л.Н.Толстого и писателей-народников, в работах литературоведов последних лет возможный контекст рассмотрения чеховских рассказов и повестей значительно расширяется.
Отчетливо прослеживается тенденция соотнесения творчества Чехова как «завершителя» традиций русской классической литературы и Пушкина как ее основоположника. Разные аспекты этой проблемы рассматриваются в работах И.Н.Сухих [180], А.П.Чудакова [214], Е.Н.Григорьевой [57], В.А.Кошелева [91], Б.М.Марковича [106], Н.Ф.Ивановой [78] и др. Е.М.Сахарова обнаруживает «сложнейшую,
глубинную связь» между героиней пушкинского «Евгения Онегина» и женскими персонажами чеховского рассказа «Радость» и повести «Черный монах». Автор говорит об эволюции, произошедшей с русскими «уездными барышнями» со времен Пушкина до конца XIX века — времени жизни героинь Чехова: «Внутренняя гармония, верность своему слову, душевная ясность, великодушие, характерные для Татьяны Лариной, заменены в Тане Песоцкой инфантильностью и нервозностью» [152, 160].
Помимо Пушкина, возможный материал для сопоставительного анализа чеховеды находят в произведениях Н.В.Гоголя, В.Шекспира, а также французских натуралистов и западноевропейских символистов. В женских образах произведений Чехова Л.П.Гроссман обнаруживает влияние художественной системы Мопассана (Юлия, героиня повести «Три года» — Жанна, героиня «Жизни» Мопассана), Э.Золя (Аксинья в рассказе «В овраге» — дочь Жэзю Кри в романе «Земля») [61, 304]. Сопоставлению героинь рассказа А.П.Чехова «Душечка» и повести Г.Флобера «Простая душа» посвящена статья Н.Е.Разумовой [142]. М.М.Одесская находит общие черты в способах изображения героинь в драматургии Чехова и Г.Ибсена. Это соединение «актуальных проблем современности, психоаналитического исследования индивидуальных особенностей поведения личности с поэтическими образами фольклора и мифологии» [122, 129 — 130], при этом связь чеховских женских образов с мифологической традицией «менее конкретна, едва уловима», отчего они «приобретают большую емкость и универсальность» [122, 134].
Исследуя интертекстуальные связи рассказа Чехова «Ведьма», Е.В.Джанжакова [67] находит здесь аллюзии гоголевских персонажей и
сюжетные аналогии с пушкинской «Метелью». Однако у Чехова
традиционные сюжеты и образы в значительной степени
трансформируются, утрачивая первоначальную смысловую
наполненность.
Тенденции пародирования, юмористического снижения или скрытой иронической стилизации Чеховым центральных мотивов и сюжетообразующих элементов произведений русской и мировой художественной литературы рассматриваются в работах А.В.Кубасова [93], Э.С.Афанасьева [24], Л.Е.Кройчика [92] и др. Э.С.Афанасьев в своей монографии дает системный анализ произведений Чехова в аспекте доминирующего в творчестве писателя «иронического модуса» [24]. «Чеховский герой, — указывает автор в другой работе, — обделен «даром проникновения в жизнь», то есть понимания сложной «механики» жизнеустройства. И когда он осмысливает свое положение, мир отражается в его сознании причудливо, парадоксально, комично» [23, 11].
Л.Е.Кройчик отмечает присущую значительному числу чеховских персонажей склонность к «замене реального мира миром иллюзорным», проявляющуюся в охотной игре в любовь, порядочность, в «убеждения», в уважение к окружающим, в протест. В том, что все скрывают свое настоящее лицо, играют не свои роли, Кройчик видит «всеобщий закон поведения» изображаемого Чеховым мира, форму «своеобразной социально-нравственной мимикрии, позволяющей не только устоять, но и преуспеть» [92, 19]. Выводы Кройчика, касающиеся в основном ранней новеллистики Чехова, оказываются применимыми к значительной части персонажей его зрелой прозы и драматургии.
Ж. де Пруайар рассматривает чеховскую повесть «Драма на охоте»
как карикатурное снижение традиционного романтического сюжета «о гордом человеке и дикой девушке», чему способствует, среди прочего, трансформация мотива дуэли: «Камышев [...] не убивает соперника на дуэли из револьвера: он убивает его отвратительным образом: лжесвидетельством (Урбенина) или презрением (графа). Зато он убивает варварским образом изменницу, своевольную, как Земфира [героиня поэмы А.С.Пушкина «Цыганы» — П.Ч.Х.], девушку с дикой фантазией, воспитанную лесами, озером и романами. Мотив дуэли снижается до смешного» [139, 116].
Л.Л.Горелик находит, что образ Наташи Прозоровой («Три сестры») включает в себя элементы пародийного снижения толстовской героини Наташи Ростовой [52]. Е.Ю.Виноградова рассматривает влияние комедий и трагедий Шекспира на художественный мир Чехова, отмечая комическое снижение традиционных шекспировских мотивов ревности и страстной любви [38].
О возможности прочтения рассказов Чехова «В море» и «Душечка» как «конструктивных пародий» произведений французских писателей В.Гюго (роман «Труженики моря») и Г.Флобера (новелла «Простая душа») пишет в своей статье Р.Г.Назиров [115]. Исследование заявленной Л.П.Гроссманом темы связи творчества Чехова с художественной манерой Мопассана продолжает З.С.Паперный [128]. В качестве принципиально важных различий автор выделяет способ существования героя в окружающем мире (если у Мопассана герой «спорит с жизнью и проигрывает», то «герой Чехова чаще всего спорит с самим собой» -[128, 59]) и среду бытования героев («У Чехова жизнь состоит не из событий, а из того, что между событиями. Главная сфера его изображения
не исключительное, как часто у Мопассана, а привычное, долговременное, хроническое» - [128, 60]).
Синтетизм3 художественного мироощущения Чехова позволяет исследователям обнаруживать связи его произведений не только с близкими по времени литературными творениями, но и явлениями иной жанровой принадлежности. В статье И.В.Грачевой обращается внимание на близость сюжетных линий некоторых рассказов Чехова и картин художников-передвижников (Флавицкого, Верещагина, Васнецова, В.Маковского, В.Бакшеева и др.), при этом трактовка сходных мотивов и ситуаций не всегда оказывается одинаковой. Так, мотив «неравного брака», объединяющий одноименную картину В.Пукирева и чеховскую «Драму на охоте», имеет у писателя нетрадиционное решение: «жертвой» такого союза оказывается не юная невеста, а «стареющий жених [Урбенин — П.Ч.Х.], решившийся соединить свою судьбу с хорошенькой, но тщеславной и эгоистичной девушкой» [54, 42].
Основным выводом, который можно сделать из значительной части сравнительно-литературоведческих работ, является мысль о постоянном сочетании в произведениях Чехова сознательной ориентации на «чужой текст» с одновременным его обыгрыванием, пародированием, стилизацией и стремлением писателя к переосмыслению традиционных
J О синтетичности художественного мышления Чехова, отразившейся в его новаторских по духу произведениях, пишет Н.М.Фортунатов. Чехов, по представлениям автора статьи, «словно разрушал границы между поэзией и прозой, прозой и музыкой; создавая словесное полотно, работал как живописец-импрессионист, а оставлял впечатление, подобное тому, какое вызывает в нашей душе мелодия, глубоко, искренне нас волнующая»; он «каким-то таинственным образом оказался близок решительно всем без исключения в пестром хороводе искусств нашего столетия, да еще с их повышенной тягой к экспериментам, к новациям» [191, 49].
сюжетных ходов и персонажных характеристик. Выявление литературных «прототипов» чеховских героинь (с учетом «тенденции отталкивания») позволяет рельефнее обозначить художественные принципы Чехова в создании женских образов его произведений.
Внимание исследователей чеховского творчества привлекает поиск возможных прототипов героев и героинь его произведений. Назовем некоторые из работ этого направления, связанных с женскими образами прозы Чехова. Прототипам персонажей «Бабьего царства» посвящена статья П.С.Попова [136]. По мнению Ю.Н.Скобелева, почитательница творчества и таланта Чехова О.Р.Васильева имеет некоторое сходство с Оленькой Племянниковой, героиней рассказа «Душечка» [163]. М.С.Волошина обнаруживает общие биографические черты у другой знакомой Чехова, М.К.Доленко, и Кисочки, героини повести «Огни» [39]. А.Н.Золотов считает, что некоторыми деталями внешнего облика и поведения героиня рассказа «Дама с собачкой» Анна Сергеевна обязана ялтинской знакомой Чехова Р.Н.Руновской (Степановой) [76].
Изучение новых, не публиковавшихся ранее архивных источников помогает биографам писателя раскрыть неизвестные детали его частной жизни, что способствует переосмыслению и уточнению авторского взгляда на сюжеты, образы героев и героинь его произведений. Один из примеров подобной работы — биография Чехова, принадлежащая перу профессора Лондонского университета Д.Рейфилда [12, 105].
Пристальное внимание биографов и литературоведов привлекают, среди прочего, такие стороны его жизни, как отношения писателя с близкими ему женщинами, которые нашли опосредованное отражение в женских образах его произведений. Имена Е.М.Шавровой,
Л.С.Мизиновой, Л.Б.Яворской, Л.А.Авиловой, О.Л.Книппер, сыгравших большую роль в жизни писателя, неоднократно упоминаются в целом ряде статей и монографий. В книгах А.В.Кандидова [80], Ю.А.Бычкова [33], З.С.Паперного [129], Вл. Рынкевича [148], Е.Толстой [184], статьях Вл.Лавришко [95] и Л.М.Садыш [149] предпринимаются попытки связать отдельные моменты жизни писателя с некоторыми мотивами, сюжетами и персонажами его произведений. Не все из приведенных авторами версий и оценок вызывают безоговорочное признание, но они дополняют как представление о характере и личности самого Чехова, так и о возможном отношении писателя к изображаемым им женским персонажам и способах художественной трансформации «жизненного материала», используемого им.
Помимо поисков концептуальных начал изображаемого писателем мира, литературоведы рассматривают вопросы о новаторстве Чехова в области поэтики, в том числе, и в способах изображения персонажей (приемы портретного описания героя; роль художественной детали как в характеристиках персонажей, так и в создании окружающего их «предметного фона»; особенности выражения авторской позиции в произведении и др.).
М.П.Громов [60] считает, что чеховский лаконизм, проявившийся и в манере изображения персонажей, был порожден новым «способом мышления», возникшим в русской литературе рубежа веков. Автор указывает на то, что Чехов «не просто иначе (короче) строил фразу, но, вероятно, иначе представлял себе описываемый ею образ» [60, 143]. При этом обнаруживается принципиально новый подход к одному из важнейших способов создания образа персонажа— его портрету. По
замечанию М.П.Громова, у Чехова «традиционное портретное описание замещено системой знаковых деталей и сложных метафор, которые позволяют читателю вообразить, представить себе облик персонажа, не предлагая ему столь чеканных и точных, как это было в романе, портретных форм» [60, 144]. Автор статьи стремится выявить определенную последовательность способов и приемов создания портретных характеристик героев, свойственных поэтике Чехова. Громов указывает, что писатель «не совершенно отказался от описания, но существенно сократил его, сведя портрет к нескольким сильно акцентированным деталям» [60, 144]. «Особенность подобных портретных описаний, — отмечает Громов, — заключена в их мгновенности» [60, 144]. Отсюда — важность каждого элемента портретной зарисовки, ведь любой из них может оказаться ключевым в раскрытии образа персонажа.
Специфика чеховских портретных описаний побуждала литературоведов к поиску «системы координат», позволяющей сравнивать методы писателя с художественными системами его предшественников и современников. В статье З.С.Паперного «Деталь и образ» [126] выдвигается тезис об «открытом» портрете героини у Толстого («во всех подробностях ее облика стихийно прорывается ее душа, все ее существо» [126, 156]) и «приоткрытом» — у Чехова («создавая, казалось бы, закрытый портрет героини, старательно и напряженно прячущей свои чувства, Чехов все время приоткрывает маленькое окошечко в ее внутренний мир» [126, 157]). Влиянию традиции «газетного романа» на чеховскую повесть «Драма на охоте» и отталкиванию от этой традиции, проявившемуся, среди прочего, и в
способах изображения женских персонажей, посвящена статья Л.И.Вуколова [43].
Если в дочеховской литературе связь портретных характеристик с психологическими чертами и поведением персонажа была безусловной, то Чехов во многом нарушает предшествующую традицию, меняя акценты, создавая новые способы портретного описания, а также изображения характеров и личностных качеств своих героев. Роль предметной среды как способа характеристики персонажей анализируется А.П.Чудаковым. На материале рассказа «Попрыгунья» автор статьи рассматривает соотношение в художественном мире Чехова «характерно-индивидуальных» и «собственно-индивидуальных» деталей. Существенная сторона явления или характеристики героя выражается, по мысли Чудакова, деталью «не просто индивидуальной, но резко индивидуальной, гротескно индивидуальной» [212, 190]. Собственно-индивидуальные детали (или «подробности», как называет их Чудаков), связанные со смыслами «второго ряда» художественной системы, придают чеховскому повествованию черты неповторимости, единичности. Предметная среда, окружающая героиню рассказа, является, по мнению автора статьи, дополнительным способом ее характеристики. В чеховских произведениях сочетание «редких», исключительных и второстепенных, внешне «необязательных» деталей способствуют созданию ««нетронутого» поля бытия вокруг ситуации и личности» и целостного изображения мира [212, 193].
Н.Я.Берковский, отмечая устоявшийся характер и всеобщий детерминизм «дряхлеющего» мира, в котором существуют чеховские герои, особо подчеркивает роль «вещи» как эквивалента живого человека:
«Вещи вокруг человека впитали его чувства и мысли, трудно разобрать, ему ли они принадлежат, или же сами вещи так и родились с характерным для них моральным колоритом» [30, 50]. Обратный процесс — «овеществление» человека — является одним из крайних проявлений дегуманизации и омертвения мира.
Два типа художественного психологизма — «толстовский» и «чеховский» — рассматриваются в статье А.Б.Есина. По мнению автора, Чехов, в отличие от Толстого, «не ставит своей задачей долго и подробно рассказывать обо всех мельчайших деталях внутреннего мира героя, с тем, чтобы представить его сознание и психику с максимальной полнотой. Он старается найти и художественно воссоздать прежде всего доминанту внутренней жизни героев, передать ведущий эмоциональный тон, психологический настрой персонажа, воспроизвести внутренний мир человека не аналитически, а синтетически. Чехов как бы минует стадию расчленения психики на ее составляющие, он сразу воссоздает ее во всей целостности» [72, 74].
В статье Н.А.Кожевниковой обращается внимание на такое явление, как двуплановость чеховских характеристик персонажей: «Человек в изображении Чехова раздвоен, совмещая в себе противоположные черты. Формула «Двое в одном», вынесенная в заглавие раннего рассказа, определяет сущность многих персонажей Чехова» [88, 3]. Формы раздвоенности — самые разнообразные. Это может быть: противопоставление внешнего и внутреннего как ложного и истинного; наружности персонажа и его поведения, характера и рода занятий; поведения персонажа и его психологического состояния; столкновение реальности и восприятия персонажа (часто становящегося источником
«двойных портретов, основанных на контрасте» [88, 13]); объективного изображения персонажа и его самооценки; реального и воображаемого мира в сознании персонажа и т.д.
Л.Д.Усманов говорит о необходимости учитывать такое свойство чеховской поэтики, как «эффект сложения», в применении к изображению персонажей предполагающее «сложение, соединение и сжатие» таких разнородных структурных компонентов, как внутренний монолог, поведение другого персонажа, пейзажные, жанровые, портретные, биографические и иные зарисовки, смысло-речевые элементы, что в целом служит возрастанию «смыслового накопления повествования» [189, 135].
В монографии Л.М.Цилевича, посвященной сюжету чеховского рассказа, вводится понятие «ассоциативного портрета» как специфического явления чеховской поэтики. Подобный портрет складывается из сочетания прямых авторских ремарок и «ассоциативного подтекста», сопровождающего описания героев в некоторых произведениях Чехова («Учитель словесности», «Дама с собачкой» и др.) [193].
А.С.Страхова считает, что в ранней прозе Чехова портретные характеристики его героев (как и такие компоненты его «первичной характеристики», как указания на пол, возраст, имя, социальное положение) носят характер «условного знака, который, отсылая читателя к фактам внелитературной действительности, лишь вводит героя в определенный ряд» [173, 6], воспринимаемый читателем как проекция «общеизвестного».
В.Б.Катаев выделяет у Чехова два способа создания характеров
персонажей: «Один состоит в обозначении сущности человека через характерную для него фразу, жест, действие. Слово-метка, жест-метка несколько раз повторяются персонажем и легко закрепляются за ним в сознании читателя [...]. Другой способ создания персонажей состоит в наделении их постоянно текучей, изменчивой, заранее не предсказуемой, нередко решительно меняющейся и не сводимой к общим характеристикам психической жизнью» [85, 166]. Использование первого способа говорит о чеховской убежденности в том, что «характер такого персонажа исчерпывается его излюбленной фразой или жестом», а сами повторы являются «сильнейшим индикатором авторской иронии» [85, 167]. Напротив, отсутствие жесткой определенности во внешнем облике и поступках героя (Катаев обращает внимание на обилие в этом случае слов «вдруг» и «почему-то» при описании мыслей и поступков персонажа) свидетельствует о возможности духовной эволюции. Э.А.Полоцкая акцентирует внимание на другой функции чеховских художественных повторов, утверждая, что если «образ, повторяясь, развивается», то это должно означать, что «вместе с ним меняются жизнь и люди, которых изображает художник» [134, 232].
Выдвигая тезис о «непривычно высокой мере условности персонажей Чехова в сравнении с предыдущей литературной традицией», А.В.Кубасов пытается классифицировать способы изображения героя, характерные для поэтики писателя. В своей монографии [93] автор выделяет «принцип гримировки», который состоит в том, что герой «оказывается похож на какой-либо социально-профессиональный тип, известный персонаж искусства, или же историческое лицо»[93, 73], причем налицо «расхождение внешне-ролевого и внутренне-личностного
начал» [93, 74]. Иногда портрет героя «стилизуется в нескольких кругозорах: себя герой видит в одной роли, окружающие видят его в другой, автор — в третьей», причем изменение ролей или авторского видения приводит к переходу от «статического» портрета к «динамическому» [93, 74]. Одним из способов портретного описания персонажа является «жестовый портрет», тесно связанный с атмосферой «театра жизни», которая, по мнению Кубасова, постоянно присутствует в произведениях Чехова [93, 75]. Придание герою явного или скрытого сходства с животными (птицами, насекомыми и т.д.), частое в поэтике Чехова, Кубасов называет «анимализацией» [93, 46 — 47].
Авторы, исследующие связи мироощущения Чехова со взглядами позитивистов, часто обращают внимание на «анималистический», «дарвинистский» подход писателя к изображению своих персонажей. Так, Пруайар отмечает «животность» чеховской героини Оленьки Скворцовой («совершенный женский организм по своей дикой красоте и грации, не умеет жить и чувствовать выше уровня своей животности» [138, 221]), что на уровне текста отмечается сравнениями то со змеей, то с красивой кошкой, то с ящерицей.
В.И.Мильдон отмечает особую смысловую нагрузку, которую несут анималистические сравнения у Чехова. Их многочисленность и повторяемость («подобными сравнениями человека с низшими формами органической жизни можно заполнить не одну страницу») свидетельствует, по мнению автора, «об ощущении писателем бытия безостановочно деградирующим, причем люди не замечают этого, а кто замечает, бессилен помешать» [ПО, 144].
Предполагая проследить в своей работе изменение чеховских
подходов к изображению женщины (от создания кратких портретных зарисовок к показу вариативного поведения героинь в социальной среде и, далее, к изображению сложной духовной жизни, которой оказываются наделены лишь некоторые героини), мы будем отталкиваться от рассмотренных выше наблюдений и выводов, сделанных исследователями творчества Чехова во все предшествующие годы.
Отдельного рассмотрения требует, на наш взгляд, вопрос о
характерности чеховских героинь, степени их типизации или
индивидуализации, также неоднократно поднимавшийся
литературоведами.
Свое понимание терминов «характер» и «личность» в применении к чеховским персонажам предлагает В.И.Тюпа. Поддерживая высказанную И.Н.Сухих [178] идею о «взаимопроникновении и взаимопреображении анекдотического и притчевого начал» в поэтике Чехова, автор монографии видит своеобразие его творческой манеры в том, что «в центре художественного внимания писателя оказывается не столько характер человека, сколько его личность, иначе говоря, общечеловеческая (угол зрения притчи) природа индивидуальности (угол зрения анекдота) - природа внутреннего «я», составляющего фундамент любого характера, складывающегося под воздействием внешних обстоятельств» [187, 32]. Чехов, как пишет Тюпа, «резко нарушил завоеванное реалистическим романом единство характерного и личного в литературном образе человека» [187, 34]. По мнению исследователя, «характер и личность - не только в литературе - представляют собой понятия смежные, но не тождественные. О личности мы судим по ее характеру, она обладает определенной социально-психологической
характерностью, но порой поступает, мыслит, чувствует и вопреки этой своей определенности. Личность - внутренняя сторона характера, тогда как характер - внешняя сторона личности» [187, 32 — 33]. Иными словами, «характер - это социальная обособленность человека, его ролевой, типажный психологический облик, сформировавшийся в системе внешних обстоятельств жизни и так или иначе вписанный в нее. Личность же - индивидуальная форма общечеловеческого, которое отнюдь не внесоциально» [187, 34].
Точка зрения В.И.Тюпы значительно отличается от господствовавшего в советском литературоведении понимания термина «личность» как «исторически-конкретной совокупности общественных отношений» [154, 7] или признака «людей с героическими потенциями, самостоятельно мыслящих» [18, 47].
Как указывает В.И.Тюпа, ««Личностность» человека есть его единичность, но одновременно и всеобщность, поскольку быть личностью — это специфически человеческий способ существования. «Характерным» же зовут лишь то, что свойственно определенной категории людей, а не каждому. Характерное в равной степени противостоит как универсальному, так и уникальному - объединяющимся в личностном. На этой всеобщности единичного человеческого бытия и основывается, по-видимому, чеховский метод типизации» [187, 34]. Характер чеховского персонажа определяется его личностью, он проявлен во внешних (социальных, экономических, бытовых) отношениях, но далеко не всегда отражает истинную сущность рассматриваемого героя, как, впрочем, далеко не каждый персонаж, наделенный даже сильным характером, обладает развитой «личностностью»: «Демонстративно не
срастаясь с внутренним «я» героя, характер чеховского персонажа прочно соединяется с его внешним обликом, с социальным «футляром» личности» [187, 35]. Для того, чтобы быть личностью, чеховский герой должен обладать не только внешней, но и внутренней, духовной жизнью, системой гуманистических моральных ценностей, которые он готов отстаивать в борьбе с жестокостью внешнего мира, ведь «личность, как в плане историческом, так и психологическом, есть продукт ответственной самоактуализации человеческого «я». Характер же формируется в ходе социальной адаптации личности к внешним обстоятельствам и нормам, к окружающим ее лицам» [187, 34]. «Именно концепция личности, — пишет далее автор, — и составляет эпицентр художественного содержания чеховских рассказов зрелого периода, придавая им тональность глубокой, специфической философичности» [187, 36]. Мы предполагаем использовать предложенное исследователем разграничение «характера» и «личности» чеховских персонажей в нашей работе.
Сходную точку зрения (правда, в несколько иной терминологии) высказывает А.С.Собенников, отмечающий, что «Чехова интересует не механизм взаимоотношений личности со «средой» (что находится в центре внимания его предшественников) [то, что В.И.Тюпа называет «характером» — П.Ч.Х.], а то, как функционирует «родовое» под прессом внешних факторов, интересует мера человеческого и человечности» [167, 60], т.е. собственно «личностные» (универсальные и уникальные) качества героя. Определение соотношения социально-характерного и личностного начал в женских образах прозы Чехова в разные периоды его творчества является одной из задач данного исследования.
Типология женских образов в творчестве Чехова никогда не была
предметом специального исследования, но многие авторы касались этого вопроса либо при попытках определить общие принципы типологии чеховских персонажей, либо высказывая замечания об отдельных группах женских персонажей, объединяемых по какому-либо признаку. Если предлагаемые чеховедами разделения персонажей по «внутренним» признакам (духовности/бездуховности, личностности/характерности), как правило, не имеют тендерных разграничений, то классификация персонажей по «внешним» признакам (социальное и семейное положение, род занятий) всегда включает в себя половую принадлежность. Примером «смешанной» типологии можно считать замечание И.Ю.Твердохлебова о том, что «Чехов создал множество рассказов о женщинах — «дамах», «женах», «барышнях», «институтках», «загадочных натурах», «розовых чулках» и, с другой стороны, о девушках, ищущих путей к новой жизни, подобно «невесте» Наде Шуминой» [181, 289].
Интересный (хотя и неполный, на наш взгляд) вариант классификации женских персонажей в произведениях Чехова предлагает А.В.Кубасов. Девушки и молодые женщины высшего сословия делятся на «институток» и «курсисток». Первых отличает «мечтательность, избалованность, обидчивость, экзальтированность, способность уноситься в «высь поднебесную»», институтки мечтают об идеале и о женихе с «идеями». «Курсистки», в отличие от них, ««ученее», эмансипированнее, сильнее ориентированы на социальные проблемы» [93; 130, 129, 131]. Кубасов предлагает также разделение замужних героинь Чехова на «жен» (или «верных женок») и «супруг» (изменяющих мужу), отталкиваясь от названий одноименных рассказов. Он считает, что «употребление этих слов автором часто оказывается скрыто
характеристичным» [93, 121]. Кубасов утверждает также, что значительной мерой условности, потайным эмблематическим смыслом обладают у Чехова и имя, и возраст, и национальность героев. К примеру, двадцать три года — это «рубежный возраст» для многих чеховских героинь (Ольга Ивановна — «Попрыгунья», Варя Шелестова — «Учитель словесности», Лида Волчанинова — «Дом с мезонином», Софья Львовна — «Володя большой и Володя маленький», Надя Шумина — «Невеста»). В этот момент своей жизни они «стоят на перепутье, прощаются с надеждами молодости и переходят к осознанию суровых реалий жизни» [93, 273].
В.Л.Теуш выдвигает оригинальную версию о присутствии в прозе Чехова такого женского типа, как «ведьма» [182]. При этом среди чеховских «ведьм» автором выделяются разновидности: «классическая ведьма» («Анна на шее»), «ведьма-кровосос» («Супруга»), «очаровательная ведьма» («Ариадна»). И.Н.Сухих пишет об архетипах чеховских женщин-хищниц и «душечек» [177, 31].
Определение степени соответствия рассмотренных выше типологических концепций реалиям чеховского художественного мира представляет собой одну из задач настоящего исследования.
В своей работе мы будем придерживаться периодизации творчества Чехова, предложенной А.П.Чудаковым. Исследователь определяет временные границы трех периодов творчества Чехова с преобладанием различных структур повествования (1880 — 1887 — «субъективная», в аспекте рассказчика, 1888 — 1894 — «объективная», в аспекте героя, 1895 — 1904 — в аспекте повествователя, сливающегося с аспектом персонажа). Эти периоды в основном соответствуют периодизации,
предлагаемой другими чеховедами ([34], [29], [178] и др.). Мы считаем, что смена повествовательной структуры означала для Чехова не просто поиск новых художественных средств, но и отражала глубинные перемены в отношении автора-повествователя к изображаемому им событийному и персонажному ряду. Отсюда - актуальность концепции Чудакова для наблюдения над процессами трансформации и эволюции сквозных чеховских образов, в первую очередь - женских.
Подводя итог обзору литературоведческих исследований, следует отметить, что несмотря на разнообразие и многоплановость поднимаемых в них вопросов, проблема женских образов в творчестве Чехова остается недостаточно изученной и требует отдельного рассмотрения. Ее исследование на максимально расширенном материале прозы писателя, выявление типологии женских образов, специфики портретных описаний женских персонажей, определение соотношения «характерного» и «личностного» начал у чеховских героинь на разных этапах творческого пути писателя представляют собой задачи настоящего исследования.
Нам видится перспективным анализ женских персонажей в прозе Чехова в свете высказанной Альбовым, Гроссманом и их последователями идеи о «животной сущности», увиденной писателем в человеке и раскрывающейся в той или иной степени в разнообразных жизненных ситуациях, в которых оказываются его герои. На наш взгляд, чеховские явные или скрытые обозначения своих персонажей путем сопоставления их с представителями животного мира всегда имеют характерологический оттенок, и в первую очередь это касается образов женщин.
Способы создания женских образов в ранних рассказах и повестях АЛ.Чехова (1880 - 1887)
Ранняя проза Чехова включает в себя большое количество произведений, подписанных различными псевдонимами (Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Брат своего брата и др.), которые предназначались чаще всего для публикации в юмористических журналах и газетах («Стрекоза», «Осколки», «Будильник» и др.), так называемой «малой прессе». В 1880 - 1887 гг. Чеховым было написано несколько сотен произведений, среди которых, помимо коротких рассказов, сценок, юморесок и подписей к рисункам, есть повести «Ненужная победа», «Зеленая коса», «Цветы запоздалые», роман «Драма на охоте».
Рассказы первых лет были изданы в сборниках «Сказки Мельпомены» (1884), «Пестрые рассказы» (1886, переиздания 1891 и 1899), «Невинные речи» (1887), «В сумерках» (1887) и др. Значение «малых» юмористических рассказов для творчества Чехова по-разному оценивалось литературоведами. Как указывает И.Н.Сухих, «иногда заметна тенденция «растворить написанное Чеховым в литературной продукции эпохи и представить его писательский путь как движение от развлекательности и безыдейности к «серьезу», что покрывается привычной формулой «от Чехонте к Чехову». Противоположная крайность — в стремлении увидеть едва ли не в каждом чеховском «пустяке» 80-х годов тургеневские психологические глубины или щедринский сатирический пафос» [178, 35]. По мнению З.С.Паперного, «если бы Чехов не написал ничего, кроме рассказов первых лет, он и тогда вошел бы в русскую литературу как непревзойденный мастер смеха, тонкий, умный, насмешливый писатель» [125, 7].
М.Е.Елизарова отмечает, что в юморесках Чехова, написанных для журналов «Стрекоза», «Будильник» и др., «выбор тем ограничивался
исключительно узким кругом семейно-бытовых отношений: сварливые тещи, провинциальные кисейные барышни, соревнующиеся в ловле женихов, скупые или расточительные жены, несообразительные мужья, дамы, ищущие развлечений» [71, 12]. Подчеркивая, что Чехов, «сам выходец из мещанской среды [...] особенно остро ненавидел ее психологию, понятия, весь уклад ее жизни» [71, 22], автор приходит к заключению: «Изображая мир обывателя, его быт, психологию, внешность, Чехов всегда выдвигает на первый план самые мелкие ничтожные подробности, ибо именно это ничтожное, незначительное и составляет существо бытия данной среды» [71, 25].
О персонажах ранних юмористических рассказов Чехова В.Я.Линков говорит, что их «можно охарактеризовать названием одного рассказа писателя тех лет — мелюзга: мелкие чиновники, дрожащие перед начальством; гимназисты, не выучившие урок; девицы, мечтающие о замужестве; молодые люди, ускользающие от брачных уз. Герои ранних рассказов Чехова отмечены «смешными» фамилиями (Подзатылкина, Ахинеев, Прачкин, Козявкин, Невыразимое, Дворнягин), как бы выводящими их из круга серьезных человеческих проблем и отношений. Из героев русской литературы к ним ближе всех гоголевские персонажи. [...] В ранних рассказах Чехова изображен «маленький» человек не в смысле низкого социального происхождения, как у Гоголя, Пушкина, Достоевского, а как человек, совершенно не связанный с большим миром истории и культуры, человек, полностью погруженный в атмосферу частного бытия» [97, 14]. Эти замечания можно отнести, на наш взгляд, и к значительному числу женских персонажей ранних юмористических рассказов. Особенности творческой манеры Чехова складываются именно в эти годы, и потому ознакомление с приемами и способами создания женских образов в ранних рассказах писателя помогает понять, какими путями шел автор к собственной концепции женщины в литературном произведении.
«Матрицу» жанров чеховской беллетристики 1880-х годов И.Н.Сухих определяет следующим образом: «подпись к рисунку — «мелочишка» в разнообразных ее формах и трансформациях — рассказ-сценка — повествовательный рассказ — повесть» [178, 51]. Самым «нижним» жанром чеховской «осколочной» жанровой системы И.Н.Сухих называет подписи к рисункам, уточняя, что это «не литературный, собственно, а синтетический, графически-словесный образ, своеобразный комикс 1880-х годов» [178, 45]. Среди персонажей таких «комиксов» значительное место занимают образы женщин, принадлежащие к различным социально-психологическим «типам».
В графическом цикле «Свадебный сезон» (1881) мы видим несколько женских персонажей. Вот изображение невесты под руку с женихом. Симпатичное девичье лицо с опущенными глазками и улыбкой на губках «бантиком» сопровождается подписью: «Невеста. Прекрасна и невинна. Выходит замуж по любви» (3, 449). Очевидно, характер девушки исчерпывается этим кратким представлением, она совершенно такая же, как и тысячи других невест. В то же время, отчетливо ощутимый заряд иронии, вложенный в эту характеристику, позволяет предположить, что она может служить отправной точкой для целого ряда сюжетных коллизий.
Почти водевильные характеры представляют собой другие участницы «свадебного сезона» — мать невесты и посаженая мать жениха. Первая - старушка в платочке с суровым выражением лица — характеризуется как «гроза супруга», которая «20-го числа каждого месяца ходит в присутственное место и получает вместо мужа жалованье. Мужа величает разбойником, антихристом и егозой» (3, 449). Чеховская характеристика дополняет впечатление от портрета, показывая женщину с тяжелым характером, «домостроевскими» представлениями о жизни, набожную и властную. Посаженая мать жениха в кокетливом чепчике, напротив, выглядит на портрете как кумушка, любящая выпить и повеселиться, что и подтверждается подписью, сопровождающей ее портрет: «Петербургская тетушка. Говорит в нос и презирает «невежество». Молодость провела бурно» (3, 450). В парадигме чеховских женских образов эти представительницы могут указывать на возможные дальнейшие варианты судьбы «прекрасной и невинной» невесты.
В следующей серии Три рисунка (1883) даны иные женские персонажи, также характерные для прозы Чехова. Молодая красивая женщина, сидящая на кушетке и любующаяся на свое изображение в зеркале, произносит фразу: «А еще дворники смеют утверждать, что у меня нет вида!» (3, 459). Юмор здесь основывается на игре слов: внешний «вид» и «вид» на жительство, т.е. документ, который может интересовать дворников. Но читатель того времени понимал, что отсутствие «вида на жительство» часто было проблемой женщины легкого поведения, следовательно, молодая дама отличалась не слишком высокими моральными устоями, что, впрочем, не сильно ее волнует.
Трансформация женских образов в прозе Чехова второй половины 1880-х-первой половины 1890-х годов
Начало второго периода в творчестве Чехова в большинстве исследовательских работ связывается со второй половиной 1880-х годов -временем, когда писатель постепенно отходит от писания юмористических сценок и рассказов, востребованных журналистикой «малый форм», и вплотную приближается к созданию драматургии и прозы, принесшей ему всемирную известность. При этом заметно меняется и стилистика произведений писателя. На смену ироническому обыгрыванию литературных штампов и следованию жанровым условностям «осколочной» юмористики приходят новые художественные средства, которые помогают раскрытию характеров героев.
И.Н.Сухих считает, что для Чехова новый этап творчества начался с написания повести «Степь», указывая при этом, что Чехов рассматривал свою повесть как пропуск в «большую литературу»: «Пусть за плечами было почти десятилетие литературной работы, сотни рассказов, большие вещи вроде «Драмы на охоте» и «Ненужной победы», фельетонные обзоры и театральные рецензии, в конце 80-х годов субъективно все это вроде бы не в счет, путь начинается словно с чистого листа» [178, 68].
В письме А.В.Суворину Чехов излагает свое новое понимание роли автора в художественном произведении: «Художник должен быть не судьею своим персонажам и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем [...] Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь» (П2, 280 — 281). Отмечая изменения в художественной структуре произведений этого периода, Г.П.Бердников утверждает, что «во второй половине восьмидесятых годов у Чехова сложились довольно определенные и устойчивые требования к искусству. Он считал, что писатель должен быть объективным в своем творчестве. Субъективность он отождествлял с предвзятостью, дурной, узкой тенденциозностью в искусстве, приводящей к искажению правды жизни» [29, 120]. Под объективностью при этом следует, видимо, понимать, отказ от демонстрации авторской позиции в изображении героев и ситуаций, признание правомочности, множественности различных точек зрения, что на повествовательном уровне реализовалось в переходе от «субъективной манеры» (с прямыми обращениями автора к читателю, выразительными эмоциональными оценками персонажей, их характеров и поступков) к «объективной» (когда, по определению А.П.Чудакова, «рассказ ведется под углом зрения героя и открытым, высказанным прямо авторским оценкам не остается места» -[213,71]).
Прослеживая динамику творческой манеры Чехова на стыке первого и второго периодов творчества, А.П.Чудаков отмечает, что «прием, истоком которого был юмор, перерастал — уже к середине 80-х годов — в одну из существеннейших черт чеховской поэтики: близость, слиянность его повествователя с миром героев, восприятие этого мира в его целом во всей совокупности важных и второстепенных деталей — независимо от того, каковыми они покажутся с иной, более "высокой" точки зрения» [211,54].
Именно к произведениям второго периода в наибольшей степени применимы заключения исследователей творчества Чехова о «трудности выявления авторской точки зрения», которая может быть определена «только из сопоставления разных точек зрения и из всего контекста повести, рассказа, пьесы» [134, 291]. Сходное мнение высказывает Л.Г.Барлас, выделяя в качестве элементов, «заслоняющих» авторскую позицию, «объективную манеру письма, повествование в «тоне» и в «духе» героев, нечеткость границ между авторской речью и речью персонажей (несобственно-прямая или несобственно-авторская речь), нейтральность речи повествователя» [26, 30].
С.Сендерович [158] относит начало нового этапа в творчестве Чехова уже к концу 1886 года, выделяя в качестве отправной точки рассказ «На пути» (1886). В нем намечены существенные изменения в трактовке типичных для ранней прозы мотивов (брака, любовного свидания, случайной встречи) и характеров героев (молодой девушки, мужчины-холостяка). Герой рассказа, Лихарев, - «далеко не старый интеллигентный неудачник», как его называет один из критиков [87, 99], говорит о последнем своем «увлечении». Это увлечение - женщина в широком смысле этого слова, женщина как член русского общества и спутница мужчины. Лихарев излагает актуальные для его времени сентенции о зависимом положении, в котором продолжала оставаться женщина к концу XIX века, оценивает различные подходы к «женскому вопросу», а также рассуждает об особенностях психологии русской женщины, таких чертах ее характера, как самоотверженность, вера в высокие идеалы, готовность следовать за любимым мужчиной и прощать ему все грехи и обиды: «Я вам скажу, что женщина всегда была и будет рабой мужчины [...]. Она нежный, мягкий воск, из которого мужчина всегда лепил все, что ему угодно. Господи боже мой, из-за грошового мужского увлечения она стригла себе волосы, бросала семью, умирала на чужбине... Между идеями, для которых она жертвовала собой, нет ни одной женской... Беззаветная, преданная раба! [...] Самые гордые самостоятельные женщины, если мне удавалось сообщать им свое вдохновение, шли за мной, не рассуждая, не спрашивая и делая все, что я хотел; [...] жена моя [...] как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я менял свои увлечения» (5, 472).
Уже в этом вдохновенном монологе героя парадоксальным образом сочетаются разнонаправленные тенденции. Речь Лихарева, наряду с признанием женской самоотверженности и жертвенности, содержит признание героем того, что эти душевные качества не приносят женщинам ни удовлетворения, ни счастья. Рассказ героя о своей жизни дает читателю представление о том, какая судьба ждала тех женщин, которые поверили ему и пошли за ним. Жена его умерла, мать страдает, маленькая дочь, которая «не может и дня продышать без отца» (5, 474), постоянно плачет и жалуется на боль и одиночество.
В основе сюжета рассказа лежит традиционный мотив встречи героя и героини, случайного пересечения двух дорог и судеб. Встреча в трактире словно дает возможность Лихареву проверить истинность своих рассуждений и последнего «увлечения» на конкретном объекте - молодой красивой женщине. Иловайская представляет собой тот тип женщины, которым так увлечен Лихарев: красивая, самостоятельная (сама - при «беспечных» отце и брате — ведет все хозяйство в имении), способная увлечься любимым мужчиной и пойти за ним хоть «на северный полюс». Однако отношения героев развиваются не в традиции классического романа.
Поначалу Марья Михайловна близка к тому, чтобы влюбиться в Лихарева. Она увлечена его страстностью, темпераментными сентенциями, проникается сочувствием к нелегкой судьбе героя. Изменения внешнего облика героини отчасти соответствуют динамике ее душевного состояния. В первый раз Иловайская предстает перед героем (и читателем) как бесформенный «узел», покрытый снегом, неопределенная «фигура»: «Вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура без лица и без рук, окутанная, обмотанная» (5, 464).
Эволюция женских образов в прозе А.П.Чехова 1895 - 1904 гг.
Начало третьего периода в творчестве Чехова большинство исследователей связывает с 1895 годом. Перемена, произошедшая в это время в общей интонации чеховских произведений, не прошла мимо внимания современной писателю критики. Это нашло отражение в статье В.П.Альбова, особенно понравившейся А.П.Чехову: «В последние годы в творчестве г-на Чехова намечается новый и очень важный перелом. Временами прорывается еще прежнее настроение, но нет уж и следа прежнего уныния, подавленности, отчаяния. Напротив, все сильнее слышится что-то новое, бодрое, жизнерадостное, глубоко волнующее читателя и порой необыкновенно смелое. Самый талант его как будто впервые расправляет крылья и легко и свободно, без всяких усилий и без всякого насилия, создает необыкновенно прелестные образы, дышащие глубокой художественной правдой» [21, 390].
В это время снова меняется стиль повествования в прозе писателя. В отличие от второго периода, когда повествование по большей части велось от лица героя рассказа, в 1895 - 1904 годах повествование отрывается от стиля одного героя, на него ложатся отсветы стилей других персонажей, в том числе, второстепенных. Как указывает А.П.Чудаков, в речи рассказчика происходит «полная ассимиляция чужих понятий и слов» [213, 97]. Хотя позиция повествователя активна и приближена к авторской, «его слово ни в коей мере не является конечной оценкой, высказываемой от лица автора» [213, 101]; при этом авторская позиция в позднем творчестве Чехова «не может быть выражена в каком-либо догматическом утверждении» [213, 102]. Это замечание А.П.Чудакова важно иметь в виду при рассмотрении как главных, так и второстепенных персонажей чеховских рассказов этого периода, анализе поступков и характеров чеховских героев и героинь. В зрелой прозе Чехова характеристика и оценка персонажа в тексте, даже высказанная нейтральным повествователем, не всегда совпадает с авторским мнением. Необходимо учитывать весь комплекс художественных изобразительных средств: роль деталей (внешнего облика, черт поведения), прямых, косвенных и ассоциативных сравнений, бытового и природного фона, окружающего героев, их речевых характеристик - для раскрытия как внешней, характерной, стороны их отношений с окружающим миром, так и внутренней, скрытой, личностной структуры их человеческого «я».
В рассказах 1895 — 1904 годов (точнее будет говорить о 1903 годе, когда публикуется последнее прозаическое произведение - рассказ «Невеста») во многом повторяются и варьируются женские типы, обозначенные в первый и второй периоды его творчества. Но подход к изображению сходных черт поведения и характерных особенностей персонажа во многом меняется. Героини рассматриваются автором не столько с точки зрения их следования общепринятым морально-этическим нормам и социокультурным установкам, сколько с иных, более глобальных позиций: соответствия их жизненного пути, поступков и ценностных ориентиров надвременным и внесоциальным категориям добра, истины, любви, милосердия.
Рассказ «Супруга» (1895) тематически продолжает и развивает ту тенденцию в изображении супружеской измены и «неверных жен», которая была обозначена уже в ряде ранних юмористических рассказов («Месть женщины», «За двумя зайцами погонишься», «Шведская спичка», «Живая хронология» и др.) и продолжилась в произведениях более поздних («Ведьма», «Попрыгунья», «Дуэль» и др.). В основе сюжета - традиционный для Чехова «семейный» конфликт: жена, хитрая и властная, изменяет мужу, продолжая жить с ним и требовать от него денег, и муж - слабый, безвольный, когда-то сильно влюбленный, терпит все капризы жены, догадывается об обмане, но не способен каким-либо образом изменить ситуацию.
Характер мужа обрисован в рассказе с достаточной полнотой. Это человек, который уже привык к своему двусмысленному положению, но привычка не избавила его от страдания: «Николай Евграфыч знал, что жена вернется домой не скоро, по крайней мере часов в пять. Он не верил ей и, когда она долго не возвращалась, не спал, томился, и в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркало, и ее бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив» (9, 92). Обратим внимание на такую деталь в этом описании, как «приторный запах», обычно маркирующий тип «женщины-хищницы».
В рассказе Чехов словно «сталкивает» два человеческих типа, мужской и женский, уже описанные им в других произведениях, а именно - «сводит» в одну семью страдающего от равнодушия жены и ревности, подозрительного мужа (вспомним, например, Асорина, героя рассказа «Жена») и ветреную, легкомысленную жену («попрыгунья» Ольга Ивановна, имеющая одинаковое имя с «супругой» Ольгой Дмитриевной). Только в этом случае фактическому краху любви и семейных отношений уже не противостоят душевные качества «второй половины»: благородство и тактичность мужа (Дымов в «Попрыгунье») или незапятнанная репутация, верность и альтруистические устремления жены (Марья Гавриловна в рассказе «Жена»).
Ситуация, показанная в рассказе «Супруга», проста, обыденна и драматична одновременно. Обманутый супруг (доктор, как и Дымов) практически догадался о своем положении: «За время семилетней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах, и ему не раз приходило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик» (9, 92). Найдя на столе у жены подозрительную телеграмму, Николай Евграфыч вспомнил, как полтора года назад «инженер представил ему и его жене молодого человека лет 22 - 23, которого звали Михаилом Иванычем; фамилия была короткая, немножко странная: Рис» (9, 94). Знакомство это имело неприятное для мужа продолжение: «Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографию этого молодого человека с надписью по-французски: «На память о настоящем и в надежде на будущее»; потом он раза два встречал его самого у своей тещи... И как раз это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой в четыре или пять часов утра, и все просила у него заграничного паспорта» (9, 94).