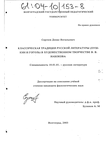Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Проблема «живого человека» в прозе чехова и гоголевская традиция 26
1.1. Формирование нериторической концепции литературы писателями-натуралистами 40-х гг. XIX века 26
1.2. Культурно-идеологические предпосылки рецепции творчества Гоголя "чеховской артелью" 80-х гг. XIX века 35
1.3. Концепция «живого человека» в эстетических взглядах Чехова и её истоки 44
1.4. Конфликт разума и инстинкта в ранней прозе Чехова и концепция «прирождённых страстей» Гоголя 68
ГЛАВА 2. Поэтика персонажа раннего чехова в свете гоголевского"предания" 88
2.1. Своеобразие анималистики и энтомологической образности в прозе Гоголя и Чехова 88
2.2. Проблема персонажа-типа (генезис, развитие) в творчестве Гоголя и проза Чехова 125
2.3. Нравственно-психологический тип «тяжёлого человека» в ранней прозе Чехова 139
2.4. «Гоголевский тип» как гносеологический шаблон 148
Заключение 156
Библиография 161
- Формирование нериторической концепции литературы писателями-натуралистами 40-х гг. XIX века
- Концепция «живого человека» в эстетических взглядах Чехова и её истоки
- Своеобразие анималистики и энтомологической образности в прозе Гоголя и Чехова
- Нравственно-психологический тип «тяжёлого человека» в ранней прозе Чехова
Введение к работе
С творчеством Чехова и писателей-«восьмидесятников» связано изображение исторически складывающегося в этот период массового общества и героя - «представителя новой массы, всякого человека»1. Направленность на «среднего человека» сочеталась и с более широкой задачей познания «жизни такою, какая она есть», по выражению Чехова. Однако эта задача осознавалась приоритетной уже в 40-е годы в рамках теории и практики «натуральной школы», переосмыслявшей творчество Гоголя. В связи с этим в диссертации привлечены к рассмотрению эстетика и философия «натуральной школы», имевшие большое значение в становлении нериторической концепции литературы. Показанная в свете проблемы человека «натуральная школа» предстанет одним из звеньев развития гоголевского предания, что позволит с новой стороны охарактеризовать раннее творчество Чехова. Актуальность работы определяется давно назревшей необходимостью такого исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Сравнительно немного работ посвящено изучению литературных связей двух русских классиков. Тем не менее, в этих работах были намечены основные направления для дальнейших изысканий в этой области. Необходимо выделить основные подходы, в рамках которых были выполнены самые плодотворные исследования, и рассмотреть их с точки зрения интересующей нас проблемы.
Пожалуй, самой развитой частью чеховедения является изучение поэтики Чехова (композиции произведений, сюжетосложения, типов повествования, принципов характеристики персонажей). Анализ поэтики писателя в сравнительном направлении, предпринятый А.П. Чудаковым, заключает в себе предпосылки для дальнейшего изучения проблемы. В 1 Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 46. процессе становления творческой манеры, по мысли А.П. Чудакова, поиска собственного языка, стилистические приметы «гоголевской школы» сохраняются в прозе Чехова. В целом же, подход писателя к человеку, как считает автор, - «вне иерархии "значительное" - "незначительное", <...> в целостности его существенных и случайных черт»1.
Рассмотрев поэтику Чехова разносторонне и глубоко, А.П. Чудаков (вслед за В. Розановым и Б. Эйхенбаумом) несколько упрощает существо гоголевских образов, когда проецирует поздние представления критиков и учёных о жёсткой детерминированности и предсказуемости персонажа-типа в художественный мир «Мёртвых душ» Гоголя. Следующий пример показывает недостаточность такого понимания содержания образов Гоголя: Собакевич в пятой главе был охарактеризован как «совершеннейший медведь», а уже в седьмой, неожиданно, вопреки логике изначальной своей сущности, «погружается в меланхолию» (5, 133)2. Своеобразные формы психологизма применяются Гоголем и в изображении внутренней жизни Плюшкина .
В то же время, очевидно, что персонажи с характерологическим отбором деталей портрета вовсе не чужды творчеству зрелого Чехова. Несомненное постоянство персонажей, выполненных в гоголевском духе, заставляет искать объяснение этому феномену.
Рассматривая Чехова как писателя гносеологического, В.Б. Катаев справедливо считает, что у Чехова постоянны два способа создания персонажа - один, доставшийся по наследству от Гоголя, нацелен на 1 Чудаков А.П. Поэтика Чехова. -М.: Наука, 1971. С. 170. 2 Гоголь Н.В. Собр. соч. в 9-ти томах - М.: Русская книга, 1994. Ссылки на это издание даются в тексте: в скобках указываются том и страница. «В своих поисках путей к духовному обновлению личности, Гоголь "расшатывает" статические методы изображения характера, подготавливая почву для художественного воссоздания его текучести» - к такому выводу приходит Е.А. Смирнова (Смирнова Е.А. Эволюция творческого метода Гоголя от 1830-х годов к 1840-м. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Тарту, 1974. С. 176). критическое изображение «закостенелости», другой - новаторский, рисующий персонажа «несводимым к общим характеристикам»1.
Можно согласиться с В.Б. Катаевым в том, что зрелые произведения Чехова заставляют вспомнить мир Гоголя. Отмечая переливы психологических состояний одних героев, Чехов помещал других, воспользуемся выражением самого писателя, на «точку замерзания: ни вперед, ни... куда!». Тётя Даша и дедушка («В родном углу» (1897), Шелестов («Учитель словесности» (1889), супруга Гурова и Фон Дидериц («Дама с собачкой» (1899), Отец Сисой («Архиерей» (1902), Саша («Невеста» (1903) и некоторые другие персонажи лишены психологической «текучести» по той простой причине, что они созданы по каноническим рецептам гоголевского стиля, вплоть до анималистических деталей портрета: «Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака» (10, 190)2. В.Б. Катаев рассматривает природу такой стабильности в контексте основного пафоса большинства произведений Чехова - победы сложности реальной жизни над «ложными представлениями» персонажей.
В данном исследовании предпринимается попытка анализа образов раннего творчества Чехова, где «гоголевский» (при всей условности этого термина) метод создания персонажа использовался чаще. В ранних рассказах отражается впоследствии более неявный «социолект»3, формирующий отношение автора к герою. Изучение культурно-идеологических истоков формирования представлений Чехова о природе человека, об антропогенезе может пролить свет на типологию чеховских персонажей как в раннем творчестве, так и в зрелом. 1 Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. -М.: Изд-воМГУ, 1979. С. 304. 2 А.П. Чехов цитируется по изданию: Поли. собр. соч. и писем А.П. Чехова в 30-ти томах - М.: Наука, 1974- 1983. Ссылки на него даются в тексте: в скобках указываются том и страница. 3 В современной литературной теории под социолектом понимается совокупность «мифов, обычаев, господствующих идеологий и стереотипов, содержащихся в языке данной культуры», создающих эффект правдоподобия логики поступков персонажей, действующих в художественном тексте. См. об этом: Шёнле А. Теория фикциональности: критический обзор // Новое литературное обозрение, 1997, № 27. С. 42-43.
Рассмотрим другие работы, посвященные сравнительному исследованию поэтики Чехова и Гоголя.
Характерный для творчества Гоголя тип «неосуществившегося» сюжета, по мнению З.С. Паперного1, развивался Чеховым в рассказах ранних и поздних лет и в драматургии. Не случайно, как считает автор, Чехов особенно ценил повесть «Коляска» и пьесу «Женитьба» среди всех произведений Гоголя. В них напряженность действия коренится не во внешних обстоятельствах, а в кругозоре героя, у которого нет сил для осуществления своего жизненного пути. Этот тип сюжета переходит со временем в область «серьеза», вырастая из ранних, комических произведений Чехова. Принцип «неосуществившегося» сюжета с неожиданным финалом, когда замысел героя рушится, столкнувшись с непонятными законами жизни, воплощается с трагической силой в пьесах «Иванов», «Три сестры».
Специфической чертой «неосуществившегося» сюжета является событие странное, непонятное для героев, когда нарушаются «привычные измерения и нормы, которые годами укладывались» в их сознании2. Элементы трагического открытия, по терминологии Аристотеля «anagnorisis» , являются фундаментальным элементом интриги множества ранних рассказов Чехова, когда кульминацией становится частичное постижение героем некоторого неизбежного причинно-следственного ряда, делающего все усилия напрасными. Однако Чехов меняет сюжет «открытия», изучая процесс его протекания, показывая «физиологические и психологические факторы, вызывающие ментальное событие»4. Если для сюжетов Достоевского и Толстого природа - это только сцена, на которой разворачивается духовное обновление персонажа, то «неосуществившийся» сюжет заставляет искать в природе человека ключ к постижению ментальных 1 Паперный 3. С. Гоголь в восприятии Чехова // Известия АН. СССР. Серия лит. и яз. Том 44. 1985. №1. январь-февраль. 2 Манн Ю.В Поэтика Гоголя. Вариации к теме. - М.: Coda, 1996. С. 207. 3 Аристотель. Собр. соч. в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 648.
Шмид В. Проза как поэзия: Статьи о повествовании в русской литературе. - СПб., 1994. С. 154 процессов. Каждый из писателей искал своё объяснение неспособности осуществления героями самостоятельных поступков, стремился дознаваться до «первоначальных причин» их невозможности.
В содержательной работе филолога и философа Русского зарубежья П.М. Бицилли1, написанной в рамках проблемного подхода, проливается свет на своеобразие гоголевской «художественной антропологии», делается попытка выявить общее в образах Гоголя и Чехова. Работа П.М. Бицилли своей философской направленностью вносит много новых аспектов в создаваемую другими авторами картину литературных связей Чехова и Гоголя.
Основной пафос произведений Гоголя, по мысли автора, заключается в художественном исследовании борьбы начал «духовности» и «бесчувственности» в человеке. Алогизм движений Хлестакова и Подколёсина разгадывается абсолютной пустотой, подчинённостью этих персонажей случайным внешним влияниям. Внешние влияния роковым образом подчиняют себе Плюшкина и других героев, неспособных к сопротивлению, так что персонажи постепенно замещаются вещным миром, а вещи говорят их голосами. Тем не менее, нельзя игнорировать «двупланность» зрелых произведений классика: с одной стороны, это сатира, изображающая безобразные стороны русской обыденщины, с другой, Гоголь в них выступает как «антрополог», терзаемый идеей греховности, душевной пустоты человека «вообще». А посему смех Гоголя - «смех сквозь слезы», в нем сквозит сочувствие к жалкой участи всякого человека.
П.М. Бицилли утверждает: «никто из русских писателей не был столь близок к Гоголю, никто не понял его так глубоко, как Чехов»2. Именно поэтому в мире Чехова человек онтологически, фатально носит в себе начало «вещности»: Беликов, Ионыч, по интерпретации автора, обладают общим символическим знаменателем, равным внутренней инертности. Образ 1 Бицилли П.М. Проблема человека у Гоголя // Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. - М., 1996 2 Бицилли П.М. Проблема человека у Гоголя. С. 575.
Оленьки Племянниковой из рассказа «Душечка» заставил вспомнить П.М. Бицилли идиллическую чету из «Старосветских помещиков» Гоголя. Отсутствие собственных стремлений, интересов характеризуют, по мысли автора, и героиню Чехова, и Пульхерию Ивановну с Афанасием Ивановичем. Итак, интуиция философа подсказывала П.М. Бицилли наиболее общие сходства персонажей Гоголя и Чехова, но моменты различия художественных миров, идейно-художественных контекстов, ценные в сравнительном исследовании, не привлекли его внимание. Отметив важность факторов привычки и внешних влияний в логике поступков персонажей Гоголя и Чехова, автор не оговорил природы этих факторов. «Ничтожность», «мертвенность», «бесчувственность» - этими эпитетами передавал Гоголь существо своих непреображённых героев.
Душой ли, славу полюбившей,
Ничтожность в мире полюбить?
Душой ли, к счастью не остывшей,
Волненья мира не испить?
И в нем прекрасного не встретить?
Существованья не отметить? (7; 26) В этих строчках из юношеской поэмы Гоголя «Ганц Кюхельгартен» (1829) получила выражение ценностная логика романтизма, для которой характерен конфликт противоположных метафизических ценностей. Получив новые смысловые оттенки, подвергнувшись существенной трансформации, оппозиция прекрасный/ничтожный использовалась Гоголем для передачи концепции доминирующих склонностей личности в художественном мире «Мёртвых душ»: «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, все вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть... (курсив мой. -А.Л.)» (5, 221).
Напротив, эстетические рамки реализма конца XIX в. предполагают преобладание познавательного элемента над оценочным, объективного анализа и объяснения над метафизическим обобщением. «В соответствии с господствующими научными, философскими, социологическими идеями XIX века, - пишет Л.Я. Гинзбург, - реализм открыл художественному познанию конкретную, единую, монистически понимаемую действительность <...> Для реализма XIX века бытие не распадается больше на противостоящие друг другу сферы высокого и низкого, идеального и вещественного» .
Научные концепции оказали мощное воздействие на мировоззрение Чехова, на постановку и решение творческих задач. В частности, теория Ч. Дарвина, имевшая мировоззренческое влияние на умы определённой части русской интеллигенции конца XIX в., формировала понимание вопросов свободы и необходимости, а также законов, которым подчиняется развитие человеческого общества. По мысли В.Б. Катаева, «могучий ум Дарвина, сумевший <...> проследить единую закономерность в миллионах единичных проявлений, оказал самое сильное воздействие на Чехова»2. В данном диссертационном исследовании произведён анализ ранних рассказов Чехова, в которых получили воплощение идейные мотивы и методы трактатов Дарвина. Обнаружение дарвиновских истоков в принципах изображения персонажей ранней прозы Чехова позволит выйти к новым темам и проблемам изучения литературных связей чеховской «антропологии» с творчеством Гоголя.
Автор монографии3 о Чехове - В.И. Мильдон посвятил отдельную главу исследованию проблемы «художественной антропологии» раннего творчества писателя. «Люди должны быть великанами, а на деле теряют последние человеческие черты»4, - такой вывод делает В.И. Мильдон на 1 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. - Л., 1971. С. 288. 2 Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. С. 52. 3 Мильдон В.И. Чехов сегодня и вчера («Другой человек»). - М, 1996. 4 Там же. С. 23. основании произвольно выбранных цитат из ранних рассказов Чехова. Автор считает, что внешность чеховского персонажа создается писателем по-гоголевски с помощью приёма исключения индивидуальных черт, постановки на их место родовых (например, знаменитые «густые брови» прокурора в «Мёртвых душах»). Чем объясняется это заимствование? Оно отражает объективный, по мнению автора монографии, процесс деградации современного человека к «низшей материальности», точнее, следующий после Гоголя этап процесса. Герои раннего Чехова, как считает театровед, теряют своё «богочеловеческое назначение»1. Идея назначения человека открывается в изображении счастливого мужа из рассказа «Счастливчик» (1886). Героя переполняют ощущения полноты жизни, столь редко посещающее персонажей Чехова, в силу чего исследователь возводит этот образ к идее «богочеловека» В. Соловьёва. Итак, герой «Счастливчика» -существо высшее, генерирующее своё счастье с помощью «мировой души».
Столь оригинальная интерпретация рассказа Чехова неожиданна, потому что чеховский персонаж, потерявший ориентацию под влиянием переполняющих его эмоций, никак не напоминает человека, «исцелённого» неким источником благости. Его болезненное беспокойство, суетливость и растерянность вполне соответствуют ироническому названию этого рассказа.
Названная работа, претендуя на освещение столь широкого проблемного поля, менее всего отвечает критериям компаративного изучения литературы. Метафоры и приёмы были выбраны произвольно, без учёта их места в структуре ранних текстов Чехова, без композиционно-речевого анализа текста как целого феномена. В результате произошла аберрация восприятия и понимания произведений Чехова, искажена проблематика раннего творчества писателя. Невольно вспоминается малороссийская пословица - «це не гарбуз, а слива», когда видишь попытки В.И. Мильдона
Мильдон В.И. Чехов сегодня и вчера. С. 30. свести воедино совершенно разные концепции человека, возникшие на почве различных художественных, ценностных, исторических контекстов.
Другой распространённый подход к изучению проблемы литературных связей - тематический. В работах такого типа предметом исследования избирается темы и мотивы гоголевского творчества, получившие переосмысление в мире Чехова.
Важные эмпирические наблюдения находим в статье Г.П. Бердникова «Гоголь и Чехов»1.
Как известно, тема пошлости проходит красной нитью сквозь всё творчество Гоголя: «один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления», - так формулирует Гоголь основное настроение, остающееся у читателей «Мёртвых душ». Приём речевой характеристики персонажей поэмы через одну главную, определяющую черту (страсть или «низкую наклонность») направлен на воплощении именно этой темы.
По наблюдению Г.П. Бердникова, у Чехова в ранних рассказах этот приём всё ещё резонирует, осуществляясь, правда, более экономно, с меньшим количеством деталей и подробностей. В рассказе «Дорогая собака» (1885) автор ограничивается одной сценой для демонстрации пристрастия главного действующего лица Дубова ко лжи. Однако герой этого рассказа лишен цельности своего прототипа Ноздрёва, поскольку в финале рассказа читателю открывается новый, противоречивый и неожиданный Дубов. «Хлестаковское» поведение персонажа мотивировано новым свойством образа - его ложь объясняется не «ничтожной» страстью, а состраданием к забитому существу.
Говоря о теме маленького человека, автор статьи подчёркивает направленность произведений Гоголя на обличение представителей «сильных мира сего», которой нет у Чехова. По мнению Бердникова, Чехов
Бердников Г.П. Гоголь и Чехов // Вопросы литературы. 1981. № 8. создал картину мира, где маленький человек холопствует перед вышестоящими и тиранит ещё меньших. Чеховым высмеивается человек, добровольно отказывающийся от своего достоинства1.
Но, в статье Г.П. Бердникова очевидны недостатки, которые коренятся в характерном для советского литературоведения представлении о поступательно-телеологическом развитии литературы. В данном случае, Гоголь рассматривается с точки зрения того, что ему ещё не хватает для соответствия некоему гуманистическому пафосу, якобы достигнутому Чеховым в рассказах.
Тем не менее, Г.П. Бердников подходит к тому, что проблема человека существенно продвигает к познанию взаимосвязи ранней прозы Чехова с творчеством Гоголя, позволяет оценить идейное и художественное своеобразие в подходе каждого из авторов к персонажу. Г.П. Бердников справедливо показывает, что в ранних рассказах Чехова микроскопические движения любви и сострадания присущи обыкновенному человеку в сфере повседневности, что они вызывают у автора симпатию.
Иная концепция человека в затронутых Бердниковым «Мёртвых душах». В её основе лежит идеологическое разграничение повседневного состояния, которое характеризуется Гоголем как затухание или искажение «человеческой природы», и интенсивной духовной жизни, причастной идеалу: «Как бы ни был бесчувствен человек, как бы ни усыплена была его природа, в две минуты может совершиться его пробуждение», - утверждает Гоголь в письме к В. А. Перовскому от 20 апреля 1844 года.
Использование Чеховым другой традиционной темы обнаруживает П.Н. Толстогузов2. Тема чиновника пародийно снижается Чеховым, трагикомедия «Шинели» превращается в анекдотический сюжет рассказа 1 Бердников Г.П. Гоголь и Чехов. С. 127. 2 Толстогузов П.Н. «Смерть чиновника» Чехова и «Шинель» Гоголя (о пародийном подтексте рассказа) // Н В Гоголь и русская литература 19 в. - Л., 1989. «Смерть чиновника» (1883). Если в повести Гоголя, считает автор, новая шинель стала символом зарождения нового, внутреннего человека в жалком чиновнике Башмачкине, то в «Смерти чиновника» мундир без остатка поглотил человека. В результате у Чехова умирает не человек, а только чин, который значим лишь в отношении к другому чину. Образ Червякова не столько литературный характер, наделённый духовным движением, как Башмачкин в «Шинели», сколько литературный стереотип. Смысл названия рассказа Чехова, заключает исследователь, передаёт исчерпанность литературного образа-стереотипа, завершение популярной литературной темы бедного чиновника. Снижение и фактическое уничтожение этого типа, по мнению автора, связано с появлением новой, «более широкой концепции человека русской литературы XIX в.», которой он противоречил.
Справедливо замечание П.Н. Толстогузова о литературной борьбе Чехова в «Смерти чиновника» с обветшалыми образами фельетонных чиновников, обречённых на вечное столкновение с бесчеловечной средой. Однако при всём шутливом тоне рассказа нельзя не заметить в «Смерти чиновника» элемент трагического.
Башмачкин изображается заочно оценочно - как существо исключительно несчастное, в котором вдруг просыпаются подавленные в обычной жизни чувства, преображающие персонажа. У Чехова намеренно изображается обычный чиновник, представитель массы, женатый обыватель, даже не чуждый эстетическим переживаниям. «Значительное лицо» также изображается Чеховым подчёркнуто нейтрально, в повседневной обстановке. Напротив, в «Шинели» социальное положение «значительного лица» заставляет его отгораживаться от людей, тренировать перед зеркалом манеру говорить картинно и строго. Очевидно, что в самих отношениях чиновнического общества для Чехова нет ничего качественно зловредного, поддельного, неподлинного, как в «Шинели».
Традиционная фабула рассказа - столкновение со значительным лицом, сцена распекания и кризис - ещё больше подчёркивает своеобразие принципов создания персонажа в «Смерти чиновника». Причина печальной развязки здесь коренится в неспособности персонажа приспособиться к новой ситуации, которая ставит под вопрос налаженную систему привычек Червякова. Действуя по шаблону, Червяков ждёт ответной реакции со стороны «значительного лица», - он почувствовал бы себя счастливым, если бы тот поступал по наезженному сценарию фельетонных деспотов.
Очевидно, в рассказе Чехова моторика невольных движений приобретает характер чего-то рокового, влечёт за собой неодолимые последствия, поскольку нормальное чувство собственного достоинства притуплено постоянным страхом персонажа перед «персонами», страхом, подчиняющим рассудок и волю Червякова. Изображая процесс нарастания страха перед «персоной», Чехов использует приём ступенчатого усиления мотивов страха: Червяков первоначально борется с робостью, далее его охватывает подозрительность, при следующей встрече с генералом персонаж бледнеет, а в сцене распекания Червяков вовсе «млеет от ужаса». П.Н. Толстогузов игнорирует мотив сломавшегося механизма в развязке рассказа: «в животе у Червякова что-то оторвалось» (2, 166). Чехов завершает образ персонажа намёком на рефлекторный нарост в организации персонажа, возникший вследствие постоянного ощущения ничтожества. Следовательно, нельзя признать верной идею автора статьи, что Червяков - это только амплуа, что этот образ лишён содержания. В конечном итоге, в этот образ заложена идея драматического влияния фактора привычки на человека, делающего самостоятельность этого персонажа невозможной.
Характерен для чеховской манеры и принцип конвергенции сюжетно противопоставленных персонажей, в данном рассказе проявляющийся в реакции генерала. Возбуждение, охватившее этого персонажа (« - Пошёл вон!! - гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал (курсив мой. -
А.Л.)» (2, 166), мотивировано нервной реакцией на раздражающую назойливость Червякова, и по своей непроизвольности (вероятно, так выражает себя ироничная позиция Чехова, уравнивающего персонажей) сходно с механизмом чихания. Напротив, в повести Гоголя «значительное лицо» намеренно и с упоением производит страх на низшего по чину, в чём проявляется философия Гоголя, видевшего в сословном неравенстве возможность угрозы человеческой душе, предпосылку обеднения чувств и разобщения людей.
Тема социального бытия персонажа раскрывается в статье А. Саннинского «О гоголевской традиции в раннем творчестве А.П.Чехова»1. По мнению автора, метод детального воссоздания социально-типических сторон персонажей, когда «общечеловеческие черты едва выделяются из-под общественных положений, - приводит А. Саннинский суждение И.А. Гончарова, - рангов, костюмов»2, является характерной чертой метода Гоголя. Такое понимание устарело и далеко от истины.
Каким путём человек добивается чина, как чин влияет на человека, -эти вопросы проходит различными гранями через произведения Чехова юмористического характера в 80-е гг. По-разному касались темы социальной динамики чиновнической деятельности следующие рассказы: подпись к рисунку «Почерк по чину, или Метаморфозы подписи Карамболева» (1884), рассказы «Пережитое (психологический этюд)» (1882), «Служебные пометки» (1884), «Женское счастье» (1885), «Упразднили» (1885).
Утверждение автора статьи о социальной типизации как доминирующем методе в этих рассказах уводит нас от истины. Так, в юмореске «Пережитое» (не случайно имеющий подзаголовок «Психологический этюд») Чехова интересует, прежде всего, человеческий страх перед «закорючкой», поставившей бы крест на карьере. Психология 1 Саннинский Б Я. О гоголевской традиции в раннем творчестве А.П. Чехова // А.П. Чехов: проблема жанра и стиля. - Ростов-на-Дону, 1986. 2 Там же. С. 53. восприятия индивидуальным сознанием социальных структур становится главным предметом изображения в этом рассказе Чехова.
Рассказ «Женское счастье» вовсе не заостряет внимание читателя на сословной проблематике. Он посвящен "женскому вопросу". В рассказе изображается давление авторитета женщины. Авторитет женщины универсален, показывает Чехов, он древнее авторитета начальства, возникшего в классовом обществе. Писатель рассматривает проблему, лежащую выше плоскости социальных отношений - в сфере общечеловеческих законов, связывающих мужчину и женщину.
В то же время видеть главной чертой гоголевской традиции лишь социальную типизацию (такого понимания придерживается автор статьи), то есть прямолинейно "локализованное" изображение персонажа, когда описание профессии, костюма, речи и других признаки составляют основной метод структурирования образа, - значит, обеднять гоголевское наследие. В первой главе данной диссертации показано, что писатели «натуральной школы» восприняли определённые (но не доминирующие) тенденции гоголевского метода, преследуя свои, весьма узкие цели. Что касается действительной концепции героев Гоголя, то, по справедливому утверждению Ю. Манна, - «гоголевские типы выше и сложнее любой социально-сословной классификации»1. Предварительным условием компаративного исследования должно стать чёткое определение идейно-художественных принципов, определявших структуру персонажей изучаемых авторов.
Чехов развивает также, по мнению А. Саннинского, поднятую Гоголем в «Мёртвых душах» тему восхождения человека по социальной лестнице. Этапы ступенчатого восхождения «толстого» к положению благоденствующего «славного русского барина», охарактеризованные в первой главе «Мёртвых душах», могли заинтересовать Чехова. В ряде 1 Манн Ю.В Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. - М: Наука, 1966. С. 271. рассказов («Дочь коммерции советника» (1883), «Чужая беда» (1886)) указание на неоднозначную предысторию происхождения богатства, чина, отсылает к «Мёртвым душам».
Огромный обобщающий смысл, вложенный в описание двух разновидностей мужчин в первой главе «Мёртвых душ», продиктован центральной задачей Гоголя - отображение всей России, познание существа русского характера. Но писатель стремился согласовать выполнение этой задачи, о чём свидетельствует «Авторская исповедь», с достигнутыми знаниями о природе человека «вообще».
Содержание этих представлений Гоголя органично вырастало из дуализма романтической картины мира: буквальное совпадение идей Гоголя в юношеском письме 1827 г. и в письме 1839 г., написанном незадолго до окончания первого тома поэмы, красноречиво свидетельствует в пользу их постоянства: «Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека (здесь и далее курсив мой. - А.Л.). И между этими существователями я должен пресмыкаться» (9, 75); «Мы ежеминутно должны бояться, чтобы кора, нас облекающая, не окрепла и не обратилась, наконец, в такую толщу, сквозь которую, в самом деле, никак нельзя будет пробиться» (9,123).
Таким образом, по воззрениям Н.В. Гоголя, груз материальной жизни накладывает ограничение на исполнение «высших и благородных» способностей, дарованных человеку природой от рождения; в некоторых из них сокрыто «хотение Божие» (письмо к Н.М. Языкову от 4 ноября 1843 г.) (9, 213-214). Эти представления - ключ к раскрытию смысла рассуждения о «толстых» и «тоненьких» в первой главе поэмы. «Толстыми» оказываются прокурор, почтмейстер, Манилов, Собакевич - персонажи, растерявшие свои «способности», покрытые «корою земности» (в том числе и чином), так, что их природа оказываются подавленной.
Рассказ Чехова «Толстый и тонкий» (1883) написан на популярную тему влияния общественного положения на человека. Чехов помнит в «Толстом и тонком», что толстые «умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие». Но один «тоненький» персонаж внутренне слит с социальной системой (словно Табель о рангах стал частью его нервной системы). «Толстый» же обладает нормальным рассудком и чувством общности: «Мы с тобой друзья детства - и к чему тут это чинопочитание?» (2, 251). Персонажи отличаются не только общественным положением, но и индивидуально-психологическими реакциями. В образ «тонкого» Порфирия изначально заложены черты автоматизма, так что рефлекторная реакция переводит речь в другой тон, но варьируются одни и те же слова: «Сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка» (2, 251).
Если герои Гоголя находятся на разном расстоянии, отдаляющем их от идеала «естественной» сущности человека1, то в рассказе Чехова каждый из персонажей более или менее приближен к бездушному автоматизму. Стихия жизни в её естественном, материальном (а значит, лишённом рассудка и доброй воли) измерении захватывает всех. Отметим грубо материальные детали в стилистической организации образа «толстого» персонажа: «губы, подёрнутые маслом, лоснились, как спелые вишни» (2, 350), к этому разряду можно отнести запахи хереса и духов, а также упоминание, что персонажа «стошнило» (2, 351). В мире «Мёртвых душ» бытовая и физиологическая детализация снижает образ, придаёт черты «земности» персонажу по принципу «отступления от нормы» (Ю. Манн). В рассказе Чехова такие подробности не мешают тайному советнику носить в себе подлинно человеческие чувства. Можно с уверенностью говорить, что образ «толстого» заключает в себе зачатки новаторского, собственно чеховского подхода к персонажу. 1 Об антитезе «природы» и «цивилизации», прекрасной «естественной» сущности человека и ее искажении в современном обществе в творчестве Гоголя пишет Е.А. Смирнова: Гоголь и идея «естественного» человека в литературе XVTII в. //Русская литература XVIII в. Эпоха классицизма. - МЛ.: Наука, 1964. С. 280-293.
Ряд наблюдений на рассматриваемую тему делает З.К. Абдуллаева . В порядке решения задачи своей работы она отмечает «негативное» сходство «Скуки жизни» со «Старосветскими помещиками». Это сходство выражается в «просвечивании» гоголевской повести в художественной ткани «Скуки жизни». В который раз, подтверждая несомненный факт знакомства Чехова с «Миргородом» цитатами из «Трёх сестер» (реплика Маши), исследователь аргументирует правомерность сопоставления двух произведений тем, что Чехов использует в заглавии повести цитату из гоголевского цикла.
Ещё один подход к исследуемой проблеме литературных связей можно назвать биографическим. Обычным для работ этого типа является рассмотрение конкретных фактов биографии Чехова, с которыми тем или иным образом связана жизнь и творчество Гоголя.
В.Я Звиняцковский2 предпринял серьёзную работу, показавшую, что биографические обстоятельства жизни Чехова важны для познания гоголевской линии в творчестве писателя. Автор статьи предлагает рассмотреть гоголевскую традицию, учитывая непосредственные впечатления писателя от пребывания в Малороссии и знакомства с малороссийским дворянством.
Письма Чехова, отражающие поездку летом 1888-1889 гг. по гоголевскому краю, объединяющим началом которых стал мотив путешествия, читаются В.Я. Звиняцковским как страницы задуманного писателем романа «Рассказы из жизни моих друзей». А.С. Суворин вспоминал, что Чехова хотел взять форму «Мёртвых душ» для своего будущего романа. Исследователь сопоставляет поэму Гоголя с письмами Чехова и находит между ними композиционное и мотивное сходство. «Гоголевский быт в его современной оболочке, - продолжает В.Я. Звиняцковский, - в особенности "усадебный" быт дворянской 1 Абдуллаева З.К. «Скучно на этом свете, господа!» («Старосветские помещики» Гоголя и «Скука жизни» Чехова») // Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература. - М., 1978. 2 Звиняцковский В.Я. Традиция Гоголя и украинская тематика в произведениях Чехова // Гоголь и литература народов СССР. - Ереван, 1986. интеллигенции, широко представлен в прозе и драматургии Чехова»1. В частности, семья Смагиных, усадьба которых располагалась в одном уезде с гоголевской Васильевкой, органично вошла в чеховский мир. МП. Чехов указывал на Сергея Смагина как прототипа Алёхина - героя рассказа «О любви». Чеховский путь от прототипа к художественному образу и типу, по мысли исследователя, - это путь от внешнего признака, характерной детали -к образу жизни и внутреннему миру героя, к характеристике его как представителя некоторой общности людей, класса, поколения. «Поэтика прототипов» - очередная точка соприкосновения Чехова с Гоголем, обозначенная В.Я. Звиняцковским.
Развивая версию о малороссийском прототипе Алёхина, исследователь обращает внимание на выполненное в гоголевском духе противопоставление портретов знаменитых предков в старинном помещичьем доме героя и его серой, ничем не примечательной жизни. К «Миргороду», по мысли исследователя, восходит «идеализация» старины в рассказе «О любви».
Ряд обстоятельств заставляют исследователя сделать вывод о связи замысла, композиции, характеров трилогии Чехова не только с задуманным романом в форме «Мёртвых душ», но также указывает на общую ориентацию автора трилогии на гоголевскую традицию, на развитие национально-самобытной эстетики.
Целый комплекс взаимосвязей, переплетение различных генетических цепочек наблюдает В.Я. Звиняцковский в тексте «Человека в футляре». С одной стороны, исследователь указывает на мотив колеблющегося жениха, важный в рассказе и обнаруживающий ряд соответствий в украинском фольклоре. В «Женитьбе», которую Чехов прекрасно знал, этот мотив используется для создания образа Подколёсина. С другой стороны, Чехов мог намекать на семейный эпизод несостоявшейся женитьбы И.П. Чехова на украинской девушке Вате. По мнению исследователя, все эти связи важны в 1 Звиняцковский В.Я. Традиция Гоголя и украинская тематика в произведениях Чехова. С. 151. произведении, в основу которого положен принцип "гуманистической сатиры", озвученный героем Гоголя, - «я брат твой!». В чеховском рассказе есть своё "гуманное" место, подобное эпизоду «Шинели». Эффект чеховского рассказа и всей трилогии в целом напоминает тот, о котором говорит Гоголь в «Четырёх письмах к разным лицам по поводу «Мертвых душ»: «Герои мои вовсе не злодеи».
Таким образом, подводит итоги автор статьи, Гоголя и Чехова объединяет отказ от безусловного и категорического осуждения «пошлого» человека. Их обоих интересовала возможность изобразить трагический процесс превращения человеческих достоинств в недостатки под влиянием неестественных, непонятных процессов жизни. Свои соображения В.Я.Звиняцковский строит на сближении образов Пульхерии Ивановны и Душечки - в обоих случаях стержнем всего портрета является улыбка, у Душечки - не только добрая, но и наивная, а для доброго лица гоголевской героини чересчур приторная.
Интересна также формулировка В.Я. Звиняцковского различия в трактовке фундаментальной силы скуки, действующей в двух художественных мирах. По его мнению, заключительная фраза «Огней» отсылает к традиции гоголевского финала, повторяя конструкцию последней фразы «Миргорода». «Гоголевский герой скучает с поистине эпическим, бессознательным спокойствием <...> чеховский провинциал тяготится своей скукой, для него она уже связана с крахом каких-то устоявшихся представлений и ожиданий»1.
Напоследок В.Я. Звиняцковский призывает также пристальней присмотреться к поэтической символике рассказа «Невеста», к некоторым особенностям изображения ухода героини из «мещанского болота». В образной системе первоначального варианта рассказа побег связывается с ритуалом «ухода в казаки», восходящим к романтической героике «Тараса
Звиняцковский В.Я. Традиция Гоголя и украинская тематика в произведениях Чехова. С. 162.
Бульбы» Гоголя. Исследователь соглашается с теми авторами, которые считают, что молодые герои «Трёх сестёр» и «Невесты» приобретают черты романтической обобщённости.
С точки зрения исторической поэтики подходит к проблеме литературных связей А.О. Панич в своей статье «К вопросу об исторической эстетике: «Старосветские помещики» Гоголя и «Душечка» Чехова»1.
Сходной оказывается временная ситуация произведений. В жизни Оленьки Племянниковой и четы Товстогубов отсутствует развитие, их жизнь статична. Для них время остановилось, что приводит и в том и в другом случае к вечной «детскости» героев. В условиях остановки времени непомерно разрастается роль материально-вещественной выраженности жизни - еды и питья. Поэтика этого рассказа даёт основание автору считать Чехова продолжателем Гоголя в изображении интимной связи вещи и персонажа.
По тонкому наблюдению А. Панича, если в «Старосветских помещиках» еда является универсальным проводником в общении, то в «Душечке» личностный смысл важных для героини бытовых мелочей немедленно уничтожается авторской иронией. Точно так же автором обессмысливается, как считает А. Панич, и внешняя привлекательность Олечки - её красота не находит должного применения, как и «благословенная земля» старосветского хутора. Чеховым воспроизведён также мотив разрушения родового гнезда старосветских помещиков, отозвавшийся в отказе Оленьки от своего дома.
Таким образом, делает вывод А. Панич, судьбы персонажей похожи -это и фатальное одиночество, и обессмысливание жизни в условиях её замкнутости во времени и пространстве. Произведения связывает и поставленная Гоголем проблема потери личного «я» путём взаимного растворения любящих героев друг в друге. Самоотверженность Пульхерии 1 Панич АО. К вопросу об исторической эстетике: «Старосветские помещики» Гоголя и «Душечка» Чехова // Эстетический дискурс. - Новосибирск, 1991.
Ивановны, которая перед смертью «не думала ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своём спутнике» (2, 212), объясняется автором статьи тем, что всех названных ценностей у неё не существует: её modus vivendi - жизнь Афанасия Ивановича. Душечка Чехова воплощает в себе стремление быть в любви всего лишь простым зеркальным отражением другого человека.
Другая тема сближает произведения, отражая два принципиально разных подхода художников к изображению душевной жизни. Способность человека отдать одной страсти, одному стремлению всю жизнь, воплотить все силы своей души в гениальное произведение («Портрет»), и в один идеальный момент остановить, преодолеть время, в художественном мире Гоголя имела большую ценность. Творчество Чехова представляет пример принципиально иного отношения к поэтике мгновения. Характерно, что «Душечка» проживает в рассказе четыре жизни, каждая из которых соизмерима с жизнью старосветских помещиков в целом. Это повторение стало одной из основ формирования новой «временной точки зрения» на изображённые события, делающей для читателя проблематичной саму идею борьбы со временем с целью его остановки. Бесконечные надежды чеховских героев на такое счастливое и непременно длительное мгновение жизни (в «Доме с мезонином», «Чёрном монахе», «Попрыгунье», «Душечке» и др.), ориентированное на эстетические каноны, восходящие к романтизму, и столь же бесконечные, закономерные крушения этих надежд привели у Чехова не к противопоставлению художественного мгновения всякому иному, а к пересмотру самих задач писательского труда. Отсюда - тезис о необходимости для писателя «правильной постановки вопроса». Мгновенный переворот в жизни героя если и происходит здесь, то уж только в силу неустойчивости его сознания, зависимости его от внешних факторов. В «Душечке», по мнению Панича, нет противопоставления законов изображённого мира и того мира, в котором пребывает повествователь, субъект изображения. Сам факт эстетического участия автора не может здесь изменить судьбы изображённого мира, но лишь побуждает читателя к поиску выхода из общей для автора, героя и читателя ситуации современной жизни.
Таким образом, краткое рассмотрение и анализ степени научной разработанности проблемы приводит к выводу, что, несмотря на различие в подходах, разнообразие в выборе материала, тема «персонаж раннего Чехова и традиция Н.В. Гоголя» занимает одно из важных мест в компаративном изучении творчества писателей. Исследователи накопили богатый эмпирический материал, создали прецеденты сравнительного анализа, как отдельных рассказов, так и общих эстетических принципов. Закономерным этапом в дальнейшем познании проблемы литературных связей будет определение аспекта исследования, выбранного автором данной диссертационной работы.
Объект и предмет исследования.
Объектом диссертационного исследования являются литературные связи ранней прозы Чехова с прозой Гоголя под определённым углом зрения: предметом исследования являются генетические и типологические взаимосвязи гоголевской традиции с закономерностями создания персонажа в ранней прозе Чехова.
Цель и задачи исследования.
Цель исследования состоит в определении места и значения гоголевской традиции в структуре персонажа ранней прозы Чехова.
Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены следующие задачи: - дать характеристику гоголевской традиции как особого эстетического феномена; показать сходства и различия в восприятии творчества Гоголя в I критике «натуральной школы» и писателями 80-х годов; определить истоки и своеобразие представления о «живом | человеке» в мировоззрении Чехова и его художественной практике; в - выявить мотивировки использования гоголевских методов при создании персонажей в раннем творчестве Чехова.
I Теоретические и методологические основы исследования.
В данном диссертационном исследовании в качестве методологической щ основы анализа использовалась теория рецептивной эстетики, изучающая _ проблему восприятия литературных произведений. Рецептивная эстетика позволила сформировать представление о характере восприятия гоголевской традиции в динамике и смене форм русской реалистической литературы 40-х и 80-х гг. XIX в. Исходная посылка, лежащая в основе исследования,
I заключается в том, что читательский опыт попадает в зависимость от следующих факторов: а) от системы идей, ценностей и целей,
I характеризующих читателя как представителя конкретно-исторического поколения и определённой социальной группы (профессиональной, интеллектуальной, политической); б) от системы кодов мышления и
I поведения, которые входят с различной степенью осознания в индивидуальный мир читателя. Эти факторы являются переменными
I величинами интерпретации художественного произведения, всегда открытого многообразным прочтениям1.
Структурный подход, к которому мы прибегли для анализа ранней I прозы Чехова, предполагает рассмотрение текста как сложного композиционно-речевого целого. Эстетическая теория «архитектонических I форм» М.М. Бахтина была положена в основу изучения авторской позиции в g художественной прозе раннего Чехова. Данная теория позволила по-новому рассмотреть проблему типического в творчестве писателя. В диссертации был предпринят опыт характеристики взглядов Чехова в 80-е годы на природу человека с помощью методов лингвистического контент-анализа.
Научная новизна.
Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в следующем: использован рецептивный подход к объекту исследования; показаны место и функция гоголевских приёмов характеристики персонажей в ранней прозе Чехова, уточнены факторы, определившие постоянство этих приёмов; произведён анализ корпуса ранних рассказов Чехова, редко привлекавших внимание исследователей; поставлена проблема "дарвиновского текста" в ранних рассказах Чехова; применён контент-анализ писем писателя с 1879 по 1887 гг. для уточнения воззрений Чехова на проблему природы человека. 1 Яусс Х.Р. История литературы как яровокация литературоведения // Новое литературное обозрение, № 12, 1995. С. 34-85; Компаньон А. Читатель // Демон теории. Литература и здравый смысл. - М.. Изд-во им.
Сабашниковых, 2001. С. 163-191.
Формирование нериторической концепции литературы писателями-натуралистами 40-х гг. XIX века
Автора диссертаций заинтересовала типологическая общность эстетических деклараций «Натуральной школы» и металитературных высказываниях раннего Чехова. Естественным образом последовал вопрос: какими общими закономерностями объясняется феномен кардинального различия в структуре персонажей у Чехова и писателей «натуральной школы» при общей задаче правдивого отображения действительности? Ответ лежал на поверхности. Любая форма искусства, такая "объективная" как фотография1, заключает в себе свойство членить и классифицировать реальность. Искомая "объективность" рассчитана на сочувственное понимание читателей2, разделяющих с автором аксиоматические знания о мире, что означает неизбежную соотнесённость реалистической литературы с философскими представлениями и научными парадигмами, историческая изменчивость которых очевидна. Дальнейшее исследование «натуральной школы» даст возможность показать, что решение проблемы человека, поставленной Гоголем со всей решительностью, претерпевает эволюцию в 40-е и 50-е гг., а в 80-е гг. XIX в. приобретает новый характер в ранней прозе Чехова.
Проблема предназначения литературного труда наиболее остро вставала перед поколением, продолжавшим ту линию развития русской прозы, направление которой было задано Гоголем. В «Авторской исповеди» (1847) Гоголя получило выражение назревшее в интеллектуальном климате эпохи представление о тесной связи литературы и авторского замысла познать «природу человека вообще и душу человека вообще», проникнуть в «вечные законы, которым движется человек и человечество» (6, 214). Слова Гоголя в «Авторской исповеди» о примате познания «натуры» в ущерб воображаемому свидетельствуют о становлении нового представления о принципах литературной деятельности. Эпоха реализма характеризуется современными учёными сменой писательских ориентиров - авторский интерес к свободному познанию и интерпретации «смысла и законов реальности» сменяет задачу перевода реальности в «риторические формы»1.
В названии «натуральной школы», объединившей писателей, сознательно ориентирующихся на эстетические открытия Гоголя, отразился конфликт «риторики» и «натуры», творческого пересоздания реальности и «соображения», то есть рационального познания действительности. «Булгарин очень основательно назвал новую школу натуральной, - в полемической статье констатировал В. Белинский, - в отличие от старой реторической, или не натуральной, т.е. искусственной, другими словами -ложной школы»2. Продуктивно развивая начатое Гоголем изучение русского общества сквозь призму социальной типологии, беллетристика «физиологических» очерков отбросила эпический масштаб гоголевских полотен, сосредоточившись не на человеке «вообще», а на человеке маленьком, «локализуя» (выражение Ю. Манна) предмет изображения.
Рецепция гоголевского творчества содержала, в том числе, и отчётливый политический элемент. П.А. Вяземский ещё в конце 40-х годов отмечал, что Гоголя признают "своим" одновременно и либералы-западники, и консервативно настроенные литературные группы славянофилов: «Каждый видел в нём то, что хотел видеть, а не то, что действительно есть»1. Каждая из литературных групп, развивая определённую часть гоголевского наследия, пользовалась своим рецептивным кодом. Так, если для К. Аксакова Гоголь -русский Гомер, то для Белинского «Мёртвые души» были чем-то вроде знамени прогрессивного направления, сам же автор поэмы считался вождём критического направления до религиозно-дидактического периода своего творчества.
«Молодые писатели 1840-х годов, - справедливо замечает современный исследователь, - восприняли гоголевские «приёмы», но не гоголевское мировоззрение» . Белинский в одном из своих последних писем разъясняет разницу между Гоголем и «натуральной школой»: если Гоголь указала новое содержание, то она воспользовалась этим содержанием «сознательнее»3. Разочаровавшись в гегельянстве, к этому времени понимая под "действительностью" вовсе не инобытие Абсолютного духа, а «кухонное» бытие (по остроумному определению Станкевича), Белинский полагает необходимым исследование подавляющего влияния на человека «мертвящего обихода». Выбор низких сюжетов, изображение отрицательных сторон "действительности" многими писателями-демократами был связан с наличием искажающих человеческую природу общественных условий: крепостного права, телесных наказаний и других особенностей российской жизни, ограничивающих человеческую свободу и подавляющих личность.
Концепция «живого человека» в эстетических взглядах Чехова и её истоки
Таким образом, моральность как таковая являлась для Чехова продуктом долгого развития, и не носила врождённого, то есть субстанциального характера, как это было в просветительских доктринах Белинского. Прогрессистское мировоззрение глубоко затронуло сознание Чехова, о чём можно судить не только по письмам, но и по «Записным книжкам»: «У животных постоянное стремление раскрыть тайну (найти гнездо), отсюда у людей уважение к чужой тайне, как борьба с животным инстинктом!» (17, 51). Давая определению религиозной веры в тех же «Записных книжках», Чехов опирается на эволюционную модель развития: «Вера есть способность духа. У животных её нет, у дикарей и неразвитых людей - страх и сомнения. Она доступна только высоким организациям» (17, 67). Несколько односторонними, но всё же глубокими нам показались суждения свящ. М.М. Степанова: «Как образцовый интеллигент, Чехов верил в силу и в великое значение культурного прогресса истории ... Веру Чехова в прогресс и культуру, несомненно, разделяет большинство русской интеллигенции, и эта вера во многих умах вытесняет религиозную веру»1.
На культурно-историческом фоне последней четверти XIX века небезынтересно вспомнить фигуру К. Леонтьева, позиция которого была действительно нетипична. Отвергая идею прогресса, проповедуя традиционную церковность, философ-монах К. Леонтьев оценивал произведения русской светской культуры со стороны. Плодом такой оценки стала брошюра «Наши новые христиане. Ф.М. Достоевский и гр. Л. Толстой (По поводу речи Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого «Чем люди живы?»)» (1882). Интересно наблюдать, какие критические категории применял Чехов, откликнувшись в «Московских осколках» (1883) на эту брошюру: «Один из наших доморощенных мыслителей, некий г. Леонтьев, сочинил сочинение «Новые христиане». В этом глубокомысленном трактате он силится задать Л. Толстому и Достоевскому и, отвергая любовь, взывает к страху и палке как к истинно русским и христианским идеалам. Вы читаете и чувствуете, что эта топорная, нескладная галиматья написана человеком вдохновенным (москвичи вообще все вдохновенны), но жутким, необразованным, грубым, глубоко прочувствовавшим палку... Что-то животное сквозит между строк (курсив мой. - А.Л.) в этой несчастной брошюрке» (16, 38). Своим критическим пафосом отклик Чехова несколько напоминает «Письмо к Н.В. Гоголю» Белинского; Белинский связывал созданную Гоголем консервативную утопию с душевным нездоровьем, а Чехов консервативный энтузиазм Леонтьева (который, кстати, закончил тот же медицинский факультет Московского университета, что и Чехов) возводит к низшему этапу отношения к личности, к «животным» нравам. Такой же критической обструкции Чехов подвергнул «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) Гоголя.
Несколько нарушая хронологический принцип, обратимся к важному для нашего исследования письму Чехова к А. С. Суворину от 8 сентября 1891 года. Следующая выдержка из письма свидетельствует о том, что «Послесловие» Л.Н. Толстого к «Крейцеровой сонате» вызвало настоящее негодование и искренний протест Чехова: «Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, Боже мой, сколько тут личного! Я третьего дня читал его «Послесловие». Убейте меня, но это глупее и душнее, чем «Письма к губернаторше», которые я презираю (здесь и далее курсив мой. -А.Л.). Чорт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к чёрту философию великих мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из «Холстомера»» (П., 15, 240).
Перед читателем - credo Чехова. Вовсе не случайно он вспоминает «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя в этом письме. Первое, что в этом отрывке бросается в глаза - своего рода "иконоборческий" жест Чехова, обращенный в сторону философии Толстого, проповедовавшего откат от завоеваний цивилизации к патриархальной простоте, к возвращению полноты естественной человеческой природы. Жест Чехова выражает собой неприязнь к грубому самовластию в решении вопроса о дальнейшем направлении в развитии человечества. Вероятно, Чехов намекал на следующий пассаж из «Послесловия»: «Но, не говоря уже о том, что уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира, а есть для религиозных людей догмат веры, для научных же людей неизбежный вывод наблюдений об охлаждении солнца». Естественно, такая аргументация для Чехова - человека научно мыслящего и верящего в прогресс человечества - казалось более чем нелепой. Для Чехова, как можно понять из этого письма, именно «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя - предел самоуверенной смелости бескомпромиссных суждений. «Послесловие» Толстого и книга Гоголя для Чехова - вещи если не равновеликие, то глубоко родственные.
Неприязнь Чехова к последней книге Гоголя сформировалась, по-видимому, задолго до 1891 года. Так, например, Чехов саркастически пародирует в юмореске «О женщинах» (1886) «душную» мысль Гоголя: «Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Пропивают, в винт проигрывают и на Амалий тратят чиновники только жалованье...» (5, 114). В письме Гоголя «Женщина в свете» находим такое суждение: ... большая часть взяток, несправедливостей по службе, и тому подобного, в чём обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жён (курсив мой. - А.Л.), которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни (6,14)».
Своеобразие анималистики и энтомологической образности в прозе Гоголя и Чехова
Приёмы гоголевского гротеска, изображавшие «пошлость пошлого человека» стали общим местом литературы русского реализма. Не случайно К. Леонтьев не находил оправдания тем местам романов Толстого, Тургенева, Писемского, Достоевского, которые заключают в себе «анализ односторонний и придирчивый; искусственное, противоестественное возведение микроскопических волокон и ячеек в размер тканей, доступных глазу невооружённому»1, полагая, что истоком такого анализа является творчество Гоголя. Леонтьев очень точно охарактеризовал ситуацию, когда частый для Гоголя приём сбитого фокуса зрения, усиливающий ситуацию всеобщей дисгармонии («мерзости запустения») в художественном мире писателя, становился постепенно автоматизированным средством («эстетической дубиной»).
Это касается и анималистической портретной живописи, «зоологического» портрета. В.В. Виноградов отмечал, что ««звериная» и вообще «животная» (в том числе и «орнитологическая») символика (в сочетании с вещной) - излюбленный фонд, откуда и последующие «натуралисты» черпали образы при рисовке лиц»2. При этом важно, что круг символов, используемых натуралистами, ограничивается, по мысли В.В. Виноградова, «зоологическими именами, которые не были связаны с возвышенными представлениями и которые не были прикреплены к торжественной, напряженно-эмоциональной, «ужасной» или, напротив, сентиментальной символике» , которая играла значительную роль в передаче высокого пафоса некоторых гоголевских образов.
Так, трагическую семантику смерти Андрия от рук отца в «Тарасе Бульбе» передаёт в том числе и такое сравнение: «Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву» (2, 298). Огромный пласт орнитологических сравнений сентиментальной и патетической окраски использует Гоголь в этой повести. Так, Гоголь использует такую метафору для характеристики материнского чувства, раскрывшегося с особенной силой в матери казаков ночью, перед роковым походом: «Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного в женщине, всё обратилось у неё в материнское чувство. Она с жаром, с страстью, со слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими» (2, 225). «Сердца» казаков, их стремительное и свободное движение по степи усиливается орнитологическими тропами: «Всё, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы» (2, 231). Сопоставительное исследование чеховской и гоголевской орнитологии может стать довольно продуктивным, особенно если принять во внимание эксплицитно выраженную в «Тарасе Бульбе» тему свободы персонажей, а в «Невесте» Чехова - мотив освобождающего бегства молодой героини из провинциального города «в казаки».
И в более позднем отрывке «Рим» анималистическое уподобление указывает на грацию и достоинство красоты альбанки Аннуциаты, воплощает подвижную лёгкость её движений: «Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе, гордости движений» (3, 166), но в то же время символизирует опасность.
Возвращаясь к традиции «натуральной школы», отметим, что особенно важное место в поэтике очерков «натуралистов» отводилось описанию внешности. Использование анималистического портрета в «физиологическом» очерке было весьма распространённым путём создания персонажа.
Исток анималистики российских писателей 1840-х годов можно, на наш взгляд, обнаружить в практике французских «физиологии», имевших широкое хождение в России в это время. Программным для французской физиологической прозы было провозглашенное Бальзаком в 40-х годах (под непосредственным воздействием естествознания) единство методов, применяемых для изучения природы, с методами художественного постижения общества: ««Я понял, что ... общество подобно природе (курсив мой. - А.Л.). Не создает ли общество из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире? Различие между солдатом, рабочим, чиновником, адвокатом ... так же значительно, как то, что отличает друг от друга волка, льва, осла ... . Стало быть, существуют и всегда будут существовать виды в человеческом обществе, так же как существуют они в животном царстве»1.
Из русских «физиологов» анималистический портрет использовали В. Толбин, В. Даль, Некрасов и др.; образы животного мира помогли В. Далю передать своеобразие внешности и характера одного из «маленьких людей» -денщика Якова Торцеголового: «Верблюд, сутулый, неповоротливый, молчаливый - а подчас несносно крикливый и притом безответный работник до последнего издыхания; волк, с неуклюжею, но иногда смешною хитростью и жадностью своею, дерзкий и неутомимый во время голода; пёс, полазчивый, верный, который лает на всё, что только увидит вне конуры своей»2.
Нравственно-психологический тип «тяжёлого человека» в ранней прозе Чехова
Этот тип персонажа распространён в рассказах Чехова 80-х годов на семейную тему. На генетическую связь с гоголевской традицией в этих рассказах указывают принципы характеристического изображения вещного мира и принципы словесного создания портрета. Рассмотрим рассказ «В приюте для неизлечимо больных и престарелых» (1884).
«Тяжёлый человек» дедушка Парфирий Саввич непривлекателен на вид, на стене его комнате в приюте висят «неприличные картинки». Улыбка персонажа повествователю напоминает «большую морщину» (3, 90). Все
Детали внешнего убранства комнаты, словесного поведения и привычек старика конституируют заочно негативный образ персонажа. Обобщённо-типическая сторона этого персонажа выражается его социальной позицией -он закоренелый «крепостник», но уже вырождающийся. Он ностальгически вспоминает, как сёк крепостных и своего сына, скучает по прошлому. Привычка унижать слабых срабатывает и при обращении к невестке. Дедушка неисправим, он вызывает страх у внучки Саши и заставляет униженно просить помощи своих родственников.
Парфирий Саввич, показывает Чехов, - плоть от плоти той барской, крепостнической почвы, которая взрастила и воспитала его. Чехова, судя по всему, волнует судьба Сашеньки, той маленькой «золотушной девочки в прорванных башмаках» (3, 90), которую водит мама в приют к страшному дедушке. Писателя волнуют душевные мучения Сашеньки, те разрушения, которые происходят во внутреннем мире ребёнка вследствие общения с «тяжёлым человеком». Саша ещё не имеет привычки терпеть унижения, как её мама, у неё нет способности защищаться и гордости отца, отказавшегося от помощи и называющего Парфирия Саввича «Плюшкиным». Саша больше всех страдает от дедушки, а гнетущая атмосфера дедушкиной "любви" делает образ «тяжёлого человека» ещё более отвратительным для читателя.
Семилетний мальчик Митя становится игрушкой настроений своего отца - «тяжёлого человека» в рассказе «Отец семейства» (1885). Каждый раз, после «хорошего проигрыша или попойки» Степан Степаныч Жилин жестоко тиранит семью (4, 112). Ругательства и оскорбления грезятся Жилину в виде «горьких истин»: наиболее страстно за столом он обличает мнимое безделье жены, невоспитанность сына. Как и в предыдущем рассказе, страдающая сторона беззащитна; Федя не случайно наделяется «бледным и болезненным лицом», он забит и несчастен. Бесправие и забитость Феди усугубляется тем, что на другой день отец, оскорбивший вчера всех, как ни в чём не бывало требует расположения от ребёнка.
Важное отличие Степана Степановича от образа первого «тяжёлого человека» заключается в присутствии голоса совести, укоряющего Жилина за его дикие проступки. Всё же привычка выливать дурное расположение на близких укоренена в Жилине: повторяясь из раза в раз, она воспроизводится с лёгкостью; раскаяние же, напротив, едва-едва намечено. Моральное чувство в герое слишком слабо, чтобы быть господствующим, его пересиливают чувства эгоистического характера: «Выспавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызения совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом, но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать...» (4, 7/5).
К типу «тяжёлых людей» с полным правом можно отнести героев одноимённого рассказа «Тяжёлые люди» (1886) Евграфа Ивановича Ширяева, его сына студента Петра и внесюжетного персонажа - деда протопопа, который, как утверждает повествователь, «бил палкой прихожан по головам» (5, 326).
Проблемы, связанные в этом рассказе с типом «тяжёлого человека», очевидным образом углубляются по отношению к рассказам прошлых лет. Во-первых, рассказ принимает два равноценных ракурса повествования: ведётся в перспективе повествователя и в аспекте героя. Во-вторых, несколько вариантов страдающей стороны - безмолвно-забитая (мать Федосья Семёновна, старшая дочь Варвара и двое маленьких детей) и персонаж активно сопротивляющийся, думающий, оказывающийся в то же время способным на несправедливость - студент Пётр.
Характер этого персонажа - типично чеховский - встречается в рассказах «открытия». Студент Пётр случайно обнаруживает для себя всеобщее значение закона сохранения семейной тайны, при котором человек неизбежно сохраняет от чужих глаз семейную драму: «И он подумал, что, вероятно, сама природа дала человеку эту способность лгать, чтобы он даже в тяжелые минуты душевного напряжения мог хранить тайны своего гнезда, как хранит их лисица или дикая утка» (5, 328). Аналогия из мира природы не случайна, ведь, как уже было показано в предыдущих параграфах, Чехов, вслед за Дарвином и Спенсером, придерживался теории происхождения нравственных чувств из законов, действующих в царстве животных.
Основной вывод, к которому приходит этот персонаж в результате семейного скандала, заключается в следующей фразе: «Он не чувствовал ни злобы, ни стыда, а какую-то неопределенную душевную боль. Он не обвинял отца, не жалел матери, не терзал себя угрызениями; ему понятно было, что все в доме теперь испытывают такую же боль, а кто виноват, кто страдает более, кто менее, Богу известно...» (5, 329). Способность к подобной рефлексии усложняет характер Петра, но всё же не отменяет элементов роковой механистичности в поступках отца и сына. Действительно, в который раз даёт понять читателю Чехов, чужая душа - вещь в себе, о содержании которой можно лишь строить гипотезы. Однако жёсткая необходимость душевного склада, темперамента, наследственности делают человеческое поведение предсказуемым, не свободным.