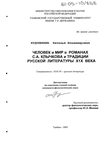Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Внутренний человек» как научная проблема 19
1.1. «Внутренний человек» и психологизм: к вопросу о соотношении понятий 19
1.2. «Внутренний человек» в европейской литературно-философской традиции: Аврелий Августин и Блез Паскаль 32
Глава II. «Внутренний человек» в трактате А.Н. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии» и в «Дневнике одной недели»: русские и европейские источники 43
2.1. Масонская практическая философия, светское философствование на религиозные темы и идеи французского Просвещения как актуальный контекст становления «внутреннего человека» в трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» 43
2.2. Художественное воплощение «внутреннего человека» в трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» 65
2.3. «Дневник одной недели» в контексте идеи «внутреннего человека» 84
Глава III. Гоголь и Паскаль: проблема «внутреннего человека» 96
3.1. Самоистолкование и поиск «внутреннего человека» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и «Авторской исповеди» Н.В. Гоголя 96
3.2. Философия поприща Гоголя и идея «сродности» Г.С. Сковороды 118
3.3. «Внутренний человек» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя и «Мыслях о религии и других предметах» Б. Паскаля 126
Заключение 146
Список использованных источников и литературы 152
Список источников 152
Список научно-критической литературы 154
Справочная литература 172
- «Внутренний человек» и психологизм: к вопросу о соотношении понятий
- Масонская практическая философия, светское философствование на религиозные темы и идеи французского Просвещения как актуальный контекст становления «внутреннего человека» в трактате «О человеке, его смертности и бессмертии»
- «Дневник одной недели» в контексте идеи «внутреннего человека»
- «Внутренний человек» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя и «Мыслях о религии и других предметах» Б. Паскаля
Введение к работе
Тема настоящей работы – «Внутренний человек» в русской и французской литературной традиции (Паскаль, Радищев, Гоголь)» – имеет сложившуюся предысторию исследования, как в теоретическом, так и в исто-рико-литературном плане.
Содержание понятия «внутренний человек» изучалось в основном специалистами по древнерусской литературе и литературе переходного периода. Определение терминологических границ «внутреннего человека» затруднено метафоричностью самого понятия, одновременной его отнесенностью к сфере религиозной традиции и светской, которые разнонаправленно осмысляют явление. В литературоведении постановка указанной проблемы осложняется наличием смежных, устоявшихся в науке терминов – таких, как психологизм, внутренняя доминанта, внутренний мир, интроспекция. В итоге наблюдается смешение явлений литературы, психопоэтики и антропологии, а интерпретация «внутреннего человека» и в художественном сознании, и в литературоведческих исследованиях часто соединяется с темой внутреннего мира человека.
Методологическая неточность при разграничении «внутреннего человека» от терминологически оформленных дефиниций либо необоснованное отождествление близких, но принадлежащих разным культурным парадигмам понятий, раскрываются в исследованиях, посвященных способам художественной репрезентации интеллектуально-эмоциональной жизни человека. Действительно, религиозно-мистические коннотации «внутреннего человека», связанные с генезисом понятия, оказываются лишними при воссоздании в художественном произведении душевного микрокосма личности, который может быть исчерпывающе описан через ценностно ориентированное и завершенное понятие «внутренний мир».
Недостаточная изученность такого явления как «внутренний человек» и недоказанность его терминологической самостоятельности определили актуальность исследования. К тому же, проблема «внутреннего человека», характерная для европейской литературы до картезианского поворота и для русской литературной традиции, ранее не привлекалась для типологического и контекстного рассмотрения произведений отечественных и зарубежных писателей.
Научная новизна диссертации состоит в следующем: во-первых, определяется самостоятельность понятия «внутренний человек» и описывается его функционирование в художественном сознании; во-вторых, трактат А.Н. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии» изучается не только в контексте европейских источников, но и в связи с масонской практической философией, с корпусом текстов, относящихся к «русской метафизике XVIII века», и с собственно художественными произведениями автора («Путешествие из Петербурга в Москву», «Дневник одной недели»); в-третьих, своеобразие «духовной прозы» Гоголя вводится в
контекст западной литературы, а именно «Мыслей о религии и других предметах» Б. Паскаля.
Объектом исследования является функционирование идеи «внутреннего человека» в изучаемых сочинениях Б. Паскаля, А.Н. Радищева и Н.В. Гоголя.
Предмет исследования – становление идеи «внутреннего человека» как регулятивной и определяющей способы изображения человека.
Материалом исследования послужили «Мысли о религии и других предметах» Б. Паскаля; художественные и философско-публицистические сочинения А.Н. Радищева: «Путешествие из Петербурга в Москву», «Дневник одной недели», «О человеке, его смертности и бессмертии»; проза Н.В. Гоголя 1840-х годов: «Выбранные места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь», а также его публицистическое и эпистолярное наследие. Помимо этого привлекаются тексты переводных сочинений, оказавших влияние на масонскую практическую философию жизни и этику, переписка русских масонов, а также диалоги Г. Сковороды.
Цель работы состоит в том, чтобы в исследуемых текстах в рамках художественного воплощения «внутреннего человека» установить генетическую и типологическую связь между философской прозой А.Н. Радищева, произведениями Н.В. Гоголя 1840-х гг. и «Мыслями о религии и других предметах» Б. Паскаля; объяснить трансформацию первоначально развивавшейся в европейской литературе и религиозной словесности идеи «внутреннего человека», в общем ушедшей на задний план в европейской культуре после картезианского поворота и актуальной для художественного сознания ряда русских писателей и мыслителей.
Цель определила задачи исследования:
-
Определить отношение «внутреннего человека» как самостоятельного явления к смежным понятиям.
-
Выявить актуальный эстетический и философский контекст формирования «внутреннего человека» в исследуемых текстах.
-
Прояснить место европейской литературно-философской традиции в антропологических взглядах А.Н. Радищева.
-
Проанализировать способы художественного воплощения «внутреннего человека». Дать описание художественного воплощения «внутреннего» в литературе традиционализма (или «нормативной, эйдетической поэтики») и литературе периода индивидуального творчества (или «неканонической, художественной модальности»).
-
Определить методологические и собственно текстовые основания типологического параллелизма между «духовной прозой» Н.В. Гоголя 1840-х годов и «Мыслями о религии и других предметах» Б. Паскаля.
Методологическую основу диссертации определило сочетание традиционного историко-типологического подхода, историко-литературного анализа, концепции исторической поэтики и теории эстетического объекта. В теоретическом отношении важное место занимают труды С.С. Аверин-цева, М.М. Бахтина, Н.С. Бройтмана, А.Н. Веселовского, А.Я. Гуревича,
Ю.М. Лотмана, Л.В. Пумпянского, А.П. Скафтымова. С точки зрения методологии компаративистского исследования особенно значимы труды О.М. Буранка, И.В. Вершинина, Вл.А. Лукова, И.О. Шайтанова. Повлияли на методологию исследования работы, посвященные частным и общим вопросам поэтики литературы конца XVIII века, R. Baudin, M. Fraanjee, О.М. Гончаровой, Г.А. Гуковского, А.Л. Зорина, А.А. Костина, Н.Д. Кочетковой, Ю.М. Лотмана, Л.Н. Лузяниной, Г.П. Макогоненко, К. Штедке и др. Для изучения творчества Гоголя 1840-х гг. особенно продуктивными были работы Е.И. Анненковой, Ю.Я. Барабаша, В.А. Воропаева, С.А. Гончарова, А.Х. Гольденберга, А.И. Иваницкого, В.Ш. Кривоноса, Ю.В. Манна, В.В. Прозорова и др. На изучение сочинений Б. Паскаля влияние оказали исследования F. Baudin, P. Force, Л. Гольдмана, П.С. Гуревича, G. Nivat, L. Marin, P. Sellier, Г.Я. Стрельцовой.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней проводится анализ «внутреннего человека» как самостоятельного явления. Изучается генезис и философско-эстетический контекст становления идеи «внутреннего человека» в русской и французской литературе, рассматриваются механизмы воплощения «внутреннего человека» на уровне образной системы произведения и на уровне типологии исповедального высказывания.
Практическая значимость обусловлена возможностью использования полученных результатов в лекционных курсах по истории русской и зарубежной литературы, при подготовке семинаров и спецкурсов.
На защиту выносятся следующие положения:
-
Обращение к «внутреннему человеку» писателями вызвано поиском антропологического идеала, стремлением зафиксировать потенциальную модель духовного совершенства человека, свидетельствующую о нём как смысловом и аксиологическом целом. Для «внутреннего человека» характерен некоторый схематизм, заложенный в идеальном представлении о человеке и дающий набор устойчивых признаков индивидуальности, формирующий ее социально-культурный код.
-
Художественное воплощение «внутреннего человека» в текстах Б. Паскаля, А.Н. Радищева и Н.В. Гоголя сопряжено с рядом образов («сердце», «зеркало», «пустыня», «слёзы», «нутро»), сюжетных ситуаций (тяжелая болезнь, внезапное выздоровление на пороге смерти, духовное прозрение и религиозное обращение, самоотречение), специфическим оформлением субъекта высказывания как признающегося либо исповедующегося.
3. Примат этического в творчестве А.Н. Радищева связан не с революционным пафосом мысли писателя, а с представлением о природе человека как о содержащей в себе этический смысл бытия, который может быть выражен в словесном творчестве. Также важность этических оснований антропологической картины писателя объясняется особенностями русской культуры второй половины XVIII века, которая стремилась не разделять теоретические знания и практический опыт, не противопоставлять философии мораль.
-
Открытие «внутреннего человека» затрагивает способы художественного оформления самосознания субъекта высказывания, которое выражается в исповедальном слове, вариантах аналитического признания о себе и самоистолковании.
-
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» и «Авторской исповеди» познание «внутреннего человека» рассматривается Н.В. Гоголем как путь к сродности и залог достижения гармонии между миром и человеком. Благодаря ориентации авторского слова на публичность и стремлению сделать личное покаяние достоянием общественности, рассказ о духовном, внутреннем опыте приобретает статус фикционального.
Апробация исследования. Результаты работы изложены в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ (3 статьи), в статьях и материалах докладов на всероссийских и межвузовских конференциях, проходивших в период с 2009 по 2013 год в Самаре, Воронеже, Новосибирске, Твери. Основные и промежуточные результаты диссертационного исследования обсуждались на кафедре русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия».
Структура и объем работы определяются поставленной целью и задачами. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, и библиографического списка, включающего 223 источника.
«Внутренний человек» и психологизм: к вопросу о соотношении понятий
Вопрос о соотношении этих понятий представляется крайне важным в методологическом плане. Отсутствие закрепленных в авторитетных литературоведческих изданиях понятий «психологизм», «внутренний мир» и «внутренний человек» приводит не только к терминологической путанице, к смещению содержания понятий, но и к невозможности теоретически разграничить авторскую модальность от эстетической установки.
Психологизм в отношении к художественному сознанию может быть осмыслен в следующих аспектах: во-первых, как родовой признак искусства словесности и в целом искусства, которое, по сути, есть изучение человека эстетическими средствами; во-вторых, как специфическое воплощение психики биографического писателя; в-третьих, как эстетический принцип, формирующий целостность авторского высказывания и всего текста. На базе анализа второго аспекта функционирования психологизма возникло целое литературоведческое направление, изучающее с помощью методов психоанализа личность писателя, имплицитное и эксплицитное отражение психических состояний писателя на его произведениях. Теоретической базой для таких исследований стали открытия 3. Фрейда и К.Г. Юнга в области психоанализа и методологическое решение вопроса об отношение аналитической психологии к литературному творчеству39, которое во многом созвучно модернистскому мировосприятию.
Как эстетический принцип психологизм есть сознательная установка автора на словесно-образное воплощение внутреннего мира персонажа, что позволяет назвать психологизм в искусстве художественным исследованием внутреннего мира человека. В.Е. Хализев уточняет, что это также «индивидуализированное воспроизведение переживаний в их взаимосвязи, динамике и неповторимости» , которое изначально появилось в романтической системе. Именно в романтизме была актуализирована значимость внутреннего мира человека, интеллектуально-эмоциональной жизни личности. Сквозь призму душевных переживаний романтики оценивали внешние события и обстоятельства, видели в них то, что противоречит и препятствует духовным поискам героя. Такая ситуация приводила к формированию романтического конфликта.
Основное направление развития литературного психологизма второй половины XIX века было связано с поисками средств и способов подачи текучести внутреннего мира персонажа. Писатели искали внешние по отношению к персонажу (например, пейзаж) способы передачи динамичности его внутренний жизни. Создание пейзажно-«философской» оркестровки, как это было показано Л.В. Пумпянским в цикле его работ о Тургеневе, основывается на «неограниченном доверии к внутреннему опыту, об иллюзиях и обманах которого, очевидно, ничего не известно. Философской гарантией оказывается только сила и яркость пережитой концепции, - а это как раз и характеризует не-философский, примитивный (при всей культурной и литературной насыщенности) и в самом глубоком смысле этого слова реакционный (ибо возвращающий философию к методике мифологии) тип мышлении о мире»41.
В литературе складывается подвижная психологическая модель человека, создающая эффект реальности характера и достоверности изображаемой художником жизни. Как верно было замечено Л.Я. Гинзбург, «равнодействующую поведения образует теперь множество противоречивых, разнокачественных воздействий», которые определяют способы сочетания «неожиданности (парадоксальности) с законченностью» . Такая модель была предельно отточена Львом Толстым, «в художественной системе которого психологизм окончательно переходит «границу» между аналитической и динамической традицией в подаче внутреннего мира героя. Не случайно появление термина «диалектика души» (Н.Г. Чернышевский) в отношении того типа психологизма, к которому пришел Толстой, стремясь найти адекватную литературную форму своему пониманию внутреннего мира человека как сложного, беспрестанно изменяющегося и противоречивого «организма», того, что больше, чем «душа», что гораздо более текуче и подвижно, более глубоко и даже в какие-то моменты бездонно, чем может казаться на первый взгляд, хотя и едино и целостно в силу нравственной (природной) основы личности, с которой, по сути, и «работает» Толстой» .
На рубеже XIX-XX столетий литература активно использует опыт антропоцентризации, с одной стороны, связанный с разработкой представлений о душе и душевной жизни человека как о многоуровневой сверхсложной системе, которая началась еще в русской литературе и метафизике XVIII века. С другой стороны, накопленный реалистической эстетикой опыт анализа социальной сферы, открытие новых форм социального аналитизма, синтезирующихся с психологизмом и характерологией, приводят к созданию новой системы художественного психологизма и совпадают с тенденцией психологизации литературы. Разработка приема объективации в литературе второй половины XIX века приводит к тому, что обстоятельства и обусловленность поведения героя становятся субъектом художественного психологизма, отменяется необходимость какого-либо авторского объяснения. В XX же веке переосмысляется опыт субъективации, открытый литературой XVIII столетия, на его основе развивается, например, эстетика «вчувствования» и происходит лиризация прозы рубежа XIX-XX вв.
Если понятие художественный психологизм оформлено как литературоведческий термин44, то широко употребляемые словосочетания «внутренний мир» и «внутренний человек» не зафиксированы ни в одном литературоведческом словаре. Однако в некоторых исследованиях они встречаются и используются как синонимические. Например, в лингвистике для обозначения фрагмента языковой картины мира. Строгого терминологического наполнения ни «внутренний человек», ни «внутренний мир» в языкознании не получили, так как, отражая опыт интроспекции, словесное оформление «внутреннего мира» человека не полно, не целостно и не завершено, не может считаться индивидуально авторским, ведь к нему, по выражению М.П. Одинцовой, «"приложили руку" многие поколения людей» .
Как понятие «внутренний мир» разрабатывалось в русской религиозной философии в контексте антропологической проблематики. Его интерпретация в этой связи затрудняется тем, что оно никогда не становилось центром конкретного исследования, но всегда вовлекалось в круг вопросов, связанных с описанием природы человека, структуры личности, и с христианской идеей богочеловека. Проблема человека в русской философии с момента ее возникновения ставилась и решалась самобытно и развивалась одновременно в двух направлениях, не столь отличных идеологически, сколько методологически.
Масонская практическая философия, светское философствование на религиозные темы и идеи французского Просвещения как актуальный контекст становления «внутреннего человека» в трактате «О человеке, его смертности и бессмертии»
Трактат «О человеке, его смертности и бессмертии» написан Радищевым во время ссылки93. Исследователями9 , обращавшимися к трактату, решен вопрос о времени написания текста, о его завершенности, целостности, показаны философские источники размышлений Радищева, обсуждается композиция произведения в связи с авторской позицией.
Наиболее изученным является вопрос о европейских философских источниках трактата. Доказано, что в нем Радищев широко использовал литературу XVIII столетия: французскую95, немецкую96 и английскую97.
Трактат обнаруживает огромную начитанность Радищева в самых различных сферах знания, универсальность его научных и личных интересов, исключительную широту его мысли. Но ближайшим образом - в соответствии с темой работы - Радищеву пришлось опираться в ней на философскую литературу. При этом он не только помнил при работе над трактатом общий смысл и логику построения многочисленных философских и естественно-научных концепций своего времени, но практически цитировал ключевые исследования, касающиеся смежной проблематики, в отношении отдельных фактов иногда следуя близко за изложением избранного им автора, иногда даже вольно переводя его целыми абзацами98.
Исходные начала концепции, развиваемой в трактате, обнаруживались уже в примечаниях Радищева к книге Мабли «Размышление о греческой истории», в «Житии Федора Васильевича Ушакова» и в «Путешествии из Петербурга в Москву». Что касается перевода Мабли", то из примечаний Радищева-переводчика прослеживается отношение к содержательной стороне текста, развивается ранее намеченное представление о человеке, согласно которому идеалу человеческой личности соответствует определенный общественный идеал. Идеал человеческой личности основывается на душевных стремлениях субъекта и нравственных требованиях к самому себе, что должно послужить основой для последующего обращения к теме «внутреннего человека» и что затем спроецируется на общественную мораль. Эта мысль варьируется и в «Путешествии из Петербурга в Москву» через указание на то, что «Гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком» .
Главными источниками идейной ориентации Радищева стали труды российских и западноевропейских мыслителей, политических деятелей, естествоиспытателей и публицистов. Интеллектуальная насыщенность творчества Радищева не вызывает сомнения у отечественных и у зарубежных исследователей. Не находившиеся под идеологическим давлением зарубежные авторы рано заметили, что «Radictchev n est pas une "revolutionnaire monolithique". C est un philosophe qui s interesse a tous les problems de son temps, et dont tout l oeuvre est mise au service de Phomme»101.
Трактат открывается эпиграфом из Лейбница и посвящением друзьям. В комментариях к тексту «О человеке, его смертности и бессмертии» В.А. Западов утверждает, что друзьями автор называет своих сыновей 02, таким образом, составитель комментариев настаивает на концепции педагогического значения трактата. Но обращение к друзьм-сочувствешшкам открывает большинство художественных произведений писателя и отсылает-к форме внелитературного послания. Радищев использовал жанр внелитературного, бытового письма для установления не только диалогического тона, следы которого, несомненно, присутствуют в трактате и сближают его с построенным в виде диалога текстом М. Мендельсона «О бессмертии души», но и для разработки непринужденной интонации, возведенной в конце XVIII века в ранг литературного принципа.
Композиционно трактат разделен на четыре книги: в первой Радищев устанавливает общие положения, формулирует круг проблемных вопросов и обозначает исходные моменты своих рассуждений, определяет место, занимаемое человеком в природе, оценивает его умственные способности; во второй - перечисляет аргументы в пользу смертности души; в третьей и четвертой книгах он характеризует и оценивает учение о бессмертии души. В трактате Радищев противопоставляет рассуждения противников и защитников индивидуального бессмертия. Личные его симпатии на стороне положительного решения этого вопроса. «В религиозных вопросах Радищев склоняется в сторону того релятивизма, который был характерен для проповеди «естественной религии» в XVII и XVIII веках (но вовсе не деизма, как часто полагают, путая понятие деизма и доктрины «естественной религии»)»103.
В представлениях о человеке Радищев исходил из научных данных своего времени. Духовное содержание «О человеке,...» эклектично соединялось с современными завоеваниями научной мысли. Излишняя, по мнению некоторых исследователей, мистическая заостренность текста неудачно сочеталась с непрозрачным ходом мысли автора: «De Гпотте,..." trop spiritualiste d inspiration et trop louvoyant dans sa recherche maladroit, mais honnete, de la verite pour corresponds a la description lineaire que Гоп veut dormer de l auteur»104.
Проявляя исключительный интерес к человековедческой проблематике, Радищев вносил серьезные коррективы в теории «естественного права» и «общественного договора». Он не соглашался с концептуальными понятиями Ламетри - «человек-машина», Монтескье - «человек-растение», Руссо -«человек-животное». Его понимание явлений социальной жизни требовало сопоставления «человека» и «рода людского», общественного целого.
«Дневник одной недели» в контексте идеи «внутреннего человека»
Культура ведения дневника в России в конце XVIII века в некоторой степени была связана с масонской философией жизни и этики. Последователи мистического учения внимательно наблюдали за своими душевными порывами, эмоциями и чувствами. Они фиксировали свои переживания в дневниках, которые ежегодно перечитывали. Дневниковая запись выступала в роли свидетельства, в ней автор говорил правду, нечто, неизвестное другим. На необходимость ведения подобных дневниковых записей указывалось в сочинениях И. Масона и И.Г. Юнга-Штиллинга. Например, И.П. Тургенев, следуя рекомендациям своих любимых авторов, вел заметки наподобие дневниковых, что известно из его переписки, но, к сожалению, скоро прекратил это, или же эти заметки не дошли до нас. Исследователи обращались к дневнику друга П. Я. Чаадаева Д. Облеухова (наиболее подробно этот текст проанализирован М. Гершензоном184). С этими дневниками сближается мемуарная литература с ее исповедальной тональностью, которая также есть следствие напряженного самоанализа. В основном, авторами дневников были известные масоны И.В. Лопухин185, В.Н. Зиновьев186, П.Я. Титов187 и др.
Реализация масонских практик сосуществует в сознании образованного человека рубежа XVIII-XIX вв. с христианской литературой, тем более, что основные масонские и религиозные практики совпадают (исповедь, покаяние, внимание к внутренней жизни). В этом контексте может быть прочитан и «Дневник одной недели» А.Н. Радищева, который, несомненно, относится к художественным текстам, а не к внелитертурным явлениям. Но в силу «имитации подлинного человеческого документа»188 и «сюжетного подхода к собственной жизни» произведение Радищева рассматривается то в связи с опытами «промежуточной литературы», как ее называла Л.Я. Гинзбург, то включается вместе с повестью Н. М. Карамзина «Моя исповедь» в ряды первых образцов русской психологической прозы.
«Дневник одной недели» оценивался и как «исповедь духовно опустошенной личности»190, созданная под влиянием эстетики «Исповеди» Руссо; как история души, предвосхитившая толстовскую диалектику191, и «психологический очерк»192, утверждающий неповторимость внутренний жизни героя, что, несомненно, приводило к выводам о близости произведения Радищева сентиментальной эстетике. Но крайняя эмоциональная насыщенность текста, подчеркнуто избыточная экспрессивность еще не говорит об исключительности воспроизведенных в дневнике переживаний и индивидуальности героя, ставшими предметами психологической прозы.
В тексте дневника душевное состояние повествующего представлено как стихия страдания («грусть ... преследуя меня безотлучно; беспокойство усугубляется; где искать мне утоления моей скорби?» ), сменяющаяся впоследствии ликованием («о радость! о блаженство!» ). Исследователями эта напряженная эмоциональность была интерпретирована как доказательство самобытности чувств героя, развернутых во временной последовательности и данных в динамике становления. Но подробное изучение сферы чувств жизни героя показывает, что она лишена всякой конкретности. Если мы зададимся вопросом, о чем скорбит («Но где мне искать утоления хотя мгновенного моей скорби?»195) герой дневника, то увидим, что он оплакивает свою смертность (четверг, эпизод посещения кладбища), богооставленность (среда, «...я лежу в постеле, - бьет полночь. О, успокоитель сокрушений человеческих, где ты? Почто я казнюсь? 1 Іочто лишен тебя?»196), духовное бессилие («был в бесчувственности», «ничто не помогает, — уныние, беспокойство, скорбь, о как близко отчаяние!»). Отметим, что сожаление о духовной немощи, мысль о покинутости всевышним и смертности человека традиционны для библейской словесности. Дословная близость формулировок и родство тем позволяет искать истоки изображения внутренней жизни не в автобиографизме «Дневника одной недели», а в рамках библейской перспективы.
Фиксация взаимосвязи чувств и физического состояния («Грусть моя, преследуя меня безотлучно ... делала меня почти глухим и немым»197), переход внутреннего во внешнее, с одной стороны, могут быть вполне восприняты в контексте эстетических поисков литературы XVIII века. Эта проблема была предметом переписки Карамзина с Лафатером, надеявшегося благодаря занятиям «физиогномикой» разъяснить вопрос о том, как сосуществуют и взаимно влияют душа и тело. С другой стороны, ряд пассажей, связанных с самообличением и артикуляций душевного состояния напрямую соотносится с текстом Ветхого завета. Фраза «Грусть моя, преследуя меня безотлучно ... делала меня почти глухим и немым» повторяет стих третий 38-го Псалма «Я был немым и безгласен, и молчал даже о добром; скорбь моя подвиглась». Аллюзии на текст Псалтыри имплицитно вводят мотив незаслуженного страдания, выраженный в повторяющихся вопросах «Почто отъехали?», «Почто лишен тебя?», «Почто я с ними расстался?».
Датированная понедельником запись («Рассудок вещает: в тебе самом. Нет, нет, тут-то я и нахожу пагубу, тут скорбь, тут ад. Пойдем ... войдем в сад, общее гульбище ... Они соболезновать с тобою не будут»198) не только дословно воспроизводит образность седьмого-десятого стихов 51-ой части Книги Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, но и дублирует саму фабульную ситуацию этого фрагмента: «Душа моя близка была к смерти и жизнь моя была близ ада преисподнего: со всех сторон окружали меня, и не было помогающего; искал я глазами заступления от людей, - и не было его»1 9. В обоих случаях говорящий называет свое душевное состояние адом, а драматизм всего положения акцентирован безразличием со стороны наблюдающих героя людей в ответ на его немую мольбу о помощи («все скорбь твою на челе твоем узрят» и «искал я глазами заступления»).
Эта же дневниковая запись отсылает нас и к первым строкам «Путешествия из Петербурга в Москву» («Обратил взоры мои во внутренность мою - и узрел, что бедствии человека произходят от человека»), в которых автор называет поведение человека первопричиной своего положения. Условный автор дневника в первую очередь «утоление скорби» ищет в себе самом. Обращенность к себе - структурно образующий принцип дневника. Однако парадоксальность произведения Радищева заключается в том, что это обращение, интерес к себе имеет сверхличную природу. Поэтому для Радищева невозможно в данном произведении позволить увидеть за своей скорбью, доходящей до отчаяния, реальное переживание разрыва с друзьями. Мы ничего не узнаем о причинах их отъезда, о самих друзьях. Авторское высказывание насквозь экспрессивно и холодно к пластике: нет ни одного жеста, метафорически передающего внутреннее состояние, ни одной личной приметы в образе героя или его друзей. Противоположен такому подходу взгляд Карамзина, видевшего, как отмечал Ю.М. Лотман, «перед собой человека, его жесты и позу. Это совершенно иной тип знания, личный, интимный, который в принципе противоположен традиционно-историческому»200. В этом контексте показательно предисловие Карамзина ко второй книге «Аонид», в котором он утверждает стремление к личной конкретности в изображении чувства. «Не надобно также беспрестанно говорить о слезах, прибирая к ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиянтовыми - сей способ трогать очень не надежен - надобно описать разительно причину их; означить горесть не только общими чертами, которые, будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного действия в сердце читателя - но особенными, имеющими отношение к характеру и обстоятельствам поэта» .
«Внутренний человек» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя и «Мыслях о религии и других предметах» Б. Паскаля
Ранее было показано, что тема поприща позволяет Гоголю последовательно обратиться к трем проблемам: отношению человека к себе, к миру и к Богу. В концепции Гоголя поприще становится способом существования человека в мире; тем местом, на котором субъект прикладывает силу для реализации своих поступков, для поиска добра или истины. Но в то же время мир не является тем пространством, в которое человек может поместить свои подлинные надежды и чаяния, хотя бы потому, что познание природы человека происходит за рамками социальной и всеобщей жизни. В данном случае познать - «это значит понять, что спасти подлинные ценности человек может, лишь отказавшись от мира, избрав отшельничество...» . Эта мысль близка Гоголю и варьируется в его заметках и письмах. Так, например, в наброске о значении прирожденных страстей писатель замечает: «не кривое, а прямое понимание души встречается лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, - не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души»302. «Житейская тина» (ср. с «клейкой стихийностью мира» у Сковороды) отделяет человека от самого себя, создает дистанцию между ним и видимым миром. Если человек Сковороды способен вырваться из «клейкой стихийности» и создать новую связь человека с миром, основанную на сродности, то у Гоголя гармония в этой сфере становится достижима с отказом от мира и при соотнесении своего действия с Богом. Он чувствует, что «всех нас озирает свыше небесный полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от его взора» .
Эти несколько ключевых моментов - переживание своего несоответствия окружающей действительности, ощущение непрестанного присутствия Бога, отказ от участия в жизни мира как форма заботы о себе и своем спасение - дают повод для сближения воззрений Паскаля и Гоголя. Стоит также отметить, что перечисленные узловые сюжеты, внутри которых возможен вопрос о типологической связи текстов обоих авторов, встроены в рассуждения французского мыслителя ровной в той же логике, что у Гоголя и Сковороды. Логика поприща и «сродного» места актуализировала вопрос о взгляде человека на самого себя, на мир и Бога. Эта структура взгляда воспроизводится в размышлениях Паскаля: «порядок мысли - начинать с себя, со своего Создателя и своего назначения»304.
Само сопоставление мировосприятия французского мыслителя и русского писателя было намечено Л. Толстым в письме Н. Страхову: «...Сильное впечатление у меня было ... при перечитывании в третий раз в моей жизни переписки Гоголя. Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя вообще определено там (письмо его к Языкову, 29) так, что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немногое частное) полна самых существенных, глубоких мыслей. ... 35 лет лежит под спудом в высшей степени трогательное и значительное житие и поученья подвижника нашего цеха, нашего русского Паскаля...»305. Отметим, что Гоголь и в рецепции переводчиков, критиков зачастую сравнивался с французскими писателями. Так, например, переводчик «Мёртвых душ» Eugene Moreau (Эжен Моро), знакомя франкоязычного читателя с русским писателем, характеризовал последнего как русского Бальзака, Мольера и Стерна.306 Henri Mongault, другой переводчик «Мёртвых душ» Гоголя, в предисловии также сравнивает русского писателя с Бальзаком. Только на этот раз сопоставление основывается на изучении замысла «Мёртвых душ» и «Человеческой комедии»: «Данте, предоставивший в эту же эпоху Бальзаку название Человеческой комедии», без сомнения определяет и замысел Гоголя. Его поэма должна стать трилогией: три части укажут на восхождение русского человека из грязи ада сквозь пески чистилища к радостям рая. («Dante qui, vers la meme epoque, fournit a Balzac le titre de sa Comedie I Iumaine, donne sans doute a Gogol le fil conducteur qu il cherche. Son роете sera une trilogie : et les trios cantiche marqueront l ascension de « l homme russe » s elevant des boues de PEnfer, atravers les sables du Purgatoire, jusqu aux delices du Paradis»307).
Сравнение Гоголь-Бальзак, Гоголь-Мольер, Гоголь-Стерн возникает во французском культурном пространстве, в то время как сопоставление Гоголя с Паскалем характерно для русского читателя.
Сначала параллель Паскаль — Гоголь рождается у Толстого из типологии судеб и биографий писателей. Оба, как известно, «очень скоро достигли той славы, которой страстно желали, и оба, достигнув ее, тотчас же поняли всю тщету того, что казалось им самым высоким, самым драгоценным в мире благом, и оба ужаснулись тому соблазну, во власти которого находились» .
Обращение, имевшее место в жизни каждого из них, привело к страстному религиозному чувству, пренебрежению ко всему, сделанному прежде, к убежденности в новом особом знании, благодаря которому человек видит себя и вещи в совершенно другом свете.
Помимо конкретно жизненных событий существует и идейное основание для толстовского сравнения. Интересно, что афористическая характеристика Гоголя как русского Паскаля сформулирована автором с отсылкой на текст «Выбранных мест из переписки с друзьями» в целом и отдельно на два письма к Языкову о «Предметах для лирического поэта в нынешнее время». В тексте этого письма намеченная концепция поэта-пророка, взывающего к своему народу, не имеет отношения к «Мыслям» Паскаля. Однако в отдельности образы человека, противостоящего потоку страстей (в контексте данного письма это и есть поэт), и «дремлющего человека» обнаруживают связь с философским трудом Паскаля.
«Дремлющий человек» Гоголя отказывается от спасения своей души, «уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясавиц, ежедневное сонное опьяненье; нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нем души»309. Заданная образная цепочка соотносится с рядом фрагментов «Мыслей». Образы света, приемов и танцев, объединенные семантикой вихря-кружения, в котором растушевывается образ человека-центра, вокруг которого происходят все события, перекликаются с прямым вопросом Паскаля «А о чем думает свет?» и его ответом на него: « ... он помышляет о танцах, музыке, пении, стихах, играх и т. д., думает как бы подраться, сделаться царем, не задумываясь при этом, что значит быть царем и что значит быть человеком»310.
Во второй части гоголевского высказывания смыслообразующим является образ плоти, который для религиозного сознания есть знак губительных влечений человека, тленности и неполноты, незавершенности субъекта. Следование закону плоти представляется антиценностыо. Облачение в «тленную одежду», отказ от духовных «риз спасения» предстает негативной реализацией слов апостола Павла: «если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (Второе послание к коринфянам, 4:16). Забывшийся «среди вялой и бабьей светской жизни» , человек, по мнению Гоголя, губит душу свою со всех сторон, становится «пленником закона греховного». Изображение Гоголем современного человека строится как скрытая антитеза речи апостола Павла о «внутреннем/духовном человеке». Такой же прием — создание обратного соответствия - ранее использован Паскалем. Мир человека описывается им как пространство «похоти плоти или похоти зрения, или гордости жизни, похоти плотской, и похоти очес, и гордости житейской (1Ин. 2:16)» ; как место отчуждения человека от Бога. Гоголевское описание «прекрасного, но дремлющего человека» полностью сопровождает суждение Паскаля о состоянии «в каком находятся теперь люди. У них остается некоторое представление о счастии их первобытного состояния, но они повергнуты в бедствия своего ослепления и плотских побуждений, сделавшихся их второй природой»313.