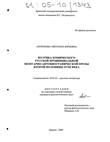Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Восточные мотивы в журнальных публикациях II-й половины XVIII века 10
1.1.Общественно-политические предпосылки активизации интереса к восточной теме в русской литературе II-й половины XVIII века 10
1.2. Трансформация восточных сюжетов и идей в русской журнальной прозе II-й половины XVIII века: тексты, жанровая специфика, идейные приоритеты 21
1.3.Интерпретация восточной темы в журнальных статьях Н.И.Новикова...32
Глава II. Восточная повесть в русской прозе II-й половины XVIII века 41
2.1.«Золотой прут» М.М. Хераскова - эталон русского варианта «восточной» повести 42
2.2. Восточная повесть «Надир» как образец нравственно-этического кодекса просвещенного правления 49
2.3. Ориентализм как сюжетообразующая основа нравоучительно-дидактических сказок Екатерины II 62
2.4. Литературные пародии на восточные повести: «Каиб» И.А. Крылова и «Сон путешественника» из книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 73
2.5. Поэтика восточной повести: стереотип художественного дискурса и оригинальность мотиво- и образотворчества 80
Глава III. Ориентализм в русской классицистической трагедии 99
3.1. Репрезентация восточного сюжета в трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим» 102
3.2. Восточная аллюзия как прием критики самодержавной тирании, деспотизма и самозванства в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий» 114
3.3. Восточный контекст в трагедии В.И.Майкова «Фемист и Иеронима» 127
3.4. Антиномия «православная Русь – языческий Восток» в трагедии Н.П Николева «Сорена и Замир» 135
Заключение 154
Список использованной литературы
- Трансформация восточных сюжетов и идей в русской журнальной прозе II-й половины XVIII века: тексты, жанровая специфика, идейные приоритеты
- Ориентализм как сюжетообразующая основа нравоучительно-дидактических сказок Екатерины II
- Восточная аллюзия как прием критики самодержавной тирании, деспотизма и самозванства в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий»
- Антиномия «православная Русь – языческий Восток» в трагедии Н.П Николева «Сорена и Замир»
Трансформация восточных сюжетов и идей в русской журнальной прозе II-й половины XVIII века: тексты, жанровая специфика, идейные приоритеты
«Столетье безумно и мудро». Этими словами характеризовал XVIII век А.Н. Радищев. Антонимическое сочетание «мудрости»-величия века и «безумия»-ложных представлений об этой «мудрости», воспроизведенное в стихотворении одного из именитых писателей «осьмнадцатого столетия», остается дискуссионной проблемой до нашего времени. В современной науке специалистами различных областей знания предпринимается попытка восстановить исторический, политический, философский и культурный контекст П-й половины XVIII века.
А.Н. Радищев описывал XVIII столетие в одноименной оде как современник и очевидец политических и культурных событий времени правления Екатерины Великой. Однако предпосылки общественной ситуации, сложившейся в Российской империи к концу века, имеют свою предысторию.
В послепетровскую эпоху носителями верховной власти в России оказывались «случайные» правители. Это обстоятельство было предопределено законом Петра I о престолонаследии от 5-го (16-го по н.ст.) февраля 1722 г., отменившим и прямое наследование по старшинству, и соборное избрание. По этому указу власть отдавалась на волю монарха, который сам назначал преемника. Указ, поскольку великий император скончался без наследного волеизъявления, предрешил причины правительственного династического кризиса в России: за последующие после его смерти пятнадцать лет, до воцарения Елизаветы Петровны в 1741 году, сменилось пять императоров, ни один из которых даже отдаленно не соответствовал своей роли и месту в государственной системе.
Случайным оказалось и правление Петра Ш как мимолетный эпизод в истории России и, вместе с тем, серьезная государственная проблема.
Тема «Петр Ш – Екатерина II» всегда привлекала внимание и историков и писателей. «Образ Петра Ш, предстающий перед потомками со страниц воспоминаний современников, вызывает противоречивые эмоции. На российский престол в самом конце 1761 г. поднялся 35-летний человек – нервный, впечатлительный, невоздержанный в своих порывах и увлечениях. Он не знал и не любил страну, которой ему предстояло править, и ему в голову не приходило, что по отношению к этой стране у него есть какие-то обязанности, а ее народ – не просто толпа подданных» [34, с. 57].
Екатерина П завершает своим правлением «случайные» царствования в XVIII веке; она провела продолжительное (34 года) и необычайное царствование, сотворив эпоху, названную в истории ее именем.
28 июня 1762 г. в России произошел дворцовый переворот, возведший Екатерину на российский престол. Она использовала ситуацию общественного недовольства безумным правлением мужа. Июньские события 1762 г. привели к значительным изменениям всего уклада русской жизни. На смену средневековому сознанию пришло из Европы мировоззрение Нового времени, где оно постепенно развивалось со времен Возрождения. В европейской политической жизни в это время распространенным становится учение французских философов, публицистов, писателей, поставивших своей задачей просветить широкие круги населения, дискредитировать феодализм, показать возмутительную деятельность церкви, деспотизм власти феодального монарха. Славу приобретают Вольтер, Монтескье, Дидро, Гельвеций, Гольбах, Д Аламбер, Руссо и др. Проповедь французских просветителей звучала далеко за пределами их отечества. Просветительство становилось распространенным явлением в России.
Екатерина II прекрасно осознавала, что идеи просвещения находят широкий отклик в умах передовой российской интеллигенции. И она начала завоевание авторитета монархини, живущей в век Просвещения. Получив власть не по закону наследования, Екатерина не имела прав на титул императрицы: она должна была признать себя регентом при несовершеннолетнем наследнике. Однако Екатерина короновалась в статусе императрицы, поэтому ей необходимо было убедить общественность в своей состоятельности, нужно было продемонстрировать ожидаемую от подданных политическую лояльность и прогрессивную позицию.
Однако, как образно охарактеризовал сложившуюся после дворцового переворота ситуацию Ст. Рассадин, в России «семена нововременного сознания попали в плохо приспособленную почву, их прихватило русским морозцем, и всходы они дали своеобразные» [71, с. 66]. И все же многие основополагающие представления этого мировосприятия сохранились по сей день не только в России, но и во всем мире. Так, например, именно к XVIII веку восходит идея правового государства, многие представления о демократии и свободе личности, о взаимоотношении личности и государства, об обязанностях правителя перед народом.
«При изучении екатерининского царствования, – пишет автор книги «Под сению Екатерины» А.Б. Каменский, – бросается в глаза резкий контраст между декларативными заявлениями «просвещенной» монархини, щедро рассыпанными как в официальных документах, так и в личных бумагах, и ее реальной политикой. «Тартюфом в юбке и короне» назвал Екатерину II А.С. Пушкин. Пятью словами великий поэт, обладавший удивительным даром исторического видения, выразил то, что профессиональные историки излагают в длинных статьях и монографиях. И во всех этих работах, написаны ли они апологетами или обличителями Екатерины, сквозит плохо скрываемое раздражение. Ибо апологеты никак не могут примирить слова императрицы с ее делами, а обличителям никак не удается уличить ее в каких-либо страшных злодеяниях. Первые исходят из того, что все заявления Екатерины искренни и она на самом деле стремилась действовать так, как говорила. Вторые убеждены, что императрица постоянно лгала, фарисействовала и не только не пыталась при этом воплотить свои заявления в жизнь, но делала все наоборот» [34, с. 105-106].
Ориентализм как сюжетообразующая основа нравоучительно-дидактических сказок Екатерины II
После же его кончины слабый и безвольный наследник Бен-Махмуд сразу же возвел в фавор придворных интриганов и завистников: «…Восшествие его на престол чрезмерно было торжествуемо: там все сокровища, собранные хозяйством прежней державы, истощены были. Вид правления тотчас переменился, судебные места наполнились новыми судиями; из прежних одни подвергаются осуждению, других, невзирая на их заслуги, презирают и называют милостию, оказанною над ними единою ссылкою… Махмуд возлюбил придворных, которые взаимно друг пред другом чтились изъявлять раболепствие свое удовольствованиям его страстям, которые господствуют над молодым сердцем. Они осмелились уверять его, что будет сходно с его величеством, когда он невидим будет от подданных своих, и оставит попечение о правлении своим министрам, и не будет иметь иных законов, как свое желание. Молодой Принц поверил сему коварству, чрез что двор Испаганский сделался позорищем тайных умышлений и вымыслов, где неправда попрала разум, а пронырство добродетель» [56, с. 159, 160].
Восстановить просвещенное правление предопределено было сыну бывшего главного визиря Надиру. Поэтому автору повести потребовалось провести через множество испытаний и искушений заглавного героя, который выполнит с честью предназначение – воспитать на своем примере наследника в духе верности, преданности и последовательности отеческим заветам. Думается, здесь автор довольно открыто намекает на реставрацию государственной деятельности Петра I. В первой части повести, содержательно насыщенной назидальной дидактикой, доминирующей является идея воспитания идеального правителя, разумно управляющего страной сообразно справедливо утвержденным им как верховным владыкой правовым законам. Вторая глава целиком посвящена этой проблеме. Трактовка весьма традиционной в просветительской литературе темы «просвещенного» монарха представлена неизвестным автором весьма оригинально: в пространной поучительной тираде акцентируется нравственно-этический аспект, включающий религиозную проповедь. Назидание, обращенное к заглавному герою, воспринимается амбивалентно: то ли в духе библейского христианского нравоучения, то ли мусульманского Корана, что свидетельствует об условно-аллегорическом использовании автором восточной аллегории для воплощения своего идейно-художественного замысла:
«Есть… могущий Бог, основание всех вещей, не имеющий границ, ни начала, ни конца, подающий жизнь, движение, бытие всему, что чувствует, который единым намерением своим сотворил животное, и человека, и сие солнце, оживотворяющее землю;.. он желает службы чистой и простой; предпочитает приношение, чистосердечное… [56, с. 170-171].
Духовное почитание «вышнего Существа» является основополагающим моральным принципом, который непререкаемо вменяется державному чину, долженствующему быть блюстителем закона и справедливости в своем отечестве. Вторая глава повести посвящена исключительно описанию идеального правителя; эту проблему автор неоднократно реактуализирует на протяжении всего последующего текста. «Иконописный» образ просвещенного монарха обобщается в эталонной характеристике Бен -Абасси:
«Я хочу утвердить славу моей Империи на благополучии моих подданных; чем больше уменьшу я подати, тем увеличатся мои сокровища; я предпочту земледельца, вельможей отвращу от праздной жизни; но чтобы богатый владелец не запущал селения своего беспрестанным отсутствием, чтобы тук, спершись в каналах, течения их не запирал, велю и их поля покрыть. Нигде моего двора не будет, но повсюду я буду сам; воспользуюсь у земледельца зрелищем блаженного человечества» [56, с. 201].
К идеальному образу истинно справедливого правителя автор обращается на протяжении всего текста, используя разнообразные формы дидактического поучения: воспитание примером (чаще всего, в отсылке к «великим мужам», знатные имена которых «история начертала золотыми буквами»), противоположение добродетели страстям («но вящее всего, что и угождая страстям других, повсюду должно, чтобы добродетель сохраненною оставалась»); наставление в духе законопослушания («помни то, мой сын, что закон… должен быть в сердце, а не в служении»). Один из вариантов назидания – прямое обличение пороков, к примеру: «Корысть есть порок душ низких»; «Гордость имеет свое основание в наших сердцах; путь ея тих и нечувствителен, который начинается самолюбием, потом доверенностию, но немедленно пременяется в надменность и спесь…»;
«Что же до ласкательства, то сей порок есть весьма постыдный… Еще зловреднее и гибче льстец повреждает господина, к которому он прилепляется» [56, с. 204-205].
Начиная с пятой главы, наблюдается резкий поворот сюжета, повествование приобретает динамизм. Заглавный герой отправляется в «самостоятельную жизнь», чтобы испытать на практике теоретически усвоенные им воспитательные уроки. В этой части произведения сфокусированы присущие восточной повести некоторые мотивы и образы – встреча с надежным и верным другом-покровителем, любовная история, правда, лишь отчасти отмеченная загадочной интригой, путешествие. В «Надире», даже по сравнению с «Золотым прутом» Хераскова, менее всего выявлены экзотический колорит и сказочная, волшебная аура Востока.
Герой оправлен отцом не в неведомые земли, а в родную Испагань, где он встречается не с таинственным незнакомцем (волшебником, магом, прорицателем), а с предсказуемо ожидаемым его мудрым стариком, единомышленником Залега, – Сореном, который будет уже на деле воспитывать будущего министра.
Первый практический урок убеждает Надира в истинности родительской нравственной заповеди о богатстве внутреннего мира бедного человека. Судьба Сорена сопоставима с жизненной историей отца Роксаны из восточной повести Крылова «Каиб»: оба служили при дворе, оба попали в немилость и оказались опальными изгнанниками, у обоих росли дочери-красавицы. Описание жилища Сорена идентично хижине крыловского персонажа:
«Со случившейся при Дворе перемены сей честный гражданин избрал свое жилище в самой отдаленной части города. Дом его был простой и необширный, но покойный и веселый; его наружность не имела других украшений, как только то, что служило к прославлению его владельца благодеяний, излиянных им во окрестностях его. Жилище доброго человека есть храм добродетели на земле» [56, с. 207].
Второе испытание, предстоящее Надиру – самостоятельное путешествие, в которое его отправил Сорен. Но это путешествие – не авантюрное предприятие, предпринятое крыловским калифом Каибом, и тем более не полные приключений скитания визиря Албекира из херасковского «Золотого прута», а формальное задание с целью выработки позитивных практических навыков, необходимых высокопоставленному придворному: «Сын Залегов… должен отечеству служить; сия есть его первая должность… И для того поди к иностранцам;.. возвратись к нам с их добродетелями, убегая от их пороков; без предубеждения о них суди, будь у них ты космополит и дома гражданин…» [56, с. 213].
Путешествие описано очень кратко, акцентируются только полезные наблюдения, то есть, этот сюжетный эпизод имеет прикладное значение и воспринимается как очередная иллюстрация процесса универсального воспитания просвещенного государственного деятеля:
«Сначала он проезжает все Персидские провинции, познает их климат, их коммерции, их законы, их собрания к благосостоянию Монархии… Мало он останавливается в городах, где никогда в своем истинном виде народ не бывает, где роскошь помрачает истинное богатство. Надир не следует большим путем, но рассматривает внутренность государства, проникает в те отдаленные части, где господствует унылость, где плодятся заблуждения под сению самодержавной власти.
Потом Надир объезжает Азию, переменяя свое состояние и вид... Он купец у Сисиниан и жителей Тована (очевидно, в Китае и Тайвани – К.Ф.). Он смотрит арсеналы, пристани, магазины, испытывает плоды их торговли, подробно входит в мореплавание, во внутреннее их хозяйство, познает их политику и их сношение с другими государствами, а наипаче с Персиею. Воин он в Вифинии, где обучается способам сей власти, качествам ея Госудря, искусствам ея Генералов, основаниям ея установления и неедостаткам, там еще господствующим. Наконец, проезжает в Гисперию, желая окончить свой путь чрез Герулию…» [56, с. 215].
Восточная аллюзия как прием критики самодержавной тирании, деспотизма и самозванства в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий»
Жанр трагедии в литературе русского классицизма был адаптирован более других соответственно канонам европейской драматургии. Конкретный теоретический источник, который преподал сведения о драматургической системе и сценических принципах классицистической трагедии – это, бесспорно, трактат Буало «Поэтическое искусство». Общую схему европейской трагедии перенес на русскую почву А.П. Сумароков, изложивший в свободном переводе на русский язык теоретические максимы Буало в «Эпистоле о стихотврстве» (1747 г.), концентрируя внимание на законах построения сюжета (коллизия внутренней борьбы героев между исполнением долга и личными чувствами, страстью, любовными страданиями; строгое разделение персонажей на положительных и отрицательных) и формальными требованиями (пятиактное построение, соблюдение правила «трех единств» – действия, времени и места, александрийский стих).
Фабульная коллизия – это не просто разыгранная в трагедии конфликтная история «чувства - долга», это – «то состояние героя, которое может или должно контролироваться надличными ценностями, ими удерживаться» [36, c. 119].
Автор работы «Эволюция жанра трагедии в русской драматургии XVIII века и проблема историзма» К.А. Кокшенева обстоятельно проанализировала эстетическую сущность доминантного трагедийного конфликта: «Если страсть трагических героев направлена друг на друга, то долг их направлен вовне (наследование власти или наследование крови). И это трагедийное положение… обязательно для всех трагедий классицизма. В «круг долга» включены все трагические герои за исключением вестников, наперсников, слуг. Но и «круг страсти» в трагедии классицизма непременно дополняется «третьей силой» – страстным правителем. Таким образом трагическая дилемма главных героев оказывается стесненной законом власти правителя и законом власти отца. В границах этого трагического пространства и идет трагическая борьба героев. Именно здесь возникает этическая высота трагедии классицизма – необходимости для трагического героя и героини согласовать свою любовную страсть с законом долга – долга к возлюбленному, долга к носителю власти, долга перед отцом и долгом перед наследованием власти и невозможности этого согласования в силу ситуации – положения героев» [36, c. 119] .
Из формальных констант самым сценически жизнестойким в пьесах оказалось правило «трех единств», пережившее поэтику классицизма, соблюденное и Д.И. Фонвизиным в его новаторском «Недоросле», и А.С. Грибоедовым в «Горе от ума». В трактате А.П. Сумарокова знаменитая формула «трех единств» была прописана особо тщательно:
Несмотря на прямое влияние французской классицистической школы на формирование трагедии в русской драматургии, отечественные литераторы, актуализируя трагедийный жанр, разрабатывали оригинальные концептуальные коллизии исходя из общественно политической ситуации своего времени. «В центре идейного содержания русской трагедии, – писал Ю.В. Стенник, – всегда будет стоять проблема нравственной ответственности индивидума (будь то монарх или подданные) в выполнении своего долга перед обществом. Для XVIII века, прошедшего под знаком приоритета сословно-монархической государственности, идейная коллизия основанная на столкновении интересов самоутверждающейся личности с идеалами надличностного общественного начала, приобрела повышенную эстетическую злободневность» [81, c. 5].
В литературоведении принято считать, что родоначальником российской трагедии является А.П. Сумароков. Действительно, на протяжении 2-й половины XVIII века именно его трагедии были основой отечественного театрального репертуара. Являясь главным теоретиком и утверждая в русской литературе каноны жанровой системы классицизма, как писатель-практик Сумароков в ряде существенных моментов отступал от общепризнанного теоретического формуляра. Самая существенная его новация – это использование не античных сюжетов, как это принято было в произведениях французских драматургов, а материалов русской истории. Характерной чертой трагедий Сумарокова, созданных в 70-е годы, является наличие политических аллюзий. Характеризуя публицистическую идею трагедий Сумарокова, Г.А. Гуковский отмечал, что его пьесы «должны были явиться… училищем для царей и правителей российского государства, прежде всего училищем для российского дворянства, которому Сумароков брался объяснить и показать, чего оно должно требовать от своего монарха и чего оно должно не допускать в его действиях…» [23, c. 150]. Опять же принято считать, что знаменитая трагедия «Дмитрий Самозванец» (1771 г.) – это первый опыт создания произведения антитиранистической направленности, так называемой «тираноборческой» трагедии. Однако, на наш взгляд, приоритет в этом «почине» должно отдать А.А. Ржевскому, автору трагедии «Подложный Смердий», написанной в 1769 г. Естественно, эта трагедия не столь радикальна, как сумароковская, но проблему самозванства поднял именно А.А. Ржевский. Образ Лжесмердия предвосхитил образ Лжедмитрия. Ориентальные сюжеты использовали в своих трагедиях также В.И. Майков («Фемист и Иеронима», 1773) и П.Н. Николев («Сорена и Замир» 1784-1785). В 1 параграфе главы считаем необходимым рассмотреть трагедию корифея русского классицизма М.В. Ломоносова «Тамира и Селим», написанную в 1750 г. – первом в отсчете второй половины XVIII века, поэтому мы включаем ее в анализ с полным на то основанием, тем более, что «восточная тема» является в пьесе сюжетообразующей.
Антиномия «православная Русь – языческий Восток» в трагедии Н.П Николева «Сорена и Замир»
Результаты проведенного исследования позволили высказать некоторые наблюдения и сделать следующие выводы. Ориентальным сюжетам, мотивам и образам в русской литературе II-й половины XVIII века предназначалась функция своеобразной литературной маскировки для легализации критики государственной идеологии, а также пропаганды просветительских или масонских теорий. Поскольку напрямую высказать негативные суждения о методах правления императрицы Екатерины II не представлялось возможным, писатели избирали «обходные» пути, прибегая к иносказанию.
В большинстве произведений обличительной ориентации авторы использовали временную аллегорию: события современности воспроизводились по идентично сходным историческим событиям, заимствованным из летописных источников. Новацией в интерпретации актуальной темы становится пространственная аллегория: изображение некоего экзотического ареала ассоциировалось с российской действительностью. Нововведенный жанр, терминологически обозначенный как восточная повесть, использовался сугубо для обсуждения монархического правления. На поверку, все произведения этого жанра представляют собой литературно-политические утопии.
В прозе впервые маску «восточного» прикрытия реальной картины самодержавного правления в России использовал в своих сатирических произведениях Н.И. Новиков. Он же – первый и единственный – употребил аллегорию для сатирического изображения российско-турецкого театра военных действий. Но в подавляющем большинстве восточные повести, которые анонимно публиковались в журналах Новикова, содержательно представляли собой нравоучительные сочинения («Надир», «Видение Мирзы», «Благодарение»).
Восточная фабула применялась в разных произведениях в соответствии с различными идейно-художественными задачами их авторов. Явно определяются две группы текстов, сюжетообразующей основой которых является ориентальный мотив. Произведения первой группы пропагандируют нравственно-этический идеал просвещенной личности. Эталоном подобного сочинения является «Сказка о царевиче Хлоре» Екатерины II. К этой группе относится и «Золотой прут» М.М. Хераскова. Критика в произведениях данного цикла преследует воспитательные цели и направлена, прежде всего, на искоренение аморальных в общественном поведении качеств и поступков. Вторая группа объединяет восточные повести, выполненные в пародийно-сатирическом жанре. Самый яркий пример такой повести – «Каиб» И.А. Крылова. Продуктивно использовал восточный мотив как адекватную фабулу для критики самодержавного режима екатерининской России А.Н. Радищев в главе «Спасская Полесть» (сон путешественника) из книги «Путешествие из Петербурга в Москву».
Один из самых презентабельных жанров классицизма – трагедия. При изучении внушительного корпуса трагедийных сочинений было обнаружено, что представительство пьес, действие которых основано на восточном материале, единично. Это трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим». А.А. Ржевского «Подложный Смердий», В.И. Майкова «Фемист и Иеронима», Н.П. Николева «Сорена и Замир». Последние три характеризуются как тираноборческие.
Обращение Ломоносова к восточному сюжету в 1750 году представляется как исключение из общего правила использования драматургами отечественного исторического материала. На основании тщательного анализа трагедии, мы пришли к выводу, что утверждение большинства исследователей об исконно исторической основе сюжетной коллизии (битве на Куликовом поле) не имеет оснований. Эпизоды сражения выступают как некий виртуальный фон, как повод использовать поражение Мамая для представления романтической истории.
В трех остальных проанализированных трагедиях обнаруживаются антимонархические настроения. Наиболее радикальной, на наш взгляд, оказалась литературная позиция. Ржевского. Именно он впервые поднял проблему самозванства, еще за несколько лет до знаменитого «Дмитрия Самозванца» Сумарокова. Суровый назидательный урок преподнес зрителю в своей трагедии Николев на примере правления тирана Мстислава, при этом осложнив коллизию конфессиональным конфликтом. Своеобразную интригу трагедийного действа представил Майков, однако он настолько усложнил свою восточную историю большим количеством действующих лиц, персонажами-«двойниками», а также тяжело воспринимаемым языком, что его опыт нами воспринимается как менее удачный, чем драматургов-современников.
Восточные тексты, как прозаические, так и драматургические являют собой весьма интересный и плодотворный в художественном отношении пласт литературы русского классицизма. Они сыграли немаловажную роль в продлении исчерпывавшей в последней четверти века литературной жизнеспособности художественной системы. В этот период восточные тексты функционировали прежде всего в рамках просветительской философской литературы. Но ориентализм XVIII в. не ушел в историю вместе со «столетием безумным и мудрым». Восточная тема станет самоценной в эпоху романтизма – в начале XIX века. В этом смысле некоторые аспекты содержания повестей Хераскова, Крылова, пьес Ржевского, Николева позволяют засвидетельствовать вызревание в недрах классицистической литературы романтических тенденций.