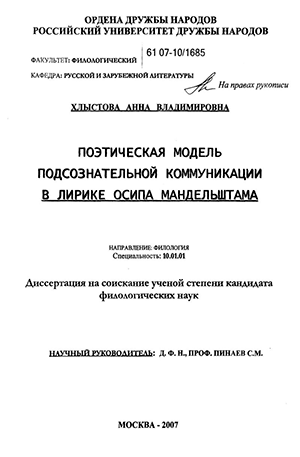Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Теория двух уровней в языке и мышлении. Поэтическая модель подсознательной коммуникации
1.1. Ненаблюдаемая реальность в естественных науках, философии и поэзии Мандельштама 16
1.2. Начало пути: В. фон Гумбольдт, Э. Сепир, В. Уорф, А. Вежбицкая 21
1.3. Трансформационная грамматика и модель структурной дифференциации 26
1.4. Нейролингвистическая модель и учение Эпикура. Метамодель НЛП 32
1.5. Гипнотические лингвистические паттерны в естественном языке и в творчестве О. Мандельштама 40
1.6. Сенсорная природа подсознания 52
1.7. Аналоговое маркирование. Аналоговое маркирование в поэзии 60
1.8. Модель подсознательной коммуникации в поэзии Мандельштама 61
Глава II. Магия поэтики О. Мандельштама: «Добрых чувств на земле пять...»
2.1. Образ в поэзии. Образы и репрезентативные системы 68
2.2. Психологические особенности восприятия поэзии с точки зрения репрезентативных систем 79
2.3. Кинестетическая образность поэзии О. Мандельштама 86
2.4. VAK анализ поэзии О. Мандельштама 90
2.5. Некоторые принципы формирования кинестетических образов в поэзии О. Мандельштама 101
2.6. Особенности не-кинестетических предикатов в поэзии Мандельштама 105
2.7. Об особенностях распределения не-кинестетических предикатов по периодам творчества О. Мандельштама 111
2.8. Вклад VAK анализа в теорию и практику манделыптамоведения 121
Глава III. Поэтика бытия О. Мандельштама
3.1. «Пою, когда гортань сыра, душа суха...»: гипнотические принципы поэтики О. Мандельштама 130
3.2. Безбытность и бытие. Философские ориентиры поэзии О. Мандельштама 131
3.3. Опыт анализа стихотворной материи с помощью поэтической модели подсознательной коммуникации 139
3.4. Модель подсознательной коммуникации и «статья о семантической поэтике» 142
3.5. «Растительные краски бытия»: аналоговое маркирование в поэзии Мандельштама 147
3.6. Комплексный анализ стихотворений О. Мандельштама с помощью модели подсознательной коммуникации 150
3.7. Поэтическое наследие О. Мандельштама: исповедь о жизни души 159
3.8. Поэтическая онтология О. Мандельштама 185
Заключение 191
Список использованной литературы 196
Приложение 204
- Ненаблюдаемая реальность в естественных науках, философии и поэзии Мандельштама
- Образ в поэзии. Образы и репрезентативные системы
- Вклад VAK анализа в теорию и практику манделыптамоведения
- Поэтическая онтология О. Мандельштама
Введение к работе
Диссертационное исследование посвящено изучению поэзии Осипа Мандельштама Наука о Мандельштаме находится в поисках органичного метода анализа стихотворных текстов поэта, толкование которых затруднено в силу их семантической неопределенности и ыгогозначности Со времени выхода статьи о семантической поэтике Ю И Левина, Д М Сегала, Р Д Тименчика, В Н Топорова, Т В Цивьян, придавшей явлению семантической неопределенности в творчестве Мандельштама статус предмета научного исследования, вот уже более тридцати лет ученые-манделыптамоведы пытаются восполнить «опущенные звенья» мандельш гамовской поэтики Завоевавшим наибольшую популярность за эти годы стал контекстуальный (или интертекстуальный) метод исследования, основателем которого считается К Ф Тарановский Достижения ученых этого направления И Сурат, С Бройтмана, О Лекманова, О Ронена, С Аверинцева, Н Богомолова, Р Пшыбыльск&го, В Терраса, И Низовой и др - составили значительный вклад в наук\ о Мандельштаме Однако в настоящее время кошекстуально-ингертекстуальный подход теряет популярность во многом из-за субъективности своих методологических установок
Творчество Мандельпітама в общем историко-литературном контексте представлено в работах Н Струве, В В Мусатова, А С Карпова, О А Лекманова, Л1 Кихней, А Г Мец, статьях П Нерлера и др и на сегодняшний день культурно-исторический подход к поэзии О Мандельштама, объединяющий в единый контекст творчество и жизнь поэта, является, пожалуй, оптимальной формой разговора прозой о стихах Мандельштама В свете исторической поэтики наследие Мандельштама рассматривается в работах Л Гинзбург, С Н Бройтмана и др Обстоятельные труды Н Струве, О А Лекманова, А С Карпова посвящены биографии Мандельштама в ее взаимосвязи с творчеством Работы Л Г Кихней включают лоэзию О Мандельштама в общелитературную мифопоэтическую концепцию
Стиховедческий анализ поэтических текстов Мандельштама, представленный в работах МЛ, Гаспарова, О И Федотова, А А Илюшина, И М Семенко, является объективным и доказательным, но не позволяет напрямую обращаться к смыслу мандельштамовских произведений
Недавний опыт применения к поэзии Мандельштама лексикостатистического метода анализа, предсіавленньш в работах Л Г Пановой, демонстрирует нам, что формальный подход к поэзии, особенно к поэзии О Мандельштама, не является адекватным способом обретения полноты смысла поэтических произведений При том что в целом использование в науке о поэтическом языке лингвистических понятий расширяет и обогащае і литературоведческий анализ, в чем убеждают нас работы М Ю Лотмана, посвященные анализу грамматической структуры мандельштамовских текстов
Неоднозначная ситуация в облает. методологии
мандельштамоведения обусловила выбор темы данного
диссертационного исследования Ради постижения смысла стихотворений О Мандельштама, что являлось мета-целью нашего исследования, мы должны были найти органичный поэтике Мандельштама метод исследования Для постижения смысла манделынтамовских произведений мы предлагаем новый, органичный на наш взгляд, метод анализа, продолжающий традиционные подходы при одновременном их углублении Актуальные характеристики метода объективность, то ест ь исключение внетекстовых реалий («домыслов»), и доказательность, базирующаяся на эмпирических данных Наш путь постижения смысла мандельштамовских произведений не подразумевает поиск единственно верной интерпретации, сводимой к «пересказу» В то же время это не лабиринт путей, приводящих к противоположным результатам Наш метод - это структурный двухуровневый (сознательно-подсознательный) анализ мандельштамовских произведений Научный аппараї данного метода был выработан на основе новейших научных разработок в области лингвистики (генеративная семантика и др) и психологии (нейролингвистическое программирование)
Предметом исследования является изучение структурных нейролингвистических особенностей поэтического языка О Мандельштама и та ненаблюдаемая реальность содержания мандельштамовских текстов, которая кроется за их семантической «темнотой» Если говорить словами самого Мандельштама, то предмет нашего исследования - это «соподчиненность порыва и текста»
Объектом исследования является только поэтическое творчество О Мандельшгама, без анализа его прозаических произведений
Актуальность нашего исследования связана с обострением в настоящее время научного интереса к психологии художественного восприяшя при недостаточной разработанное ш теоретического и прикладного аппарата данной области знания, которую мы стремимся ликвидировать в нагаем исследовании Возросшие контакхы смежных отраслей научного знания, возникновение наук синтезирующего и пограничного типа с неизбежностью приводят нас к теоретическому осмыслению возможностей реального взаимодействия психологии, лингвистики и литературоведения и к практическому применению психолингвистических знания в области филологического исследования
В рамках мандельштамоведения актуальность нашей работы заключается в предоставляющейся возможности читать стихотворения Мандельштама так, как они написаны, не затрудняясь семантической неопределенностью и «недосказанностью» его поэшческих текстов
Научная новизна диссертационной работы состоит в использовании принципиально нового метода анализа поэтического текста, синтезирующего ресурсы трех смежных наук психологии, лингвистики и литературоведения Созданная в результате такого синтеза
поэтическая модель подсознательной коммуникации позволяет эффективно исследовать двухуровневую (сознательно-подсознательную) структуру поэзии О Мандельштама Результатом двухуровневого акализа является возможность постижения смысла произведений поэта
Цель работы. изучение двухуровневой сознательно-подсознательной структуры поэзии О Мандельштама и постижение смысла его стихов в резулыате проведенного исследования
Для достижения поставленной цели исследования в диссертации последовательно решаются следующие конкретные задачи
обоснование перспективности и своевременности решения такой научной проблемы, как обращение к феномену подсознания,
обоснование правомерности и актуальности использования методов анализа сознательных и подсознательных мыслительных процессов, при изучении поэтики О Мандельштама,
выработка эксплицитного аппарата исследования особенностей функционирования феномена подсознания в поэтических текстах,
создание поэтической модели языка подсознательной коммуникации для анализа поэтических текстов,
исследование поэтической материи и комплексный анализ стихотворений О Мандельштама с помощью поэтической модели языка подсознательной коммуникации,
воссоздание картины творческой и личностной эволюции, отраженной в циклах стихотворений О Мандельштама,
выявление онтологических категорий художественного мира О Мандельштама на основе полученных в ходе предыдущего исследования данных
Решение поставленных задач составляет основное содержание нашего исследования, имеющего одновременно теоретический и прикладной харак гер
Научная ценность применения психолингвисшческих методов для филологического исследования заключается в наличии четких и доказательных способов аргументации Любое положение в рамках поэтической модели подсознательной коммуникации может быть аргументировано на основании данных эмпирического исследования Метод двухуровневого психолингвистического изучения поэтики создает предпосылки для целостного исследования творчества О Мандельштама и других поэтов и писателей в их общих и специфических чертах, позволяет расширить исследуемый объект и выйти за пределы сугубо литературоведческих представлений о нем Психолингвистический ракурс рассмотрения поэтики Мандельштама дает теоретическую возможность продуктивно синтезировать знания о внешней лингвистической поэтической форме и внутренней психологической реальности исследуемых произведений
Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в ней результаты 1 вносят вклад в разработку научной методологии и
терминологии филологического исследования, 2 могут представить интерес для разработки психопоэтических основ различных типов учебных пособий по теме «Психология художественного восприятия» 3 могут быть использованы в курсе «Литературоведение», в спецкурсе по анализу поэтических произведений серебряного века, в работе методологических семинаров и непосредственно для практики анализа художественных текстов
Апробация результатов исследования Диссертация в полном объеме обсуждалась на заседании кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Российского университета дружбы народов Основные положения диссертационного исследования были представлены в ряде публикаций в научных сборниках
Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии (200 наименований) и приложения Объем основного текста диссертационного исследования составил 296 страниц, текст содержит 15 таблиц и одну дишрамму
Ненаблюдаемая реальность в естественных науках, философии и поэзии Мандельштама
Экспрессивно защищая в «Разговоре о Данте» уникальность дантовской поэтики, Мандельштам предоставляет тем самым эффективный способ анализа поэтики его собственной: «Чисто исторический подход к Данту так же неудовлетворителен, как политический или богословский. Будущее дантовского комментария принадлежит естественным наукам, когда они для этого достаточно изощрятся и разовьют свое образное мышление». [12,С379]
Можно считать, этот момент настал. Естественные науки достаточно развили свое образное мышление для того, чтобы помочь нам в постижении смысла художественного мира О. Мандельштама. Квантовая теория, созданная в 30-х годах XX века, сделала несомненным и очевидным давно уже воззревшее в физике представление о ненаблюдаемой данности как единственной настоящей онтологии. В этой теории состояние физической системы описывается волновой функцией, не доступной ни чувственному восприятию, ни фиксации какими-либо приборами.
«Абсолютно строгие математические выкладки приводят к выводу, что без волновой функции, эволюция которой определяется четкими законами, выраженными «уравнением Шредингера», наблюдаемые не могут «знать», как им себя проявлять и как изменяться во времени. Оказывается, в них самих не заключено достаточно информации для организации их поведения. Более того, согласно теореме фон Неймана, такой информацией не может обладать никакая реальность... Информация может содержаться только в объекте типа волновой функции! Но ведь поведение «наблюдаемых» определенным образом организовано - значит, информация эта должна где-то находиться. Где же? Разумеется, в какой-то сущности нужного типа, которая не зависит от людского восприятия и которая уже в силу того, что содержит в себе обширную и конкретную информацию, должна рассматриваться как объективная сущность. Но это и есть волновая функция. Она в принципе недоступна никакому наблюдению, ибо, во-первых, содержит алгебраически мнимую величину, а во-вторых, даже по всей совокупности наблюдаемых восстанавливается неоднозначным образом...Таким образом, уже сам метод квантовой механики легализует объективную ненаблюдаемую данность платоновского типа. [153,С. 153-154]
Как и предполагал Мандельштам, современное естествознание подтверждает существование явления, которое поэт называл «орудийностью» или «порывом», противопоставляя его линейному представлению о мире.
Пренеприятнейшими фактами для естествознания являются те факты, которые свидетельствуют, что Вселенная не есть автомат, что через воздействие на невидимую онтологию, управляющую явлениями, Творческое Начало может вмешиваться в развитие событий на материальном уровне. Но эти факты добывает само же естествознание. «Только осознание того обстоятельства, что именно в физике, которая издавна считалась эталоном «научности», была открыта ненаблюдаемая реальность, статистическим образом воздействующая на видимый слой Бытия, и что без изучения этой лежащей в глубинном и невидимом слое реальности невозможно понять природу доступных нашему восприятию явлений, откроет перед науками совершенно новые перспективы». [153,С191]
Ненаблюдаемая реальность - это то, что Мандельштам в статье о Данте называет «намагниченным порывом», «внутренней тягой», «внутренним освещением дантовского пространства». То, что лежит в основе любого творчества, и в первую очередь, в основе творчества самого Мандельштама; что составляет саму сущность поэзии и ни при каких условиях не поддается пересказу и логической расшифровке. «Где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала». [12,С364] Ощущение порыва Мандельштам передает ярким кинестетическим образом: «качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную... природу словообразования. Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками, -так создается смысл поэтической речи»[12,С364].
Суть волновой теории, открытой физиками, еще раньше была описана в философских интуициях Анри Бергсона, философа, который, как известно, оказал значительное влияние на формирование мировоззрения О. Мандельштама. В концепции Бергсона жизнь мыслится как космический «жизненный порыв» или поток. Главной идеей бергсоновской философии является обоснование нового вида познания - интуиции. «Интуиция противостоит интеллектуальным методам познания, которые бессильны перед явлениями сознания и жизни, подчинены практическим и социальным потребностям, способны дать лишь относительное, а не абсолютное знание»[141,С231]. Познать подлинную сущность жизни может только интуиция, потому что рассудок способен понимать нечто лишь остановив процесс жизненного потока, то есть умертвив предварительно жизнь.
Ту же самую мысль мы находим у Мандельштама: «Мы описываем как раз то, чего нельзя описать, то есть остановленный текст природы, и разучились описывать то единственное, что, по структуре своей, поддается поэтическому изображению, то есть порывы, намеренья и амплитудные колебанья». [12,С404] Итак, и Бергсон и Мандельштам ссылались на некую недоступную сознанию реальность, которая по сути своей непрерывна и представляется в виде «потока», или «порыва». Каким же образом исследователь может изучить эту ненаблюдаемую реальность? Мандельштам предлагает в качестве предмета исследования использовать «соподчиненность порыва и текста». («Предметом науки о Данте станет, как я надеюсь, изучение соподчиненности порыва и текста» [12,С413]) Это и является предметом нашего исследования: соотнесенность структурных особенностей поэтического языка и психического субъективного явления - «соподчиненность порыва и текста».
Чтобы рассматривать одновременно наблюдаемую и ненаблюдаемую реальность манделыптамовских стихов, чтобы «глубины помыслить», по словам Хайдеггера, надо обратиться к глубинному уровню нашего мышления -к подсознанию. Согласно Хайдеггеру, «к раскрытию смысла нельзя подходить при помощи старых средств философии и логики». [160,С373] То, что имеем мы сегодня, говорит Хайдеггер - не поможет нам понять и изменить мир к лучшему. «Наука не мыслит», - заявляет философ. «На протяжении веков человек слишком много действовал и слишком мало мыслил. В мире, который постоянно предоставляет нам возможность мыслить, мысль все еще не существует... Происхождение сущности бытия сущего непомыслено. По-настоящему более всего требующее осмысления по-прежнему скрыто» [157,СЛ44] Хайдеггер считает, что научное знание не обладает полной мышления, так как «уничтожило вещи как таковые». Вещь не существует в своем значении: «вещественность вещи остается потаенной, забытой», «существо вещи никогда не дает о себе знать, то есть ему не дают слова... Но если бы вещи с самого начала уже явили себя как вещи в своей вещественности, то вещественность вещей дала бы о себе знать. Тогда мысль была бы захвачена ею» [157,С319]. Важнейшая составляющая неосознаваемого мира - это вещь, которая существует «в качестве определяющей действительности»[157]. Вернее, это наше непосредственное впечатление от вещи, полученное с помощью зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных и осязательных рецепторов. Это полнота переживаемого опыта, поток впечатлений, не остановленный рассудком. «Допуская, чтобы вещь осуществлялась в своем веществовании... мы вспоминаем о ней как о вещи. Вспоминая, значит думая о вещи как о вещи, мы оказываемся способны к ней при-слушаться...» [157,С325].
И Хайдеггер, и Бергсон, и Мандельштам ратовали за полноту восприятия жизненного потока. В этом плане показательно высказывание Н. Струве: «Бергсона называют «философом полноты». Мандельштама мы можем назвать «поэтом полноты»[133,С. 209]. Полноте восприятия жизни как потока мешает наше «принципиально утилитарное и ограниченное», по словам Бергсона, сознание, «синтаксис», по Мандельштаму, «научное знание», по Хайдеггеру.
Образ в поэзии. Образы и репрезентативные системы
От чего зависит то приращение магии в сравнении с естественным языком, которое мы наблюдаем в поэзии? От того, что художественная речь оперирует ОБРАЗАМИ. Образ - это настолько важное для человечества понятие, что давно стоило создать науку образности. Тогда слово «образ» стало бы термином, и нам не нужно было уточнять, что именно мы подразумеваем под этим понятием. Однако пока такой науки не существует, нам придется уточнить, что мы имеем в виду, когда говорим об образах в поэзии.
Исходя из ложной предпосылки, что мышление и язык тождественны и организованы по законам логики, ученые еще не так давно считали образное мышление лишь одной из ступеней развития мышления, предшествующей мышлению языковому. Однако на самом деле процесс создания образов всегда сопровождает процесс порождения и развертывания речи. Слово, как «сигнал первичного сигнала», как обозначение некоего образа, не может быть оторванным от своего действительного содержания, иначе оно рискует стать «сигналом ничего», пустым звуком. Два взаимосвязанных пласта мышления -образное и языковое - составляют наш мыслительный аппарат. И.П.Павлов, предупреждая об опасности разрыва двух сигнальных систем, писал: "Нужно помнить, что вторая сигнальная система имеет значение через первую сигнальную систему и в связи с последней, а если она отрывается от первой сигнальной системы, - то вы оказываетесь пустословом, болтуном и не найдете себе место в жизни... нормальный человек, хотя он пользуется вторыми сигналами, которые дали ему возможность изобрести науку, усовершенствоваться и т.д., будет пользоваться второй сигнальной системой только до тех пор, пока она постоянно и правильно соотносится с первой сигнальной системой, то есть с ближайшим проводником действительности". [168,С67] Языковое мышление непременно подкрепляется образным. И тем удивительнее, что обратное оказывается верно не всегда.
Доказано, что язык и мышление не тождественны и мышление без языка возможно. А что такое мышление без языка? Единственной альтернативой языковому мышлению является мышление образное. Итак, оперирование образами является относительно самостоятельной формой функционирования мышления. Образное мышление - это подсознательная неязыковая подсистема мышления, оперирующая данными сенсорных репрезентаций, самостоятельное функционирование образной (подсознательной) подсистемы мышления приводит нас к таким неисследованным психическим феноменам, как творчество, интуиция, предвидение и т.п. Прямым следствием функционирования чистого образа в сфере мышления является ускорение мыслительного процесса, благодаря чему происходят необъяснимые прорывы в иные измерения времени, пространства и духа. «Именно потому, что образ неразложим на составляющие и достаточно сложен и наполнен содержанием, чтобы оказать на нас моментальное воздействие, мы и испытываем катарсис при восприятии этого образа. Неразложимость образа не дает нам возможность подключить при восприятии разум; мы вынуждены реагировать иначе (интуитивно). Возможно, что в данном случае мы воспроизводим цельные синтетические единства, присущие нашему внутреннему мышлению, но не данные к одновременному воспроизведению при помощи языковых систем. Возможно, синтетическое выражение мышления только и возможно через образные системы конвенциональных образов - и в этом их огромное значение для человечества» [168,С82]. По словам Нильса Бора, «искусство напоминает нам о гармониях, недосягаемых для сознательного анализа». «Сознание, лишенное помощи (со стороны искусства, снов и т.д.) никогда не может понять системную природу психики» [182,С339].
Недостижимое, как это близко! Ни развязать нельзя, ни посмотреть, -Как будто в руку вложена записка И на нее немедленно ответь.
О. Мандельштам [13.C.I99]
В философии образ трактуется как внешний мир, попавший в «фокус» сознания, ставший его раздражителем и интериоризованный им. С помощью образов сознание формирует субъективную картину мира. С другой стороны, субъективно созданный в глубинах нашего подсознания образ способен оказывать влияние на объективные реалии нашей жизни.
Я утверждаю, что образы, кои ходьбу вызывают, Прежде всего поражают наш дух, как указано выше. После того образуется воля: никто не начнет, ведь, Действовать, прежде чем дух не постигнет, чего он желает. То же, что кажется духу, есть образ предмета, Так что как только желаньем ходить и вперед подвигаться Дух возбуждается, тотчас же он поднимает все силы Нашей души, что рассеяна всюду в суставах и членах Действует дальше на тело душа, и таким путем тело Движется все и несется вперед оно мало-помалу.
Лукреций, кн. 4, 889-885, пер. Рачинского
В соответствии с этой порождающей изменения природой образа, любое будущее формируется через образ будущего, который мы создаем. Недаром Мандельштаму казалось, что с каждым новыми его «мир обновился».
Итак, функции образа:
1. Отражение действительности. Действительность, окружающая нас, задана объективно и верна себе самой. Отражение действительности возможно только в сознании человека. Сознание человека всегда асимметрично действительности, субъективно и изменчиво. Оно не допускает чистое знание о мире, это всегда СО-знание. Отраженная действительность каждый раз будет другой. Следовательно, первая функция образа - отражение действительности в рамках субъективной нейропсихологической модели.
2. Коммуникативная функция. Учитывая субъективность отражения, для наиболее полного понимания информации недостаточно пользоваться только своими внутренними образами. В ходе коммуникации приходится «настраиваться» на образный ряд собеседника, что возможно при сознательном отключении трансдеривационного поиска и сосредоточении внимания на языковых и сенсорных сигналах собеседника.
3. Когнитивная функция. В любых жизненных ситуациях мы совершаем определенный этически-эстетический выбор, чаще всего спонтанный. Творчество одного поэта мы признаем близким себе, а другого поэта не воспринимаем, и не можем объяснить почему. Если образы, продуцируемые поэтом, вступают в резонанс с нашими внутренними репрезентациями, - мы понимаем поэта, перед нашим внутренним взором образы его стихотворений разворачиваются, поэтический ряд нам близок. Если резонанса не происходит -нет и понимания. Возможно ли осуществить подобную настройку рационально? Нет. По той же причине невозможно создать гармоничное общество на рациональных началах. И в то же время, используя резонирующее свойство образов, возможно создать гармоничное общество на основе образного взаимопонимания. Для этого необходимо: мудро управлять работой сознания и подсознания, не допуская их смешивания и порождения химер (что мы наблюдаем в повседневном бытовом общении) и осознанно расширять пропускную способность сенсорных репрезентативных систем. Чем больше развиты наши сенсорные репрезентативные системы, чем гибче наше сознание (то есть чем больше вариантов, моделей реальности оно может вместить), тем большее количество образов мы сможем интериоризировать. И тем с большим количеством людей (и поэтов) почувствуем «родственность душ»16.
Вклад VAK анализа в теорию и практику манделыптамоведения
В статьях некоторых достаточно известных исследователей мандельштамовского творчества мы не раз обнаруживали интерес к вопросу о реализации в творчестве Мандельштама сенсорных впечатлений и репрезентаций. «Как почти всегда бывает в положительно коннотированных стихах Мандельштама, - пишет М.С. Павлов, - образный ряд ориентирован на восприятие сразу несколькими органами чувств: зрением (сюда относятся почти все конкретные образы, в том числе цветообозначения: зелень, молочный...); осязанием (клейкая клятва листов); слухом (гремучий парк, кваканье лягушек)» [96,С126].
А.А. Фаустов [121]: «Общая идея, от которой я отталкиваюсь, может быть сформулирована так: ориентация на зрение или осязание в качестве первичного, «соматического» языка переживания определяет глубинные особенности поэтической реальности, ее «мифологию»» [121,С234]. «Прикосновение заменяет у Мандельштама всматривание и при этом мыслится как некий естественный способ коммуникации» [121,С235].
«Слово у Мандельштама связано прежде всего с актом произнесения, с дыханием, артикуляцией или, реже, со столь же «технологично» описываемым восприятием (Дикая кошка - армянская речь, мучит меня и царапает ухо). Слово же в «промежутке» между двумя этими актами оборачивается птицей и тем самым как бы повышается в «степени вещественности» (Ср. у Флоренского о слове кудесника: это «как бы живое существо с телом, сотканным из воздуха...»)» [121,С236]
Далее А.А.Фаустов приводит цитату из книги В.Н.Топорова (Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 428-446):
«Проблема, нуждающаяся в особом рассмотрении, - реконструкция того культурного фона, на котором складывается «тактильная онтология» Мандельштама. Суммарно (и, разумеется, предварительно) его можно обозначить так. Во-первых, это идущий от Г. Вельфина (с его противопоставлением тактильности Ренессанса - оптичности Барокко) и «унаследованный» искусствоведческими концепциями П. А, Флоренского, А. Г. Габричевского и др. интерес к «перво-сюжетному» слою «изобразитльно-художественных произведений». Во-вторых, сошлюсь на философско-богословскую традицию (представленную, помимо П. А. Флоренского, в первую очередь А. Ф. Лосевым и, отчасти и в разных отношениях, Вяч. Ивановым, С. Н. Булгаковым и др.), «камертоном» которой было внимание к «символико-магической» стороне бытия. В-третьих, (и об этом уже говорилось в серии работ Вяч. Вс. Иванова), в лингвистике и культурологии 20-40-х гг. в центр выдвигаются категории «видимого/невидимого», что также весьма характерно. Еще одна близкая, хотя и «отклоняющаяся линия» - «Философия» (и поэтическая практика) ОБЭРИУтов» [121,С237].
Как видим, ученые-литературоведы прибегают к изощренным метафорам и ищут сложные пути, чтобы в рамках филологии как-то объяснить то, что имеет четкое объяснение в области нейролингвистики: «Величина тактильности», «чувственная логика метафоры», ««технологично» описываемое восприятие», «степень вещественности», «метафорические кодировки» и др. -это у А.А.Фаустова. «Тактильная онтология», «перво-сюжетный слой» изобразительно-художественных произведений», «символико-магическая сторона бытия», «мудрость осязаемого вожделения» - это у В.Н.Топорова.
Однако сложные конструкции метафорических обозначений оказываются ни к чему. Мы можем предложить простую и удобную терминологическую базу для обозначения данного феномена как в творчестве Мандельштама, так и в любом другом художественном творчестве. Визуальная, аудиальная и кинестетическая репрезентативные системы, позволяющие получать, осмысливать и проецировать сенсорную информацию, оказались очень удобными для применения в филологическом исследовании. С теоретической позиции репрезентативные системы были описаны в первой главе нашего исследования. Во второй главе были изучены визуальные, аудиальные и кинестетические способы отражения действительности в творчестве О. Мандельштама. Выводы интересны, терминология, на наш взгляд, понятна. Можно только порадоваться за мандельштамоведение, поскольку оно обогатилось полезным усовершенствованием исследовательского аппарата. Вклад VAK анализа в практику мандельштамоведения
Исследование поэтики в кодах репрезентативных сенсорных систем помогает решить многие «наболевшие» проблемы мандельштамоведения. Ввиду лимитированного объема данной работы, ограничимся здесь только одним «рифом» мандельштамоведения. Речь идет об оде Сталину. Сложно поверить, но находятся исследователи, которые утверждают, что данная «Ода» была написана Мандельштамом искренне. Другие исследователи считают, что «Ода» написана эзоповым языком. В любом случае, пишет Б. Сарнов, «версия о попытке насилия над собой безоговорочно осуждалась как вульгарная, упрощенческая и очевидно несправедливая» [109,СЛ03] И пока у мандельштамоведения не было весомых аргументов, чтобы доказать или опровергнуть факт «насилия»/ «ненасилия» поэта над собой. Все доказательства исходили лишь из интуитивных представлений исследователей и свидетельств Н. Мандельштам о том, что процесс написания «Оды» отличался от привычного Мандельштаму процесса творчества.
Мы считаем, что «Ода» - это, безусловно, насилие поэта над собой, первая и последняя попытка использовать поэтический дар с интересах «мгновенного». («Но если ты мгновенным озабочен - твой жребий страшен и твой дом непрочен».) В принципе, это нормальный поступок нормального мужчины, защищающего свою жену: потому что жить так, как жили Мандельштамы в Воронеже НЕЛЬЗЯ: «То, что со мной делают, - дальше продолжаться не может. Ни у меня, ни у моей жены нет больше сил длить этот ужас», - писал Осип Эмильевич [62,СЛ15]. С другой стороны, Мандельштам был не только мужем, а поэтом. Причем поэтом, который никогда (!) не позволял себе фальшивить. Изменить своим убеждениям значило для Мандельштама изменить чувству поэтической правоты. «В нем лились и переливались / Волны внутренней правоты». Если бы Мандельштам мог искренне поверить в Сталина, он написал бы восхвалявшую его оду без оглядки на политическую ситуацию. Когда Мандельштам искал точку соприкосновения с людьми и народом, его лирический герой пришел к Сталину, «в его сердцевину... головою повинной тяжел». А в стихотворениях про ос, «сосущих ось земную», Мандельштам вообще завидует жизнеспособности, жизнеустойчивости своего тезки. Политика здесь вообще была на десятом месте. Да, он ненавидел и боялся Сталина как человек. Но главное то, что как поэт он не чувствовал себя вправе восхвалять его. Поэтому «Ода» никак не может считаться полноценными стихами. Это вариант «наступання на горло собственной песне», который еще никому, даже Маяковскому, не удавался. И тем более не мог удаться Мандельштаму.
Поэтическая онтология О. Мандельштама
Еще в ранней статье 1914 года, посвященной Чаадаеву, Мандельштам восхищался дарованной человеку возможностью самостоятельно организовывать свою жизнь и судьбу.
«Идея организовала его личность, - пишет Мандельштам о Чаадаеве, - не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу» [5,СЛ51]. Мандельштам рассматривал философский путь Чаадаева как путь первого русского, «идейно побывавшего на Западе и нашедшего дорогу обратно» [5,С156]. Таким образом, не римско-католическая идея первого периода чаадаевской философии привлекала Мандельштама. И даже не русская, славянская идея «неискоренимой потребности единства, высшего исторического синтеза», хотя Мандельштам и отзывался о ней весьма позитивно. Главная идея Чаадаева, по мнению Манделыиатма, - это «нравственная свобода, свобода выбора» [5,С156].
«Я думаю, - пишет Мандельштам, - что страна и народ уже оправдали себя, если они создали хоть одного совершенно свободного человека, который пожелал и сумел воспользоваться своей свободой» [5,СЛ56].
Мы можем сказать, что центральной осью мандельштамовского мировоззрения была идея свободы. Однако сказать так - не сказать ничего, потому что мы еще не знаем, что именно понимал Мандельштам под свободой.
Постижение онтологической основы мандельштамовского понятия «свободы» становится возможным благодаря свидетельствам Н. Мандельштам. Надежда Яковлевна в своих воспоминаниях много внимания уделяет ложно понятому принципу свободы, порождающему индивидуалистов.
«Свобода основана на нравственном законе, своеволие - результат игры страстей. Свобода говорит: «Так надо, значит, я могу». Своеволие говорит: «Я хочу, значит, я могу» [77,С228]. «Свобода ищет смысла, своеволие ставит цели. Свобода - торжество личности, своеволие - порождение индивидуализма» [77,С229]. «Человек идет путем свободы или, лучше сказать, обретает свободу, если ему удается избавиться от темных побуждений своего «я» и времени, в котором он живет... По-настоящему трагична свобода. Перед свободным человекам стоят тысячи вопросов, и основной из них - прав ли он, что стоит на своем, не считаясь с общим мнением, нет ли в его поведении гордыни... [77,С.231].
Из рассуждений Надежды Мандельштам, которые, надо думать, одобрил бы и Осип Эмильевич, становится понятно, что свобода в мировоззренческой концепции поэта - это нравственный закон и личный труд каждого. Это работа по изменению себя самого.
Человек обретает настоящую свободу, когда способен менять себя. В этом процессе самоизменения человек уподобляется Богу, потому что меняя себя, человек таким образом меняет и мир. Ведь мир, как мы выяснили ранее, у каждого человека свой, подчиняющийся законам его личной модели реальности. Расширяя и обогащая собственную модель мировосприятия, человек меняет мир. И другого изменения мира, кроме самоизменения, не дано.
Таким образом, мы приходим ко второй доминанте мандельштамовской онтологии. Изменение себя, обусловленное принципом личной свободы, - это постоянная корректировка личной карты реальности, другими словами, это постоянное внутреннее движение.
Сколько сказано о категории движения в творчестве Мандельштама! «Движение приходит в поэзию М. как глобальная метафора, передающая мир в динамике. В его поэтическом мире движется все, начиная от человека и кончая торцами на Дворцовой площади, начиная от времени и кончая музыкой.
В поэзии М. в движение вовлекаются те области бытия, которые в норме мыслятся неподвижными - горы, города, храмы...» [99,СЛ86].
В терминах нейропсихологии, мы можем определить психологическое значение категории движения в поэтике Мандельштама как утверждение подвижности ментальных и психических установок человека, поскольку только изменения на уровне внутренней репрезентации мира обеспечивают личности возможность эффективного взаимодействия с любыми живыми системами и с глубинным «потоком жизни».
Механизм психической подвижности функционирует за счет выявления различий в окружающем мире. Мы знаем теперь, что различие - это основная единица человеческой психики. Желание стабильности и идентификация являются лишь одной из ступеней роста. Принимать состояние покоя, стабильности за основополагающий жизненный принцип опасно для личности, так как это приводит к нарушению контуров взаимодействия. Напротив, постоянный поиск различий является главным условием непрерывного роста и гармонии. Мандельштамовский принцип противоречий является оптимальным способом существования личности в потоке бытия, только как «виртуоз противочувствия», по выражению Ахматовой, Мандельштам мог сохранить нравственную свободу в условиях тотального обесценивания человека и человечности.
«Противоречия, сказал Нафта, могут быть и сообразными. Несообразно лишь половинчатое и посредственное».2 В любые времена и в любой кульутре именно принятие принципа противоречия как основы развития делает человека человеком. «Человек - хозяин противоречий, через него они существуют, а значит он благороднее их. Благороднее смерти, ибо, где ей тягаться со свободной волей его разума? Благороднее жизни, ибо, где ей тягаться с чистотой его сердца?».
Этим и объясняется пресловутая «противоречивость» манделынтамовского творчества, проявляющая себя на всех уровнях поэтического текста: от смешивания культурных пластов в пределах одного стихотворения до слияния в один троп метафоры и метонимии и фонологической многозначности.
Вместе с тем процесс различения и противопоставления у Мандельштама всегда осуществляется в рамках единого целостного поступательного движения, в рамках идеи, «организующей личность».
Наша диссертация посвящена доказательству простой мысли: Мандельштам взаимодействовал с миром на более глубоком уровне, чем большинство живущих сегодня людей. Как сказал один древний философ, человеку надо хорошенько потрудиться, чтобы стать самим собой. А мы по большей части бегаем от нравственного труда, предпочитая удовлетворяться достаточно поверхностной деятельностью.