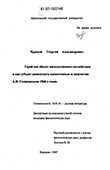Содержание к диссертации
Введение
Глава I Проективность как способ организации лирического произведения и жанровые признаки элегии, послания, баллады 16
1.1 «Тишины!» и «Плач по двум нерожденным поэмам» А. Вознесенского 18
1.2 «Шумит Катунь» и «Над вечным покоем» Н. Рубцова 26
1.3 «Сумерки. Снег. Тишина. Весьма...» И. Бродского 37
1.4 «Ночной дозор» А. Кушнера 44
1.5 Жанровые признаки элегии, баллады, послания 53
Глава II Взаимодействие элегии и баллады 71
2.1 «Идут белые снеги» Е. Евтушенко 71
2.2 «Зимняя замкнутость» Б. Ахмадулиной 75
2.3 «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» Н. Рубцова 82
2.4 «Под вечер он видит...» и «Ты поскачешь во мраке...» И. Бродского 86
Глава III Взаимодействие элегии и послания 93
3.1 «Письмо Есенину» Е. Евтушенко 93
3.2 «Уроки музыки» Б. Ахмадулиной 99
3.3 «Два наводнения» и «Пластинка» А. Кушнера 102
3.4 «Большая элегия Джону Донну» И. Бродского 108
Глава IV Индивидуальные варианты элегического модуса 117
4.1 Экзистенциальный вариант: «От окраины к центру» И. Бродского 117
4.2 Трагический вариант: «Истинный новый год» Е. Рейна 126
4.3 Сенсуальный вариант: «Третья память», «Осень», «Нью-Йоркская элегия» Е. Евтушенко 132
4.4 Визуальный вариант: «Муромский сруб», «Нам, как аппендицит...» А. Вознесенского 139
Заключение 148
Список литературы 152
- «Тишины!» и «Плач по двум нерожденным поэмам» А. Вознесенского
- «Идут белые снеги» Е. Евтушенко
- «Письмо Есенину» Е. Евтушенко
- Экзистенциальный вариант: «От окраины к центру» И. Бродского
Введение к работе
Феномен поколения в гуманитарной мысли последних десятилетий все чаще подвергается развернутой рефлексии [НЛО 1998, №30, С. 7-91]. С точки зрения М.П. Абашевой, «внимание и литературного, и научного сообщества к проблемам существования, смены и укоренения в истории литературы поколений, проявившееся в 90-ые годы, знаменует важный шаг в самосознании современного человека» [Абашева 2001: 151]. С. Козлов называет три причины актуальности темы поколений. Первая - традиционная важность поколенческого измерения для литературного процесса в России: «...Обращает на себя внимание весьма скромная роль литературных групп, школ, направлений, течений при высокой значимости поколенческих маркировок и общеидеологических опознавательных знаков». Вторая - исключительное обострение поколенческих коллизий в связи с бурной социальной динамикой, характерной для России последнего десятилетия. Третья — совершенно особое место, занятое идеей поколения в нынешнем мире: «В наши дни это, возможно, единственный способ быть свободным, продолжая хоть чему-то принадлежать» [Козлов 1998: 5].
В определении границ поколения традиционно учитывается ряд факторов: физический возраст, схожий социальный и исторический опыт, потребность в самоидентификации в рамках поколения. «В современной гуманитаристике поколение определяется общим историческим опытом, общественным положением представителей поколения» [Абашева 2001: 152]. М.О. Чудакова, создавая свою классификацию поколений в советской культуре, руководствуется одним параметром: «В поколение могут попасть все, кто в момент общественного потрясения, требующего ответа, оказался в дееспособном возрасте и включился в ответ» [Чудакова 1998: 80]. Исследователи-филологи последнего времени акцентируют специфику самосознания субъекта, его внутреннюю включенность, рассматривая внешние (социальные) факторы как сопутствующие: «сама воля современного художника к осмыслению судьбы своего поколения и потребность в самоидентификации именно в рамках поколения» [Абашева 2001: 152].
Е.Ю. Боброва в книге «Основы исторической психологии» дает такое толкование: «Поколение - возрастная группа людей, формирование характера которых происходит под влиянием определенных исторических событий, экономических и культурных условий, что определяет общность и сходство некоторых личностных характеристик в результате сходного для представителей данной возрастной когорты социального опыта» [Боброва 1997: 92]. Историческая и социально-психологическая природа явления описывается специалистами рядом характеристик: «историческая роль поколения; социальный статус поколения; «духовная» общность поколения; исторический опыт поколения; межпоколенческая коммуникация; возраст поколения» [Боброва 1997: 93]. Вопрос о хронологических рамках поколения «шестидесятников» дискуссионен. Е.Ю. Боброва определяет принадлежность субъекта к данному поколению по рождению в диапазоне 1935-1945 годов; М.О. Чудакова- 1928-1935 годов; а к «четвертому» литературному поколению в ее периодизации относятся художники, родившиеся с 1924 по 1938 годы.
Поколение обычно имеет сложную внутреннюю структуру: «внутри одного поколения могут существовать несколько различных, даже противоположных друг другу подгрупп. Вместе они образуют одно «реальное» поколение именно потому, что они ориентированы друг на друга, пусть даже только в своем противопоставлении ... Поколение же, взятое в целом, разделяет одну судьбу, но разные его представители могут реагировать на эту судьбу по-разному» [Мангейм 1998: 31]. И исследователи русского литературного процесса это в достаточной мере учитывают. Так, например, М.П. Абашева пишет: «Карл Мангейм предложил плодотворное понимание подгрупп в составе поколений, формирующих собственные энтелехии -поколенческие стили. С учетом этих градаций писательские размышления о поколениях можно рассматривать именно как факты самосознания отдельных поколенческих подгрупп, реализовавшихся в культуре наиболее активно» [Абашева 2001: 152].
Точка зрения B.C. Баевского позволяет получить представление о внутренней типологии поколений: «Своеобразными координатами, позволяющими получить первое представление о поэте, служат совместно его традиция и его поколение, долгота и широта на поэтической карте» [Баевский 1996: 268]. В истории русской поэзии исследователь выделяет три основные линии ее развития, связанные с определенными поэтическими школами: «Поэзия 1920-х - 1970-х гг. развивалась по направлениям, намеченным в модернизме и авангарде. Можно условно выделить три основные линии. Первая идет от акмеизма, условно говоря, петербургская, наследующая «опыт» в первую очередь Анненского, Блока, Ахматовой, Мандельштама. Вторая идет от футуризма, условно говоря, это линия московская, наследующая опыт прежде всего Хлебникова, Пастернака, Маяковского, Цветаевой. Третья линия, линия крестьянской поэзии, еще более условно говоря, деревенская, идет от Клюева и Есенина. Каждый из поэтов середины XX в. находится на одном из этих меридианов или между ними, ближе к тому или иному» [Баевский 1996: 267]. Ориентируясь на опыт осмысления русского литературного процесса в аспекте смены поколений [Комаров 2002], автор данной диссертации в качестве единицы новой социологии отечественной словесности мыслит поколение, а в качестве границы вычленения единиц в истории - сроки физического появления на свет. Поэтому главным критерием при определении границ первого послевоенного поколения поэтов будут не сроки вхождения в литературу, не отношение к знаковым событиям общественной жизни (например, XX съезд КПСС и т.п.), а факт рождения во временном промежутке с 1930-го по 1941 годы. К числу поэтов данного поколения относятся Е. Евтушенко (1932), А. Вознесенский (1933), Е. Рейн (1935), А. Кушнер (1936), Н. Рубцов (1936), Б. Ахмадулина (1937), И. Бродский (1940). Данный выбор имен позволяет наиболее репрезентативно представить культурные «топосы», школы и яркие индивидуальные художественные системы. Это художники, вышедшие из разной среды и ориентирующие на различные культурные школы (условно говоря, московскую, петербургскую, нестоличную). В ситуации конца «оттепели» (1963 - 1967 годы) им в минимуме от 23-х лет и в максимуме до 37-ми лет.
Существенно, что принадлежность к поколению ими ощущается достаточно четко. Так или иначе она даже декларируется, например, у Евтушенко: «Лучшие из поколения, возьмите меня трубачом». Это строка из его стихотворения 1957 г. «Лучшим из поколения». Поэтами ощущается культурно-историческая миссия поколения: «Поколение, к которому я принадлежу, ... явилось в мир, чтобы продолжить то, что теоретически должно было прерваться в крематориях Аушвица ... , тот факт, что не все прервалось - по крайней мере, в России, — есть в немалой мере заслуга моего поколения» [Бродский 1992: 14]. У Бродского рефлексия поэзии в единицах поколения проявляется достаточно последовательно: «Это наиболее замечательный поэт всего нашего поколения, то есть он наиболее крупная величина в русской поэзии этой возрастной категории...»; «Дело в том, что литература, в конце концов, является записью человеческого опыта, как бы сказать, биография вида, и каждое следующее поколение к этой биографии что-то добавляет, то есть мы узнаем, что есть человек» [Бродский 2000: 357, 360]. Так заявленный предмет научной рефлексии отчасти диктуется и самосознанием субъектов изучения, он очевидно «не навязывается» материалу.
В первом послевоенном поколении поэтов, по мнению B.C. Баевского, получили развитие две основные точки зрения на предназначение поэзии. Первая выражена, на его взгляд, в творчестве Вознесенского, Евтушенко и Ахмадулиной, которые «...приняли условие тенденциозного творчества- одни более охотно, другие менее охотно. Перед ними было не только непререкаемое требование власти, но и прошлое русской литературы с примером классицистов, декабристов, Некрасова, когда поэзия гордилась тем, что служит - императрице, обществу, народу» [Баевский 1996: 268]. Другая позиция, по B.C. Баевскому, связана с именами Кушнера, Чухонцева, Бродского.
«Отношение к поэзии, к власти резко изменилось у того поколения, которое вошло в литературу в 1960-е гг. Оно порвало с представлением о том, что поэзия должна служить — чему бы то ни было — и вернулось к ее пониманию как самодостаточной ценности. Опять-таки самых разных авторов, между которыми нет ничего общего, объединяет это - новое для советской литературы, в действительности же старое, идущее от романтиков и Пушкина — сознание того, что у поэзии нет более высокой цели, чем поэзия» [Баевский 1996: 269].
Попытки понять истинное место отдельных фигур из первого послевоенного поколения в отечественной культуре зачастую «снимают» саму проблему поколения, его духовной общности, ведут к предустановленной оценочности: «В своём поколении Бродский - один. В этом «рассеянном» поколении («рассеянном» в любом смысле слова) есть настоящие поэты, близкие ему биографически, да и не только. Но это спутники, как лицеисты были спутниками Пушкина (не буду настаивать на полноте аналогии). В своей эпохе Бродскому не с кем соперничать и вступать в диалог. Ахматова или Мандельштам были в более счастливом положении. На том уровне, на котором пишет Бродский, разумнее отмечать не влияние, а сходство и переклички» [Венцлова 1996: 33]. Тенденции сосредоточить внимание на отдельных фигурах поколения очевидно полемичны призывы к историко-литературной объективности, взвешенности оценок по отношению к опыту всех представителей данной поэтической генерации: «60-ые годы - целый фейерверк свежих талантов. Не надо делать вид, что евтушенковская плеяда — пустое место. Нет смысла поддакивать их старым врагам и нынешним труженикам помойки со специфическими ушатами. Те звезды светили, как могли, и если кого-то из них теперь фактически нет, то свет всё равно остался. Свет - двоякий (кажется, эпитет Межирова, взятый у Пастернака)» [Алехин-Фаликов 1999: 6].
Хронологические рамки 1960-х достаточно условны. Так, на сайте «Поэзия 1960-х как гипертекст», получившем премию «Малый букер», указаны 1957 - 1972 годы. Для исследования нами была выбрана лирика середины 1960-х годов (1963-1967). Ситуация конца «оттепели» для первого послевоенного поколения поэтов показательна в нескольких отношениях. Первое - поколение уже имеет общественное признание, мыслится как надежда страны, ее опора и перспектива. Второе - организационно и биографически оно впервые оказывается перед реальной угрозой размежевания, расчленения (свои - чужие, лучшие - нелучшие, центр - периферия, состоявшиеся -несостоявшиеся и т.п.), причем эта угроза возникает как извне, так и изнутри. Третье - в связи с вышесказанным важен опыт внутреннего поведения в стихе, когда самостояние при общности ценностного механизма начинает проявляться именно в индивидуальных вариантах. Ситуация конца «оттепели» становится развилкой в определении собственного пути каждым поэтом. Поэтому важно представить целостную картину творчества поэтов на данном временном отрезке - этапе повышенной «исторической чувствительности» поколения. Специалисты по исторической психологии определяют эту категорию следующим образом: «Историческая чувствительность - специфическая чувствительность к изменениям таких характеристик исторической ситуации, которые соответствуют специфике возрастных и индивидуальных сензетивных моментов жизни» [Боброва 1997: 96]. Наиболее высок уровень исторической чувствительности для юности, переживающей период активного формирования мировоззрения и озабоченной проблемами самоотождествленности. «Литературные» поколения, выделенные на основе «биологических» поколений, подчиняются общему «закону поколения». Его параметры таковы: 1) психологическая значимость исторической ситуации различается для членов общества в соответствии с их поколенческой принадлежностью; 2) агентами социальных изменений становятся представители того поколения, для которого историческая ситуация выступает как неблагоприятная; 3) историческое поведение поколения направлено на изменение социальной системы, оптимально соответствующее самореализации представителей данного поколения [Боброва 1997: 98]. Л.А. Аннинский так сформулировал ощущение своего поколения: «...раннее сиротство, позабытое за ранними заботами, навсегда вошло в наш духовный состав и ... оно еще много раз будет оплакано нами, ибо нельзя прожить другое детство, чем то, что тебе досталось, а надобно только, чтобы в какой-то момент отодвинулась пелена каждодневных забот и обнажилась истина судьбы, и драма ее встала во весь рост» [Аннинский 1991: 9]. Типологически схожее явление отмечают специалисты в «деревенской прозе»: «Анализ англо-американских исследований по «деревенской прозе» позволяет выделить следующие идентификационные доминанты: утрата идеала и обусловленный ею поиск символа на глубинных ментальных уровнях; ситуация исчезновения нравственных и культурных ценностей, открывающая перспективу на «старую Россию» и ее тысячелетнюю историю; типологическая оппозиция крестьянского менталитета и официальной идеологии» [Большакова 1996: 6].
По мнению Н.Л. Лейдермана, «к середине 1960-х годов надежды на обновление путем восстановления мифических «ленинских норм» угасли, стало ясно, что сама политическая система неспособна быть человечной. ... К середине десятилетия «потеря горизонта становится очевидностью» [Лейдерман 2000: 166]. К тому же уже прошел «пик успеха» так называемой «громкой» поэзии. В общественной жизни начинает усиливаться атмосфера «похолодания», идущая на смену хрущевской «оттепели». Начинается практика судебных процессов над поэтами, писателями, творческой интеллигенцией. «Пришло время задуматься о традиции ... после нескольких десятилетий бытования советской литературы, главным достоинством которой считалась ее устремленность в будущее» [Шайтанов 1994: 277]. Это было время овладения культурным пространством, расширения его границ. Поэты вступали в диалог с предшествующими поэтическими поколениями. «В этом диалоге, подхватывая слово, однажды прозвучавшее, напечатанное, т.е. уже как бы дозволенное, пытались сказать больше, чем смогли бы от собственного имени. Традиция не только учила, но и давала необходимый резонанс, мыслилась как форма иносказания и приращения смысла, способ освобождения» [Шайтанов 1994:278].
Общей для литературного процесса в этот период становится тенденция к эпизации художественных форм. Проявление эпического начала в лирической повести отмечал Н.Л. Лейдерман [Лейдерман 1982]. О симптоматичном явлении в лирике поэтов-фронтовиков писал B.C. Баевский. «Многое зависит от разных возможностей лирического и эпического родов и их жанров, по-разному отображающих человека в его духовной и социальной жизни. ... Подъем поэзии длится примерно десятилетие. Скоро появляются, такие симптоматичные произведения, как верлибры Рыленкова, Винокурова, Яшина, Солоухина, Самойлова - опыты стиха, ориентированного на прозу; .. . Где-то здесь, между 1965-м и 1968-м годом и пролегла граница периода» [Баевский 1986: 91]. И.Л. Гринберг привел убедительные свидетельства актуальности проблемы в критике середины 1960-х: "В. Огнев в книге «У карты поэзии» (1968) считает, что лирической поэзии «по силам... большие темы, эпический простор мыслей и чувств. В этом диалектика эпоса и лирики в наши дни». А. Урбан в книге «Возвышение человека» (1968) замечает: «Для большинства советских поэтов характерно единение лирического и эпического начал»". [Гринберг 1985: 72].
Общность тенденции не означает ясности ее ценностной обеспеченности для различных поколений. Единственный способ надежно зафиксировать и реконструировать проявление ценностного сознания поэтов первого послевоенного поколения - анализ материи стиха (в частности, его жанровых параметров), когда исследователь смотрит на «произведение как процесс преображения текста в художественный мир» [Гиршман 1991: 92].
Еще недавнее представление о смерти жанров, о радикальной смене жанрового мышления стилевым мышлением сегодня значительно скорректировано (см. об этом подробнее: [Комаров 1996]). Жанры не умерли, но трансформировались: из канонических они превратились в неканонические. «Смена жанрового принципа организации художественного целого «лично родовым» не означает потери значимости жанра или его девальвации. Она лишь говорит об уходе жанра с поверхности в ядерные глубины произведения -поэтому он и труднее опознаваем, чем прежде. В результате переориентации неканонический жанр обретает новый облик. Его конститутивными чертами становятся: жанровая модальность (он - отношение между жанрами), стилистическая трехмерность (он - «образ жанра») и внутренняя мера (заменившая собой жанровый канон)» [Бройтман 2001: 363]. Доказательством обоснованности и продуктивности применения жанрового подхода к исследованию русской литературы XX века являются известные работы ученых «уральско-сибирской филологической школы» А.С. Субботина (лирика), Н.В. Барковской, Н.Л. Лейдермана, Т.Л. Рыбальченко и В.А. Суханова (эпос), Н.Н. Киселева, СМ. Козловой (драма). Категория «элегический модус» используется в диссертации потому, что позволяет выходить от уровня жанровой принадлежности текста к уровню ценностно-эстетических ориентации субъектов творческой деятельности. В качестве рабочего избрано определение В.И. Тюпы. Дефиниция из книги ученого «Аналитика художественного» теперь является важным элементом современных представлений о литературе в учебном пособии для высшей школы (2004): «Различные модусы художественности суть стратегии творческого «оцельнения», порождающего специфически художественный смысл целого. Поле этого смысла предполагает не только соответствующий тип героя и актуализированной вокруг него ситуации, не только соответствующую авторскую позицию и актуализируемую текстом установку читательского восприятия, но и внутренне единую систему ценностей, и соответствующую ей поэтику: организацию условного времени и условного пространства, систему мотивов, систему «голосов», ритмико-интонационный строй текста» [Тюпа 2004: 54].
Нельзя сказать, что писавшие о лирике 1960-х годов данного поколения не замечали элементов элегического в её составе. Л.П. Быков, например, так определял динамику поэзии в середине 1960-х: «Страстным монологам на не беречь себя, освободительная «память о смерти», «позитивный полюс тоски» [Седакова 1996: 12-14].
В работе мы учитывали опыт наших предшественников: 1) различные критерии типологического исследования творчества поэтов первого послевоенного поколения (проблемно-тематический, жанровый, стилевой), намеченные в работах Михайлова, Зайцева, Гринберга, Урбана, Сидорова, Шайтанова, Коминой и других; 2) характеристики творческой индивидуальности большинства поэтов, периодизации творческого пути, обозначение связи с поисками всей отечественной литературы (Македонов, Лейдерман, Пикач, Кожинов, Роднянская, Ростовцева, Плеханова и другие); 3) анализ поэтики некоторых текстов и зафиксированные значимые уровни структуры их для различных поэтов (Лотман, Марченко, Венцлова, Петрушанская, Ранчин, Кукулин, Бек, Мусатов и другие); 4) постановку вопроса о наличии локальных поэтических школ (Баевский, Македонов).
Объектом исследования послужили более двух десятков лирических произведений, созданных в 1963 - 1967 годы поэтами первого послевоенного поколения. Предмет исследования - элегический модус произведений и связанные с ним жанровые особенности текстов.
Цель работы - систематическое детальное описание элегического модуса лирики середины 1960-х годов поэтов первого послевоенного поколения.
Для достижения поставленной цели в работе решается ряд задач.
Доказать, что «элегический модус» выражает сущностные особенности ценностного сознания всех поэтов первого послевоенного поколения и имеет индивидуальные варианты эстетического воплощения.
Зафиксировать наличие проекции на иной «текст» в качестве одного из путей эпизации художественного целого в середине 1960-х годов различными представителями поколения.
Показать через анализ поэтики конкретных произведений середины 1960-х годов различных поэтов первого послевоенного поколения помощь и смену пришли диалоги с жизнью - лирические медитации, сосредоточенные на постижении «человекоустройства и мироустройства» (Б. Слуцкий). Над внятностью поэтического слова, ориентированного на непременную доходчивость и заразительность, возобладала точность выражения чувств и мыслей, как правило, сложных и неоднозначных. Внушение сменяется доверием, а стихотворные призывы и декларации уступают место ощущениям, догадкам, раздумьям. И уже не самовыявление из потока жизни, а вписывание себя в общую картину бытия становится определяющей тенденцией поэтической практики» [Быков 1988: 114]. СИ. Чупринин фиксировал в ней наличие «углублённого сосредоточенного лиризма», «зыбкое, плавучее чувство, обаяние и сила которого в непрояснённости, принципиальной невыговоренности», отмечал «направленность -этого чувства на мир, что уже отшумел и отошёл без возврата». Эти «симптомы» он объяснил феноменом возраста - физического и духовного [Чупринин 1983: 31, 33]. Е.Ю. Сидоров усматривал в стихах Евтушенко «безнадежное и в то же время праздничное чувство утраты», у Вознесенского «пронзительную ноту потерь», у Ахмадулиной следование «традиции открытой исповеди» с призывом «к духовному соучастию» [Сидоров 1988: 169, 220, 223]. А.В. Македонов сопоставлял опыты Евтушенко с конструкцией медитативной элегии как «цепочки психологических деталей и ситуаций» [Македонов 1985: 244]. А.А. Михайлов размышлял о генезисе темы памяти у поэтов поколения и связывал её «с войной, горем матерей и сиротством детей, со смертью и пожарищами, с трагедией целых народов и государств» [Михайлов 1986: 188]. П.С. Выходцев отмечал у Рубцова «веру в правду своего бытия», «напряженный драматизм» переживания [Выходцев 1984: 246]. Показательно и то, что, говоря о Бродском, представители последующих поколений выделяют черты, конститутивные именно для элегического модуса: «независимость частного лица», «стихийная анархическая религиозность», «фундаментальное одиночество», «героическое быть собой»
«Тишины!» и «Плач по двум нерожденным поэмам» А. Вознесенского
Характеризуя неклассическую литературу, ее «новую поэтику», С.Н. Бройтман указывает, что «художественный смысл здесь имеет особую форму бытия: он - «поле», локализованное между полюсами автономных голосов, в зоне их пересечения, со-стояния и со-ответствия» [Бройтман 2001: 263]. Говоря о специфике сюжета, исследователь утверждает: «Лишь в неклассической литературе ... будет отчетливо видна установка не на корреляцию события с его внехудожественным эквивалентом, а на моделирование сюжета по имманентным законам самой литературы (жизненный аналог при этом может уйти в тень и даже не быть принципиально восстановимым). Художественная ситуация прочитывается отныне не как отражение определенного жизненного события, а как модель, из которой могут быть выведены по сути бесконечные эмпирические реализации, что не лишает такой сюжет художественной конкретности и ситуативности» [Бройтман 2001: 334-335]. В лирике середины 1960-х годов поэтов первого послевоенного поколения данные черты неклассической литературы, несомненно, наличествуют.
Нагляднее всего эти качества неклассической художественной целостности проявляются в текстах с установкой на проективность. Понятие проекция (от латинского «бросание вперед») предполагает изображение какого-либо предмета на плоскости. Как указывают словарные источники, «проекция линии на плоскость есть линия, соединяющая основания всех перпендикуляров, опущенных на плоскость из всех точек данной линии» [Словарь 1994: 492]. Этот физико-математический феномен имеет очевидные аналоги в сфере эстетической деятельности. Иначе говоря, художник сознательно проецирует в диалогическом режиме создаваемый текст на другой текст или несколько текстов предшественников или современников и предполагает, что читатель поколения и позволяет выразить особенности их ценностного сознания.
3. Актуализация жанровых кодов баллады и послания в рамках элегического модуса свидетельствует о процессе эпизации лирики поэтов первого послевоенного поколения, расширяет спектр ценностных обертонов (А художественного мира поэта. В рамках художественного целого идёт поиск духовно-эстетического восполнения комплекса утраты.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры русской литературы Тюменского государственного университета. Отдельные фрагменты диссертации, основные положения и материалы исследования легли в основу докладов, представленных на международных и всероссийских конференциях в АГУ, ТюмГУ, ТГНГУ (Барнаул, 2004; Тюмень, 2002, 2004), региональных научно-практических конференциях в ТюмГУ (Тюмень, 2000, 2001, 2003). Результаты работы над темой диссертации отражены в 10 публикациях, были поддержаны грантом МО РФ 2003г. для аспирантов (шифр гранта-А03-1.6-228).
Структура диссертационного исследования определяется поставленной целью и задачами. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы. В ней анализируются тексты, созданные в 1963-1967 гг., соответствующие параметрам элегического модуса, имеющие среднюю стиховую массу (не менее двадцати стихов), репрезентативные (по мнению специалистов и самих авторов) для их творчества. взаимодействие элегии и баллады, элегии и послания как типовой способ эстетических решений.
Методы исследования. Методологически работа ориентирована на сочетание элементов системно-целостного [Гиршман 1981, 1991; Федоров 1984; Корман 1972, 1986; Лейдерман 1982; Тюпа 2001], типологического [Лотман 1997; Маркович 1992; Манн 2001; Гинзбург 1979; Тамарченко 1988] и культурологического [Мелетинский 1976; Лихачев 1989; Бройтман 1997, 2001] подходов к анализу литературных явлений.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые более двух десятков текстов, созданных поэтами одного поколения на достаточно узком временном отрезке, детально и целенаправленно анализируются в аспекте определенного модуса. Новизна подхода — в постановке задачи реконструкции ценностного сознания конкретного поколения в пороговой ситуации и в использовании жанрового механизма стиха в качестве эстетического аналога данного феномена, а художественных текстов в качестве документов ценностно-поведенческого самоопределения поэтов - выразителей спектра личностных реакций. Тем самым, предлагается логика накопления фактического материала для создания новой социологии русской литературы с использованием идей традиционной отечественной филологии (А.Н. Веселовский, М.М. Бахтин, Ю.Н. Тынянов, О.М. Фрейденберг, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман).
Практическая значимость работы. Материалы исследования могут быть использованы при чтении курса «История русской литературы второй половины 20 века» в вузах, спецкурсов по социологии и поэтике русской лирики 20 века, при изучении современной русской поэзии в 11 классе МОУ.
«Идут белые снеги» Е. Евтушенко
Стихотворение Евтушенко «Идут белые снеги» (1965) [Евтушенко 1984: 7] играет значительную роль в определении миросозерцания автора, является одним из лучших произведений середины 1960-х годов. Текст от начала и до конца пронизывает мотив смерти / бессмертия, данный не только прямо, но и в развертывании сложного символа - «белые снеги». Композиционно очевидны три части, три разные стороны развертывания центрального мотива. Границы между частями обозначены двумя рефреноподобными напевными повторами. Первая часть отделяется формулой:
«И я больше не буду / Никогда, никогда». Вторая часть заканчивается двустишием: «Только пусть она будет / Навсегда, навсегда». Третья часть завершается, подытоживая все стихотворение, строкой: «Если будет Россия, / Значит, буду и я». Не случайно границы частей четко маркируются тремя сжатыми формулами. Первая, даже судя по внешним признакам, насыщена семантикой прекращения жизни, умирания лирического субъекта. Рефрен только усиливает данное значение. Вторая формула является призывом: «пусть она будет», так же усиленным повтором «навсегда, навсегда». Это призыв к вечному существованию, бытию. И, наконец, третья формула наполнена объединяющей семантикой, в ней соединяются Россия и лирический субъект, что дает ему силы и надежду на жизнь: «значит, буду и я». Эта динамика значений, сконцентрированная в своеобразных формулах, развертывается внутри каждой из частей.
. Первая часть стихотворения представляет собой элегическую картину мира, отмечена ореолом умирания, невозможности продолжения жизни: «Жить и жить бы на свете, / да, наверно, нельзя». Настроение развивается под аккомпанемент падающих, идущих снегов. Возникая как реальное событие, снегопад обретает символическое значение, разворачивает свою смысловую структуру, входит в сознание лирического героя, «насыщается» семантикой умирания. И вот уже снеги — это души умерших людей, возносящиеся на небо: «Чьи-то души, бесследно / растворяясь вдали, /словно белые снеги, / идут в небо с земли». Мысли о смерти все больше и больше захватывают лирического субъекта: «Идут белые снеги... / И я тоже уйду». Но не смерть страшит героя: «Не печалюсь о смерти». Лирический субъект страдает от предельного одиночества, от утраты того, что удерживало в нем жизнь, было дорого. Он потерял опору, веру: «Я не верую в чудо». Знаково, что поэт употребляет глагол в старославянской форме, освященной традицией православной церкви. Человек, потерявший веру, не верит и в вечность: «И бессмертия не жду». Лирический субъект теряет свою душу: «Я не снег, не звезда». Метафора снега как души человека, развернутая выше, подтверждается переносным значением слова звезда. Снег, снеги становятся феноменом, принадлежащим вечности, знаком этой вечности. Лирический герой, отстраненный от всего этого, потерявший все связующие нити, вместо вечности обретет пустоту: «И я больше не буду / Никогда, никогда». Но как раз осознание, рефлексия утраты, понимание, чего он лишился (веры, родины, семьи и т.д.), страх перед духовной смертью приводят к стремлению восстановить утраченные связи. Можно сказать, герой приходит с покаянием, с новой попыткой обрести семью: «И я думаю, грешный, / Ну, а с кем же я был, / Что я в жизни поспешной / Больше жизни любил?» Вечность обретается лирическим героем в образе матери-России, в вечном жизненном природном цикле («Ее реки в разливе / и когда подо льдом»), в весеннем расцвете и зимней тишине. Вечность проявляется в России, в ее традициях, природе. Россия - живая, с душой: «Дух ее пятистенок, / Дух ее сосняков». Лирический герой - часть большой семьи. Вся его душевная сила заключается в родстве с Пушкиным и Стенькой, со стариками, символизирующими вековую традицию, вековую семью. И лирический герой признается в своей любви России, срываясь на крик: «А любил я Россию / всею кровью, хребтом». Он доходит до самоотречения: «Пусть она позабудет / про меня без труда, / Только пусть она будет / Навсегда, навсегда». Новый смысл приобретают в этих строках символические белые снеги. Это те нити, которые связывали лирического героя со своей Россией и позволили ему вернуться к ней через все преграды: «Идут белые снеги, / Как по нитке скользя».
С первой частью вторую соединяет смысловой акцент на завершенности жизни. Вся часть — это воспоминание, обращенное в прошлое, что подтверждается на уровне глагольных форм, стоящих в форме прошедшего времени. Оборот и я думаю, грешный переводит смысловые акценты изображения из плана реальности в план мыслительной деятельности, воспоминания. Далее все глаголы идут в прошедшем времени: был, любил, помог, было. Особенно ярко значение утраченных возможностей выражено в четвертой строфе данной части, где из четырех глаголов три являются однокоренными (с корнем жил). К тому же на этих глаголах построена рифма в строфе, что также усиливает их значение: «Если было несладко, / Я не шибко тужил, / Пусть я прожил нескладно - / Для России я жил». Семы мгновенности, финальности - в эпитете, данном жизни {в жизни поспешной). Жизнь поспешная, то есть быстро прошедшая. Весь этот смысловой пласт (быстро прошедшая, мгновенная жизнь) относится к сфере лирического Я, что подтверждают и формы глаголов (они стоят в единственном числе мужского рода прошедшего времени), и обилие личных местоимений 1 лица единственного числа. Я употреблено в этой части 11 раз - это показывает сосредоточенность лирического героя на себе, обращенность внутрь себя. Но данная часть все же характеризуется переосмыслением своей жизни лирическим героем, и сфера лирического Я не единственная в ней. Также важна в этой части категория родины, России. Эта сфера (в отличие от сферы лирического Я) лишена значения завершенности, финальности. Глаголы, относящиеся к сфере России, обращены в будущее: они стоят в 3 лице повелительного наклонения, которое по своей семантике направлено в будущее: пусть она позабудет, пусть она будет.
«Письмо Есенину» Е. Евтушенко
Взаимодействие жанров элегии и послания определяет художественное и эстетическое единство стихотворения Е. Евтушенко «Письмо Есенину» (1965) [Евтушенко 1997: 144]. Обращение к поэту «серебряного» века, еще недавно запрещенному, расширяет границы диалога, сдвигает временную рамку в прошлое. Это диалог не только с конкретным поэтом, но со сложившейся культурной традицией, однако во многом уже забытой и утраченной. В таком ретроспективном обращении лирического субъекта Евтушенко значимо проявляется исповедальный характер элегии. В то же время внимание к фигуре Есенина свидетельствует о поиске автором новых "творческих ориентиров" в середине 60-х годов, хотя он и остается последователем Пастернака и Маяковского (B.C. Баевский).
В обращении к Есенину как идеалу русского поэта, значимость которого освящена временем, лирический субъект ищет точку опоры в период смещения поэтических координат. Для лирического субъекта при этом важна сосредоточенность на своем "Я", на современной ситуации, и наиболее острые проблемы и чувствительные утраты современного мира проявляются в обращении к Есенину. Своеобразие адресата и временная дистанцированность позволяет лирическому субъекту комментировать самого себя как представителя целого слоя людей, времени.
Синтаксический уровень в стихотворении Евтушенко становится ведущим, организующим стиховое целое, при сознательной графической нивелировке автором границ между строфами. Конструктивную функцию в тексте выполняет противительный союз «но» как признак полемической направленности произведения. В тексте можно выделить восемь смысловых отрезков, построенных по принципу логической схемы: тезис, «но» антитезис и итоговый отрезок, части которого объединяет союз «и». Однако следует учитывать и условное членение текста на «строфы», организованные перекрестной рифмой (аВаВ, только вторая строфа аВ аВ ). Всего на основании рифмы выделяется двенадцать «строф».
Смысловые синтаксические отрезки и «строфы» стихотворения объединяются в две условные части в соответствии с ключевыми тематическими комплексами. В первую часть, которая объединена темой России и народной судьбы, входят шесть смысловых отрезков (1-6 «строфы»). Вторая часть, ключевой в которой является тема Поэзии и судьбы поэта, состоит из трех смысловых отрезков (7-12 «строфы»). Первая же и последняя «строфы» образуют кольцевую композицию, объединяют обе части. Первая строфа: «Поэты русские...»; последняя строфа: «Ирусская поэзия...».
Важнейшие тематические комплексы стихотворения (Россия и Поэзия) пронизаны мотивом утраты, тесно связаны с образом Есенина, развернуты в проекции на его творчество и судьбу. Адресат в тексте Евтушенко, в соответствии с традицией жанра послания, становится единицей лирического сюжета. Фигура Есенина появляется и непосредственно (словоформа "Есенин" употреблена пять раз), и в виде цитат, реминисценций из произведений, и опосредованно (в фактах биографии его, близких ему людей и поэтических соперников). В первой «строфе», в которой обозначена современная литературная среда, употреблена лексема "Есенин". Парадоксальность и противоречивость положения лирического субъекта выражена при помощи сочетания слов с разной стилистической окраской: "Поэты русские, друг друга мы браним. // Парнас российский дрязгами заселен". Схожая структура первых словосочетаний (инверсия) усиливает негативную окраску последующих слов (бранить, дрязги). Поэтическая жизнь предстает как коммунальная квартира, где постоянно ссорятся ее обитатели. Но все же в русской поэзии существует традиция, представителем которой является Есенин, и она не позволяет разрушиться поэтическому миру: "... но все мы чем-то связаны родным - / любой из нас хоть чуточку Есенин". Объединяющая сила традиции нашла отражение в смысловых изменениях кольцевой структуры композиции: от "поэты русские" (в контексте разъединенные субъекты) до "русская поэзия" (единая гармоничная общность). Во второй "строфе" в сопоставлении с творчеством и образом Есенина проявляются черты внутреннего мира лирического субъекта и страны, в которой он живет. Заявив о своей причастности традиции лирический субъект констатирует произошедшие изменения: "И я Есенин, но совсем иной". Используя традиционную есенинскую оппозицию (стальной/березовый), лирический субъект обозначает победу "железного" века в стране и в душе: "Я, как Россия, более стальной / и, как Россия, менее березовый". Как признак произошедших изменений важна в этой "строфе" метафора предопределенности творчества, отсутствия выбора в судьбе: "В колхозе от рожденья конь мой розовый". В этой "строфе" использование автором "заимствованных" у Есенина эпитетов, рисунок рифмы с чередованием мужских и дактилических окончаний (аВ аВ ), напевная интонация создают образ "есенинской" поэзии.
После первых двух "строф", являющихся своеобразной вводной частью, впервые появляется прямое обращение к поэту: "Есенин, милый, изменилась Русь". При этом элегическая двойственность характеризует внешние изменения на Руси (как стране), и внутренние, психологические - в Руси (как людях -метонимический перенос). Так в "строфе" задаются параллелизм и двойственность в объективном описании изменений и непосредственном лирическом переживании. Состояние субъекта здесь можно охарактеризовать как дисгармоничное, что вызвано внешней угрозой (опасно) и внутренним страхом (боюсь): "И говорить, что к лучшему, - боюсь, / ну а сказать, что к худшему, - опасно". И только обращение к Есенину позволяет лирическому субъекту быть действительно искренним, открыть свои сомнения и мысли, исповедаться как от себя, так и от страны.
Экзистенциальный вариант: «От окраины к центру» И. Бродского
Эстетические ценности предыдущих литературных эпох сформировали систему воззрений Бродского, которая прозвучала в унисон с мыслями его поколения. «И жизнь, и творчество, и личность поэта связаны в сознании современников прежде всего со свободой. Свобода во всех этих трех областях определялась довольно сложными переживаниями, которые во многом изменились за последующие годы, но основа осталась: необратимое движение в пространстве и во времени; стремление души вверх или к центру, к тому, что Бродский назвал «музыкой»; раскачивающийся ритм на соединении этих двух векторов; связанные во многом с этим ритмом ощущения пульсации жизни, упоения одиночеством и одновременно тревоги и беззащитности; тоска как свойство движения - элегическая тоска утрат и предчувствие музыки - та точка, в которой русская поэтическая традиция начала 19 в. соединилась с современным временем» [Рогинский 2000: 103].
Исследователи последовательно определяют философские основы поэтического мира Бродского: «Связь поэзии Бродского с его философским окружением двойственна: ... символы и философемы этой традиции у Бродского лишены своих исконных денотатов. Это - «план выражения». «План содержания» - чувство экзистенциального одиночества и стоическое противостояние обстоятельствам. В разрыве между двумя полюсами и возникает поэтический разряд» [Ранчин 1993: 11].
По мнению И.И. Плехановой, «обретению экзистенциальной свободы — вопреки сознанию собственной конечности - служит разработанная философия творчества, понимание природы поэзии как особой духовной миссии, осуществляемой прежде всего в создании формы, содержательной во всех своих элементах» [Плеханова 2001: 4]. Обозначив проблему «смерти» как одну из центральных категорий творчества Бродского («Смерть присутствует в сознании не только как тема, сколько как непрерывно ощущаемая координата бытия, как естественное измерение его глубины и значимости» [Плеханова 2201: 6]), исследователь определяет обусловленные ею черты художественного мира поэта. Это экзистенциальное одиночество: «Поэт открывает для себя и других временное измерение смерти, т.е. продолжает движение в неведомом... одиночество — цена и условие прорыва в неведомое: «но кто же с нами нашу смерть разделит?» [Плеханова 2001: 8]; «лирическое отчуждение»: « Это отчужденность грандиозного эпического темперамента, созерцающего в себе ежеминутную драму пресуществления жизни и смерти... эпическая отчужденность запредельного лиризма не равна знакомой эпической объективности, хотя бы потому, что голос поэта «подбирает ключи» и нащупывает вход в пределы иного мира, а дух переживает это пограничное состояние. Этот лиризм есть особая форма диалога - "перевод бесконечного в конечное"» [Плеханова 2001: 16]. Понимание смерти как «экзистенциальной неизбежности» ведет «к внеэмоциональной модели отчуждения - к приглушенности чувств, внешней бесстрастности и нейтральности тона» [Плеханова 2001: 11].
Жанровая принадлежность стихотворения И.Бродского «От окраины к центру» [Бродский 1992: 217] проявляется достаточно определенно. Об элегичности «От окраины к центру» имеются замечания А. Ранчина и И. Кукулина. Одним из смысловых центров стихотворения становится Санкт-Петербург, в тексте он не просто географическая координата, но и некая субстанция «протяженности» во времени и определенный знак - «отношение», предполагающий высокую степень субъективности в его образе.
Стихотворение Бродского состоит из 21 строфы, которые очевидно группируются в четыре части. Каждая из частей является «ступенью» элегического сюжета, основанного на мотивах встречи и утраты.
Первая часть стихотворения (1-5 строфы) обращена в прошлое. В ней реконструируются время и город юности в сознании лирического «Я».
Во второй части (6-10 строфы) усиливается намеченное в первой части движение от «реального» визуального ряда к «субъективному» потоку сознания. Центральной категорией части становится «смерть» в ее неизбежности и неотвратимости. Последовательно изменяется форма выражения лирического субъекта. Преобладает употребление местоимения «Мы» над местоимением «Я», тем самым «Я» становится частью одного поколения (в силу акцента на возрасте).
В следующей третьей части (11-15 строфы) доминирует ощущение утраты юности при встрече с «новым поколением», «новым городом». Эта часть воплощает сферу обобщенного «Я», субъекта с признаками неопределенности, где жестко не установлены границы между-реальностью и нереальностью.
Последняя четвертая часть состоит из 6 строф (16-21). В ней снова доминирует лирическое «Я», его чувства и мысли получают непосредственное выражение.
Логическим, смысловым и интонационным «пиком» здесь становится асимметричная двадцать первая (последняя) строфа. В ней «итог» не только этой части, но и всего стихотворения.
Такая членимость, многособытийность текста, являясь особенностью поэтики Бродского, фиксирует разные стадии движения, а также изменения в сознании лирического субъекта, в его отношениях с топосом Петербурга как частью своей памяти, как метафизическим маршрутом жизни своей и другого -обобщенного человека.