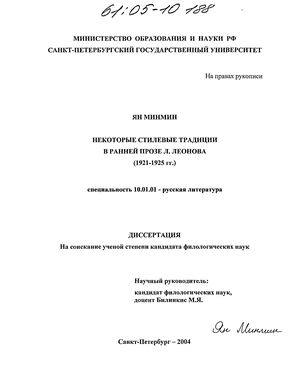Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Модернистские элементы в поэтике ранней прозы Л. Леонова 31
1.1. Художественная философия и особенности поэтики символизма 33
1.2. Эволюция символистской поэтики в ранней прозе Л. Леонова 43
1.3. Поэтика быта в ранней прозе Л. Леонова 77
Глава 2. Влияние стилевых традиций Достоевского на раннюю прозу Л. Леонова 89
2.1. Карнавализация как одна из стилевых доминант ранней прозы Л. Леонова 89
2.1.1. Понятие карнавализации как жанрово-стилевой традиции 89
2.1.2. Рассказ «Бурыга» как мениппея 95
2.2. Роль литературных реминисценций в создании полифонического текста в «Записках Ковякина» 109
Заключение 126
Библиография 133
- Художественная философия и особенности поэтики символизма
- Эволюция символистской поэтики в ранней прозе Л. Леонова
- Карнавализация как одна из стилевых доминант ранней прозы Л. Леонова
- Понятие карнавализации как жанрово-стилевой традиции
Введение к работе
Творческая судьба Леонида Максимовича Леонова в рамках XX века представляет особый научный интерес. Среди крупных русских писателей он - единственный, кто воплотил свойственные этому веку формы художественного сознания, начиная с дореволюционных времен (первая его публикация - 1915 г.) и заканчивая рубежом столетий (последняя публикация - роман «Пирамида» - 1994 г.). Сквозь его творчество просматриваются глобальные, катастрофические события и деформации, свойственные русской истории и литературе. С другой стороны, в творчестве Леонова существует мощный историко-культурный и мифологический пласт, защищающий его по-настоящему талантливые тексты от девальвации.
Образ Леонида Леонова в XX веке многолик и противоречив. Неизвестный поэт-символист, автор политических агиток, мастер «орнаментальной прозы», попутчик, классик социалистического реализма, «золотой фонд» советской литературы, писатель-философ, ориентирующийся на классические традиции, последний русский классик. Так же разнообразны и спектры трактовок его творчества. Но все писавшие о Леонове были всегда внимательны к поэтике писателя, отличающейся неординарностью и хмноговариантностью даже в рамках чрезвычайно немного предоставлявших простору канонов социалистического реализма.
В леоноведении, которое в советский период было под сильным давлением идеологических догматов, и естественно, в большей степени исследовались произведения зрелого периода творчества писателя, написанные в соответствии с канонами социалистического реализма, -раннему периоду творчества писателя уделялось неизмеримо меньше внимания, тем более что его идеологические установки этого периода оценивались не более чем попутничество.
Однако среди прозаических произведений Леонова, написанных в 1921-1925-е годы, особенно в чрезвычайно короткий период 1922 года, когда писатель датирует написанное им буквально по месяцам, некоторые представляют интерес не только как начальный период творчества большого художества, как «пробы пера», но прежде всего как вполне зрелые, мастерски написанные вещи, отмеченные оригинальными стилевыми решениями.
Дебют Леонова-прозаика критикой 20-х годов был встречен в целом почти восторженно: «Большое, свежее и разностороннее дарование» (Ю. Данилин); «Одаренность его такова, что он уже сейчас становится в ряды настоящих мастеров художественного слова» (А. Воронский); «Безусловно талантливый писатель» (Н. Смирнов); «удачливый и богатый художник» (Авг. Рашевская)l. Одобрение вызывали прежде всего стилистические способности юного прозаика. Так, критик В. Львов-Рогачевский писал: «Совсем недавно выступил еще один совсем юный художник: это — Леонов, напечатавший в первом номере "Шиповника" свой лесной, смолистый, поэтичный рассказ "Бурыга"... Автору, пришедшему к нам с Севера, от тех лесов, где мечтают о "Белом ските", всего 22 года. Не у Даля, не из книг, а у живых источников собрал он сокровища живой поэтической речи. Эта живая речь давно уже уходит из наших городов и живет на севере диком, где сохранились наши сказки и былины. Поэт, влюбленный в природу и живую речь, чувствуется в каждом слове»2.
Однако поскольку на фоне свойственного 20-м годам «взрывного» разнообразия стилевых манер стилистическое экспериментаторство молодого писателя было скорее нормой, то критики, как правило, отмечая достоинства свежего языка Леонова, главным образом сосредотачивались не столько на его поэтике, сколько на выражаемом последней еще пока
Цит. по: Михайлов О. Мироздание по Леониду Леонову. Личность и творчество. М., 1987. С.40.
Львов-Рогачевский В. Революция и русская литератураУ/Современник. 1923. Ки. II. С.82.
оформляющемся художественном мировоззрении писателя, его идеологических установках. Так, Н. Смирнов, отмечая стилистическое своеобразие писателя, подчеркивал неясность его мировоззренческих ориентиров: «между вифлеемской звездой прошлого и прекрасным сполохом настоящего»3 . Восхищаясь свежестью и чистотой таланта Леонова, Львов-Рогачевский выражал тревогу, думая о будущем писателя. Его смущали сказочность и фантастичность леоновских сюжетов. Когда в апреле 1923 года на заседании литературного общества «Никитинские субботники» Леонов прочел «Петушихинский пролом», Львов-Рогачевский так охарактеризовал свое впечатление: «Об этом петушихинском проломе рассказано с изумительным мастерством. Так и пахнуло древней, дремучей Русью с ее былинными и житийными людьми, с ее дивным, узорно изукрашенным языком. С большой объективностью вскользь очерчены фигуры "большаков", игумена, монахов, бывшего конокрада. Без психологических изысканий автор дал почувствовать чисто внешними штрихами ту бурю, которая пронеслась над доисторическими, стихийными людьми...
Куда он пойдет и с кем? Преодолеет ли он уклон к мистике? Поймет ли, что надо искать не сказочную радость, которая покоилась будто бы в свинцовом гробу, а живую, творческую, подлинную радость, которая будет расти в Новой России, уходящей от дебрей, восставшей из гроба» .
Ранние рассказы и повести Леонова по причине отсутствия в них отчетливо выраженных идеологических представлений заставляли ортодоксально настроенную советскую критику обвинять писателя в безверии и пессимизме, в незнании марксизма и невнимании к пролетариату. Для таких критиков оказался неприемлемым и подход молодого Леонова к изображению личности, его интерес к внутреннему миру человека, переживающего переломное историческое время. Еще
3 Смирнов Н. Литература и жизнь. Леонид Леонов//Известия. 1924. 17 авг. Львов-Рогачевский В. Указ. соч. С.82.
более негативно оценивалось то, что ориентируется при этом Леонов на Достоевского, который большинством советских критиков считался крайне реакционным. Так, по мнению А. Луначарского, тот, кто учится у Достоевского, «не может явиться t пособником строительства, он -выразитель отсталой, разлагающейся среды»5. Такое отношение к учебе у Достоевского обусловило негативную оценку «Конца мелкого человека» у критика Л. Войтоновского, который отмечал, что революция поставила перед Леонидом Леоновым «терзающий вопрос в смысле крови и жертв, о пределах дозволенного. Этим вопросом Леонид Леонов целиком погружается в вязкую тину идеологической достоевщины»6.
Менее ортодоксальные критики видели в Леонове попутчика. Так, А. Воронский, стремясь оправдать Леонова, писал: «Многие считают Леонова мистиком. Это едва ли так. Художественное нутро у Леонова совершенно языческое, земное... В основе творчество Леонова реалистично и питается языческой любовью к жизни. Леонов любит жизнь, как она есть, в ее данности...»7.
Несмотря на значительное количество критических отзывов на произведения Леонова 20-х годов, как одобрительных, так и негативных, все они, за исключением лаконичных оценок формалистов (в орбиту которых вошли стилистические эксперименты Леонова в связи с ведущейся ими полемикой с другими литературоведческими школами, в частности, с конструктивистами), были довольно поверхностны, в них, по сути, отсутствовала литературоведческая составляющая.
Анализируя эволюцию сказовой традиции в литературе 1920-х г., Ю. Н. Тынянов предлагает различать две стилистически преемственные линии развития сказа: старшую линию юмористического сказа, идущую от Лескова и проявленную в рассказах М. Зощенко и М. Волкова, и младшую
5 Луначарский А.В. Собрание сочинений. Литературоведение. Критика. Эстетика: В 8 т.
М., 1963.Т.1.С.193.
6 Войтоновский Л. Леонид Леонов//Звезда. 1926. № 6. С.207.
7 Воронский А. Литературные силуэты. Леонид Леонов/ЛСрасная новь. 1924..№ 3.
С.303.
линию, обнаруживаемую в орнаментальном «плетении словес» в повестях и романах А. М. Ремизова («Пруд», «Часы», «Неуемный бубен», «Крестовые сестры», «Канава»). Младшую линию в эволюции сказовой манеры Тынянов называет «высоким, лирическим, почти стиховым»8 сказом, относя к ней и раннюю прозу Л. Леонова («Деревянная королева», «Петушихинский пролом», «Туатамур»): «Лирический сказовик - Леонов, молодой писатель с очень свежим языком. Неудачна книжка Леонова "Деревянная королева" с душной комнатной фантастикой, но и эти рассказы (в особенности «Валина кукла») выделяются своей словесной чистотой. "Петушихинский пролом" - почти поэма, пейзажи ее могли бы встретиться и в стихах; деревня Леонова - тоже деревня стиховая, пряничная, из "духовных стихов" (через Ремизова). Третья книга Леонова - "Туатамур" - совершенно лирическая поэма. Экзотический сказ с восточными образами, с фразами из Корана - идет от лица полководца Чингиз-хана. Вся вещь лексически приподнята, инструментирована "по-татарски". Леонов вводит целые татарские фразы, и эта татарская заумь окрашивает весь рассказ, сдвигая русскую речь в экзотику, делая ее персидским ковром. Здесь - пределы прозы. Еще немного - и она станет стихом. Стиховое начало в прозе - явление для русской прозы традиционное. Теперь сам стих необычайно усложняется, сам бьется в тупике; и прозе и стиху предстоит, по всей вероятности, разграничиться окончательно, - но на склоне течений появляются иногда неожиданно яркие вещи - может быть, Леонов будет таким "бабьим летом" стиховой прозы» 9 . Характеристика, данная Тыняновым сказу Л. Леонова, демонстрирует настороженное восприятие сказовых опытов Леонова представителем формальной школы. С другой стороны, трудно не удивиться редкой проницательности Тынянова в его точных прогнозах
Тынянов Ю.Н. Литературное сегодня//Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 160. 9 Там же. С.161.
насчет дальнейшего становления поэтических тенденций в зрелой леоновской прозе.
Тынянов выделяет некую промежуточность, пограничность леоновской прозы; его оценка указывает на переломный и периферийный характер ранней леоновской прозы, на причастность ее к утопическому проекту и одновременно на присутствие в ней консервативно-реставрационных тенденций.
Формальный метод и его лидеры улавливали в ранней прозе Леонова черты буферного механизма, осуществляющего радикальный разрыв между двумя литературными системами и одновременно производящий их стяжение и корреляцию. В заметках «О современной русской прозе» В. Б. Шкловский, встревожено отмечая перспективы «литературной реставрации» и риторически находя собственную вину в том, что он «научил делать макеты романов», на примере романа Леонова «Барсуки» подчеркивает, что «работа его реставрационная» . Что Леонов «реставрирует», так и остается «за кадром» язвительной критики Шкловского. Важно другое: литературную традицию Леонов «реставрирует» не по тем правилам, что предписаны формальным методом, он не деавтоматизирует и не делает современным старый материал, а наоборот, утрирует его анахронизмы, тривиальность, избитость. Поэтому Шкловский называет вещь Леонова «вредной», мотивируя это тем, что «старая схема: хороший и плохой брат или удачливый и неудачливый - оказалась неподходящей для материала -параллели между крестьянином, уходящим из деревни в торговлю и крестьянином, идущим на завод»11.
Причины неприятия формалистами ранней прозы Леонова кроются
еще и в том, что его сказово-притчевая манера, богатая свободными
ассоциациями, аллюзиями, парафразами, реминисценциями,
10 Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи - воспоминания - эссе (1914-1933). М.,
1990.С.289.
11 Там же. С.290.
закавыченными или прямыми цитатами, паронимиями,
интертекстуальными перекличками далеко не всегда соответствует формалистской модели литературной эволюции.
Провозглашаемые формалистами принципы литературной эволюции, основанные на том, что «наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику» 12, а «вся суть новой конструкции может быть в новом использовании старых приемов, в их новом конструктивном значении»13, практически игнорировали наличие конститутивных хронологических пауз (Шкловский декларативно отрицал «хронологические промежутки»14). Своеобычие же сказовой техники в «Конце мелкого человека» или в «Записях А. П. Ковякина» Леонова проявляется в отходе от намеченных Б. М. Эйхенбаумом базовых признаков сказового повествования. В прозе Леонова сознательно избегается доминирование приема над материалом: приемы поданы как шаблонные схемы, а материал приобретает витальный и многомерный характер (отсюда тезис формалистов о «свежести языка» Леонова).
Сказ Леонова ближе к пропагандируемым конструктивистами, К. Зелинским и И. Сельвинским, принципам насыщения старой, отжившей конструкции новыми, инородными и революционными смыслами. Сам Леонов в своем выступлении на Первом Всесоюзном съезде советских писателей отнюдь не только уверял в своей идеологической добропорядочности, но и определял эти принципы насыщения: «Мы пришли в гражданскую войну (я беру на себя смелость говорить от имени некоторой части моего литературного поколения) с кое-какой закалкой старой культуры. Большинство из нас проходило первую литературную учебу во фронтовых газетах. Это определило нашу судьбу. Старое культурное наследие и те чрезвычайно поразительные вещи, свидетелями и участниками которых мы становились, были как бы двумя
12 Там же. С. 121.
13 Тынянов Ю.Н. Указ. соч. С.259.
14 Шкловский В.Б. Указ. соч. С. 120.
электродами»15. С точки зрения конструктивистов прирост пролетарских смыслов намного обгоняет развитие косных литературных конструкций . С «активным госпланированием» 17 литературы, проповедуемым конструктивистами и наблюдаемым у Леонова (в произведении важен темп, а не формальное мастерство, поэтому следует оставлять лишь старую, выкинутую на свалку истории форму, привнося в нее инновационное содержание), активно полемизировал Шкловский.
Конструктивистские факторы, определяющие сказовую поэтику Леонова - абсолютная инерция старой формы, пренебрежение ей, и предельная актуализация содержания, тем самым эту форму деавтоматизирующая, - видимо, заставляют писателя прибегать к неоднозначным стратегиям диалога с литературной традицией. Для современников, в частности для Шкловского, подобные стратегии представлялись откровенным плагиатом или имитированием клише и «общих мест» русской классики («Он (Леонов - Я. М.) хорошо и долго имитировал Достоевского, так хорошо, что это вызывало сомнения в его даровитости»18).
В 30-е годы молодое советское литературоведение предпринимает первые попытки осмыслить литературные процессы 30-х годов, в том числе и раннюю прозу Леонова, однако сколько-нибудь значительных успехов, по крайней мере, в отношении интерпретаций ранней прозы Леонова, вряд ли можно отметить. Отмечались очевидные связи молодого писателя с классиками, которые при зыбкости его мировоззрения в период попутничества оценивались как положительный момент, позволившие писателю после периода экспериментаторства найти свой стиль. Для
15 Цит. по: Нусинов И.М. Леонид Леонов. Очерк творчества. М., 1935. С.4.
16 По замечанию А.Гольдштейна, К.Зелинский говорил об «извечно присущей человеку
организационно-технической потребности в источении, дематериализации
вещественных производственных средств за счет увеличения их функциональной
нагрузки». См.: Гольдщтейн А. Расставание с Нарциссом: Опыты поминальной
Риторики. Очерки о русской литературе XX в. М., 1997. С.94.
17 Шкловский В.Б. Указ. соч. С.298.
18 Там же.
ученых-филологов советского периода «традиционность» Леонова, цитатное воспроизведение им приемов прозы критического реализма или натуральной школы, служила знаком прежде всего идеологической лояльности автора, что и обусловило обращение леоноведения к исследованию ранних произведений ставшего советским классиком писателя (казалось бы, совершенно забытых, отброшенных как первые, не заслуживающие научного внимания «пробы пера», причем в немалой степени с подачи самого Леонова), в 70-годы в рамках академического подхода советского литературоведения. Обращение ученых к раннему творчеству Л. Леонова в этот период было в немалой степени, видимо, стимулировано и 70- и 75-летними юбилеями писателя-классика.
Первые научные исследования ранних произведений Л. Леонова в советском леоноведении были посвящены изучению мастерства психологического анализа, однако в них сколько-нибудь глубокого освещения используемых писателем приемов создания внутренне противоречивых, неодномерных человеческих характеров и состояний, практически не было - целью этих исследований было скорее утверждение представления, что наличие психологического анализа в ранних произведениях писателя - одно из их достоинств, свидетельствующих об оригинальности молодого Леонова, обратившегося к изображению сложных состояний внутренней жизни личности и народной массы в тот период развития нашей литературы, когда психологизм отнюдь не приветствовался, когда опора на традиции, например, Достоевского, считалась проявлением отсталого, консервативного сознания. Так, в диссертационном исследовании П. П. Филиппова проводится мысль, что психологическая составляющая в образах героев ранних произведений Леонова обусловлена стремлением, избегая упрощенных решений в создании образа, идти «от внесоциального к социальному, растворенному в психологическом, к социальному психологизму, внутренняя диалектика которых оказывалась в прямой зависимости от понимания писателем
социальных явлений, "алгебры" общественных отношений» . В рамках указанного понимания сущности и назначения психологизма, Филиппов отмечает также некоторые стилистические особенности, служащие психологической обрисовке характеров и состояний в ранней прозе Леонова. Так, например, введение фантастического в «Валиной кукле» призвано «напомнить о жизни человеческой, где тихий и добрый гусар-человек обречен на беду и гибель, а наглый "ужасный тип" процветает» , подбор же сравнений для характеристики душевных качеств Егорушки и его жены, простых и чистых людей, подчеркивает их гармоническую слитность с суровой северной природой21.
По мнению П. П. Филиппова, первые опыты психологического изображения, проделанные Леоновым в рассказах (из которых анализируются «Валина кукла», «Деревянная королева», «Гибель Егорушки», «Туатамур»), позволили ему прийти к повестям-триптиху о «великом проломе» в человеческой душе, в который включены «Петушихинский пролом», «Конец мелкого человека», «Записи Ковякина». Согласно трактовке Филиппова, видящего в указанных повестях триптих, их объединяет то, что в столкновении с новью леоновский герой (петушихинские ли крестьяне, интеллигенты ли, провинциальные ли мещане - равно «мелкие люди») терпят поражение, причины которого определялись социально-психологическими особенностями их личностей. По мнению исследователя, писатель, показывая «преимущественно уходящее, сопротивляющееся нови, давал ему право на объяснение, которое и обнаружило со всей очевидностью "мелкость" старого, благодаря чему победа нови была обеспечена не только силой, но и неизбежностью» .
Филиппов П. П. Мастерство Леонида Леонова. Искусство психологического анализа в ранней прозе. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Ташкент, 1971. С.7.
20 Там же. С.9.
21 Там же. СЮ.
Там же.
Анализируя последние две повести триптиха, Филиппов обращает внимание на диалогическую связь леоновских текстов с произведениями Достоевского. Правда, эта диалогическая связь отмечается не в образе главного героя, а лишь только при обрисовке персонажей, собирающихся в елковском кабинете, которые «как бы намеренно "играют по Достоевскому", споря, исповедуясь, страдая, пользуясь аргументами, заимствованными у героев Достоевского. Но тем заметнее их ничтожность и устанавливаемая автором преемственность, ведущая от "бунтиков", "экспонатов" к бунту индивидуалистической личности» .
Обращение к Достоевскому, по мнению Филиппова, позволяет Леонову с большей психологической точностью обрисовать образ Ковякина. Некоторые размышления Ковякина напоминают размышления «маленького человека» Достоевского - Макара Девушкина, однако эти отсылки к Достоевскому призваны обозначить, напротив, отличие леоновского героя от «маленького человека» русской классики в интерпретации Достоевского (вернее, правда, будет сказать в трактовке официального советского литературоведения): «Униженный и оскорбленный "маленький человек" не решался говорить вслух о дремлющих в нем качествах, не считал, что обладал какими-то достоинствами. "Мелкий" Ковякин претендует на некое отличие, он уверен в своей значительности ценности, но жизнь опровергает его, определяя истинную сущность этого индивидуума»24.
Филиппов также обращает внимание на то, что средством психологической характеристики героя в «Записях Ковякина» становится «язык персонажа с характерными только для него приемами, оборотами "логикой фразы", выполняющий роль дополнительной психологической координаты, характеризующей личные качества Ковякина»25.
Там же. Там же. С. 17. Там же.
Несмотря на поверхностность анализа, избыточный и неоправданный социологизм, это первое научное исследование ранних произведений Леонова в советском леоноведении наметило главные направления в исследовании стилевых особенностей леоновской ранней прозы, а именно: роль фантастики, связи с текстами Достоевского, образ рассказчика, и соответственно, и внимание к сказовым элементам.
Особенно активно в советском леоноведении в 70-е годы начинает разрабатываться тема традиций Достоевского в ранней прозе Леонова. Следует отметить, что у этих исследований уже была определенная база, так как использование Леоновым традиций Достоевского уже изучалось, но только на материале более поздних, больших романов писателя26. В 70-е годы проблема использования ранним Леоновым традиций Достоевского, в том числе и стилевых, наиболее глубоко исследуется в работах Г. Г. Исаева27.
Основываясь на бахтинском анализе поэтики Достоевского, согласно которому комические, фарсовые, буффонадные элементы входят у великого русского писателя в самую сердцевину трагического и смехом в редуцированной форме пронизано все его творчество . Г. Г. Исаев исходит из того, что Леонов наследует у Достоевского именно этот принцип соединения комического и трагического во всех компонентах своих произведений: композиции, структуре образа, словесном стиле.
См., напр.: Ершов Л.Ф. Русский советский роман. Национальные традиции и новаторство. Л.,1967; Ковалев В.А. Реализм Леонова. Л.,1965; Грознова Н.А. Леонов и Достоевский. В сб.: Творчество Леонида Леонова. Л., 1969; Старикова Е. Леонид Леонов. Очерк творчества. М.,1972; Тюхова Е.В. Концепция человека в романах Достоевского и ЛеоноваУ/Болылой мир. Статьи о творчестве Л.Леонова: Сборник. М., 1972.
27 См.: Исаев Г.Г. К вопросу о традициях Достоевского в повести Леонида Леонова «Конец мелкого человека»/ЛТисатель и литературный процесс. Душанбе, 1974; А.М.Горький о значении традиции Достоевского в творчестве Л.Леонова/ЛЗопросы горьковедения. Горький, 1974; Образ двойника в «Братьях Карамазовых и «Конце мелкого человека» Леонов//Русская литература XIX века. Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1974; Проблема стилевой традиции Достоевского в прозе Леонида Леонова 1920-х годов. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Горький, 1975. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С.217.
Из ранних произведений Леонова, в которых наиболее явственны стилевые традиции Достоевского, Г. Г. Исаев рассматривает «Конец мелкого человека» и «Записи Ковякина», которые исследователем оцениваются как стилизации.
Так, по мнению Г. Г. Исаева «Конец мелкого человека», восходя к тем социально-психологическим романам Достоевского, структура которых строится на соединении комического и трагического, является жанровой стилизацией, где Леонов использует пока только некоторые элементы произведений Достоевского.
Однако хотя исследователь и декларирует, что у Леонова, вслед за Достоевским, комическое и трагическое не только не умаляли, но и усиливали друг друга, однако основное внимание в своем исследовании он обращает на наследование Леоновым традиций именно Достоевского-сатирика, потому что, по его мнению, «памфлетно-сатирический стиль Достоевского как нельзя лучше соответствовал выполнению художественного задания повести Леонова: переоценке старых моральных ценностей ("экзамен" человека) и сатирическому изображению
29 /—v
интеллигенции, оставшейся в стороне от революции» . Очевидно, что довлеющие над исследователем идеологические штампы не позволяли ему более широко и более глубоко осмыслить идейное содержание леоновской повести и увидеть не только памфлетно-сатирическое начало, общее с Достоевским, но и общий с Достоевским взгляд на героя как на незавершенного.
Причем Г. Г. Исаев отмечает, что у Леонова не полемика с идеями Достоевского, хотя и выражено несогласие с ними (правда, не уточняется, в чем, собственно, несогласие состоит), не пародирование Достоевского (при этом отмечается, что элементы пародии все-таки есть), но именно стилизация, поскольку Леонов, по мнению ученого, обыгрывает стилевые
29 Исаев Г.Г. Проблема стилевой традиции Достоевского в прозе Леонида Леонова 1920-х годов. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Горький, 1975. С.5.
открытия Достоевского в целях «постановки на повестку дня волнующих проблем современности» . Такими обыгранными Леоновым стилевыми открытиями Достоевского Исаев считает соединение Достоевским возвышенного с гротескным, благодаря чему образы и явления обыденной действительности доводились до уровня фантастического, что проявлялось в явлении двойничества в произведениях русского писателя: «Эта особенность стиля писателя (Достоевского) проявилась в создании антиномичных героев и ситуаций; по принципу полярности почти каждый герой и ситуация имеют своих пародийных двойников. Разработка темы идет, таким образом, в двух планах: абсолютно-серьезном (план трагедии) и ироническом (план пародии)»31.
Как нам представляется, это верное наблюдение относительно поэтики Достоевского находится в противоречии с утверждением, что Леонов заимствует стилевые открытия Достоевского, поскольку в проделанный Г. Г. Исаевым анализе «Конца мелкого человека», понимаемой как стилизация, не выделяется стилизация собственно двойничества, проходящего как основной стилистический принцип создания образов и ситуаций, за исключением пары Лихарев-ферт, стилизованной под пару Иван Карамазов-черт. В таком случае, как думается, следует говорить не о стилизации под Достоевского, а только об использовании реминисценций из Достоевского, тем более, что исследователь указывает на такие параллели в подтексте леоновской повести, как Титус - вариант образа Ипполита Терентьева, Елков - образа Лебедева.
Использование Леоновым традиций Достоевского в ранних повестях изучалось в рамках рассмотрения эволюции жанра повести в творчестве Леонова Н. В. Шенцевой3 , которая, несмотря на приверженность
30 Там же. Сб.
31 Там же. С.8.
Шенцева Н.В. Развитие жанра повести в творчестве Л. Леонова (20-60-е годы). Автореф. дис. иасоиск. учен. степ. канд. филбл. наук. М., 1977.
идеологическим догмам в толковании образа профессора Лихарева в «Конце .мелкого человека», по причине чего ее интерпретация придерживается точки зрения о том, что цель Леонова - развенчание не понявшей революции интеллигенции, однако обращает внимание на то, что Леонов изображает тем не менее рост самосознания Лихарева, поэтому его герой, в частности, подобно Раскольникову и Ивану Карамазову у Достоевского, устраивает себе «самосуд». Шенцева, по сути дела, высказывает мнение, что в образе профессора Лихарева Леонов, подобно Достоевскому, показывает незавершенного человека: «Писателю было важно наметить перспективу развития героя или возможный вариант его будущего».
Н. В. Шенцева обращает также внимание на то, что при несомненно преобладающем влиянии на молодого Леонова Достоевского, для раннего творчества писателя огромное значение имела и учеба у Горького. Так, исследовательница считает, что в леоновской постановке проблемы интеллигенции сыграл большую роль опыт разработки этой темы Горьким в пьесах «Дачники», «Дети солнца», «Варвары».
По справедливому мнению Н. В. Шенцевой, в целом при работе над «Концом мелкого человека» Леонов более всего опирался на изображение «подпольного человека» Достоевского. Она подчеркивает, что молодого писателя не остановил тот факт, что именно «Записки из подполья» получили негативную оценку русской критики: «...писатель сумел разглядеть непреходящее значение типа, выведенного гением Достоевского, и глубоко осознать социальную опасность и зло, которые несет с собой подпольный человек в новых исторических условиях»3 .
Н. В. Шенцева первой обращает внимание на использование Леоновым при изображении Елкова и его «экземпляров» реминисценций из фантастического рассказа Достоевского «Бобок»: «Немаловажное место в главе занимает образ доктора Елкова и его "экземпляров", которые под
33 Там же. СЮ.
маской страдальцев скрывают свою дикую злобу на революцию, нарушившую их обывательское благополучие. Если Достоевский в страдании своего героя видит протест против насилия классового общества, то Леонов, творящий в эпоху торжества революции, создавшей условия для освобождения личности, подвергает проверке социальную функцию страдания и развенчивает его. Последовательно и убедительно молодой писатель показывает, что подполью приходит конец, оно испытывает агонию и в свой последний час живет по закону: "Все теперь позволено! ". Тот настрой, который охватил подполье, по созвучию напоминает исключительную ситуацию, созданную Достоевским в "фантастическом рассказе" "Бобок" (1873), когда мертвецы (их жизнь в могиле продолжается некоторое время до полного засыпания) решают использовать последнюю жизнь сознания, взяв на вооружение лозунг: "Ничего не стыдиться!"»34.
Менее удачен, как нам представляется, у этой исследовательницы анализ повести «Записи Ковякина», где образ главного героя ею интерпретируется как выражение идеологии захолустного мещанства, враждебно относящегося к новой жизни.
Помимо «Конца мелкого человека» и «Записей Ковякина», Шенцева анализирует еще два произведения из ранней прозы Леонова, причисляя к повестям «Туатамур» и «Петушихинский пролом».
«Туатамур» определяется ею как сказ, который создавался Леоновым при несомненном знакомстве с летописными источниками и этнографическим материалом. Шенцева сопоставляет текст леоновской повести с текстом «Повести о битве на реке Калке» (Новгородская летопись). Создать обстановку времени Чингис-хана, как доказывает исследовательница, писателю помогают не только исторические источники, но также широко использованный в повести этнографически-бытовой материал, который «дорисовывает» создаваемую картину, делает
34 Там же. С. 12.
стиль сжатым, плотным. Бытовые детали, применяемые в метафорических сравнениях, часто несут не только определенную информацию, но и становятся основой образа.
По мнению Шенцевой, «Петушихинский пролом» представляет новый этап в развитии раннего творчества писателя, который перешел от стилизаций к созданию сложных, неоднозначных характеров как отдельных людей, так и народной массы на современном материале: «Образы, созданные писателем (Талаган, Мельхиседек), в совокупности отражают сложный характер и его отношение к событиям, к "пролому" современности. Избранная писателем форма сказа помогает показать революцию через восприятие массы, в ее собственной оценке. Роль рассказчика выполняет старожил-петушихинец, человек неглупый, зоркий, тонко подмечающий, патриархальный и религиозный. Отсюда два плана повести: реальный и фантастический»35.
По мнению Шенцевой, композиция повести основана на противопоставлении двух миров, с чем, конечно, можно было бы согласиться, если бы имелись в виду миры реальный и фантастический, или мир жестокой действительности и мечты, но исследовательница имеет в виду другие миры: старый и новый, революционный.
Такое понимание повести ведет ее к выделению двух кульминационных моментов в произведении: избиение Талагана на ярмарочной площади и вскрытие мощей Пафнутия, которые соответственно являются центральными моментами в изображении темного старого мира и нового, светлого. Исследовательница в угоду идеологическим догмам «переписывает и исправляет» леоновскую повесть. Есть ли основания говорить о том, что вскрытие мощей - это кульминация светлого начала, если после этого не только кончает жизнь самоубийством представитель старого Мельхиседек, но и зверски, по-
Там же. С.8.
петушихински, избивает собаку, своего единственного друга, Талаган, ставший большевиком, т.е. представитель мира нового, светлого?
Правильно истолковав образ-символ дождя в конце сцены избиения, Шенцева безо всякой опоры на леоновский текст домысливает его в духе идеологических советских клише: «Параллельно мотиву дикой разнузданности темного начала и бессилия доброты (интересно, что светлую сторону в сцене представляет "ребячье беловолосое" -"голубоглазый" поводыренок и "солнечный" мальчик Алеша) получает развитие мотив скорого очистительного дождя. Но писатель подводит к мысли о необходимости грозы "людской"»36.
Появившиеся в 70-е годы в советском леоноведении научные исследования, посвященные ранней прозе Леонова, демонстрируют, что, несмотря даже на одинаковые идеологические установки исследователей, стремившихся доказать, порой даже вопреки леоновским текстам, что ранний Леонов в своих первых прозаических опытах демонстрирует отнюдь не растерянность попутчика перед революционной новью, но привержен этому новому, а выбор в качестве тем реакций старого мира на революционную действительность имеет целью прежде всего сатирическое обличение этого старого, подтверждающего неизбежность и необходимость разрушившей его революционной бури, - даже такое идеологическое единство советских филологов не привело их к более или менее близким интерпретациям идейно-художественного содержания ранней прозы писателя. Единственное, в чем согласны были исследователи, - это то, что ранний Леонов активно использует традиции русской классики, однако при этом по-разному трактуется не только смысл отдельных произведений, но и факт обращения писателя к формам искусства прошлого. Одни считают, что ранние произведения позволяют судить о тесной связи Леонова ,с жизнью, а его обращение к народной сказке, к библейским сюжетам, к принципам Достоевского было
36 Там же. С. 10.
закономерным выражением потребностей новой литература, которая не могла обойтись без опыта прошлого. Другие же, наоборот, в первых художественных опытах писателя, идя вслед за ортодоксальной рапповской критикой 20-х годов, продолжали видеть в ранней прозе писателя лишь проявление растерянности перед современностью, простое повторение форм искусства предреволюционного десятилетия, доказательство эпигонства.
Советских исследователей продолжало смущать то обстоятельство, что Леонов не сразу обратился к прямому изображению своего времени, и именно поэтому, в частности, при обращении к раннему периоду писателя сосредотачивались главным образом на «Конце мелкого человека» и «Записях Ковякина», за редкими исключениями игнорируя более ранние произведения, с современностью непосредственно не связанные.
Становление советской культурологии в 80-е годы обусловило возрастание интереса к проблемам культурной преемственности, к диалогу культур различных эпох, к выделению вековечных, непреходящих культурных тем, что, в свою очередь, обратило и филологов-леоноведов к исследованию вопросов диалога культур в творчестве Леонова, в том числе и в раннем, предоставляющем для подобного изучения богатые возможности. Такой культурологический подход позволил, например, Э. Ф. Кондюриной установить, что все ранние произведения писателя объединены единой идейно-художественной мыслью, а именно: военачальник Чингис-хана Туатамур и библейский Ной с сыновьями, дед Егор из деренами Старое Лнкеево, рассказывающий сказку о лесном «окаяшке» Бурыге, и профессор палеонтологии Лихарев, помор Егорушка и монах Агапнй, приказчик Ковякии и безымянный летописец Петушихина - «все эти герои, представляющие разные исторические эпохи и социальные слои общества, обрисованы главным образом со стороны своего сознания, которое находится в состоянии кризиса. Кризис во всех случаях порожден столкновением традиционного мышления о мире с
нетрадиционной действительностью. И вот этот-то "пролом" в психике становится предметов художественного изображения писателя»37.
Для Хама, по мнению Кондюриной, «проломом» становится потрясение безнравственностью отца и братьев, принявших избранничество и не видящих в этом соучастия в преступлении, творимом богом. Потрясен и Туатамур тем, что дочь Чингис-хана Ытмарь во время битвы на Калке влюбляется в смертельно раненого ею и стонущего от боли врага оруса Джаньилу, тем самым предпочтя нежность и слабость жестокости и воле. Профессор Лихарев - талантливый палеонтолог, всю жизнь отдавший науке, только в обстановке революции задумывается о роли в его жизни тех, кто создавал ему условия для творчества, о праве безвестных Иванов на духовные ценности, создаваемые лихаревыми. Сходит с ума приказчик Ковякин, узнав, что человек произошел от обезьяны, ибо это, как ему кажется, обессмыслило усилия всей его жизни подняться над бескультурьем гогулевцев. Несмотря на некоторые натяжки в интерпретации Кондюриной, свидетельствующие о «дописывании» за Леонова под давлением идеологических штампов (профессор Лихарев задумывается вовсе не о праве безвестных Иванов, сколько о судьбе посвятившей ему жизнь родной сестры), в целом, как представляется, интерпретация идейного содержания ранних произведений Леонова, предложенная Кондюриной, верна.
В ее исследовании, на наш взгляд, ценно и то, что она связывает свою трактовку идейного содержания ранней прозы Леонова с избранной писателем формой сказа: «Прибегая чаще всего к распространенной в те годы форме сказа, он максимально использует ее возможности. Сказ с его эмоциональным повествованием передавал ощущение живого присутствия того, что ушло или должно отойти. Сказовая форма становилась самым
Кондюрина Э.Ф. Проза Леонида Леонова 20-30-х годов. Проблема культуры. Учебное пособие для студентов-филологов. Вильнюс, 1983. С. 10.
23 емким средством передачи культурно-исторического мышления вплоть до
его языка» .
Кондюрина подчеркивает, что обращение писателя к иным культурным эпохам в переломные их моменты служит у Леонова цели познания настоящего, и обращение в сказе к языку других эпох и культур является, по сути, нахождением того подлинного чужого языка, при помощи которого только и можно говорить о современности, на что обращал внимание еще М. Бахтин, также стремившийся понять причины обращения в 20-е годы советской литературы к сказовой форме: «Современность с ее новым опытом остается в самой форме видения, в глубине, в остроте, широте и живости этою видения, но она вовсе не должна проникать в само изображенное содержание как модернизирующая и искажающая своеобразие прошлого сила. Да ведь всякой большой и серьезной современности нужен подлинный облик, подлинный чужой язык чужого времени»39.
Перестроечное время, ликвидировавшее необходимость использования идеологических клише при интерпретации ранних произведений писателя, ставшего советским классиком, освободило литературоведческую мысль, а продолжающееся развитие культурологической мысли стимулировало обращение к истокам творчества писателя, которое в целом все больше стало определяться как некое единое произведение о судьбе культуры, начало которому как раз и было положено произведениями 1922 года. Большое внимание стало уделяться, в частности, ранее малоактуальной теме библейских мотивов в творчестве молодого Леонова, стали исследоваться- явленные в раннем творчестве его непростые, напряженные отношения с христианским миропониманием.
Там же. СП.
Бахтин М. Указ. соч. С.217.
По мнению А. Г. Лысова, использовавшего культурологический
подход в изучении ранней прозы Леонова, «произведения, созданные
Леоновым в 1922 году (от "Бурыги" до "Петушихинского пролома"),
можно рассматривать как неделимый цикл, объединенный
складывающимися идеалами "всечеловечности" в концепции молодого
художника и организованный его интернациональным
мирочувствованием. Типологически цикл близок к "жанрам-ансамблям" (своды и др.) древнерусской литературы. Основа циклообразования -мировая жизнь; принципы "мирообъятия" роднят раннего Леонова с общечеловеческими идеалами "Народных рассказов" Л. Толстого, "развоплощение" авторского "я" в абсолют "всемирной отзывчивости" сближает его с исканиями Достоевского»40.
Хотя, как нам представляется, объединение указанных произведений в единый цикл не имеет достаточных оснований, однако, несомненно, произведения, написанные писателем в течение весьма короткого периода, всего за один год, не могут не быть объединены определенной единой для всех идеей. Леонов в этот период напряженно ищет ответа на поставленные перед ним проломом современности ответ, и для этого прибегает действительно к «чужому языку», «развоплощается», стремясь постигнуть, как в подобные проломные эпохи осознавали себя и мир иные культуры.
Как считает Лысов, обращение Леонова к «чужим языкам» и иным культурам было и своеобразной оппозицией по отношению к той магистральной линии развития культуры, которую декларировали и пытались навязать идеологи Пролеткульта, с одной стороны, и с другой стороны, к предсказаниям о гибели культуры не приемлющих революцию консервативных идеологов: «Ранний цикл представляет собой образную концепцию революционной эпохи. Многообразие форм, восприимчивость
Лысов Л. Г. Раннее творчество Леонида Леонова. Концепция культуры. Автореф. дне. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Л., 1988. С.4.
к красоте, сохранение эстетического статуса пересоздаваемых источников, разнонациональная полифония цикла - все это Леонов направлял против представлений о революции как "уравнительно-обезличивающем процессе" (К. Леонтьев, а также доктрины "культурного разрыва" у идеологов Пролеткульта)»41.
Исследование Лысовым культурных прототипов в раннем творчестве Леонова представляет, как нам представляется, особый интерес, потому что исследователь обнаруживает и доказывает наличие у Леонова оригинального, нелинейного использования культурных прототипов, тогда как большинство исследователей просто фиксируют использование писателем тех или иных общекультурных символов и литературных реминисценций, что, собственно говоря, и вызывает разночтения. Так, например, в «прозрачном» сюжете исповедей в елковском кабинете в «Конце мелкого человека» одни видят реминисценции из «Идиота», другие - из рассказа «Бобок», и правы и те, и другие, потому что и в отношении культурных прототипов Леонов, стремясь к обобщению, избегает линейности.
Оригинальную работу раннего Леонова с культурными прототипами Лысов доказывает на примере рассказа «Уход Хама». Сам выбор героя этого рассказа, по мнению Лысова, говорит о приверженности Леонова «к демократическим , идеалам пореволюционных лет, бережное "довоплощение" библейского сюжета отражает благоговейное отношение автора к культурному наследию. Смещения сюжета, апофеоз "злого бскества", акцентированно выводимый из Моисеева Пятикнижия, обнаруживают полемизм юного писателя по отношению к церковным идеала*м, заключенное в рассказа стилевое и идеологическое обобщение далеко выходит за рамки сюжетной доминанты "легенды о всемирном потопе". Леоновская легенда "смотрит" и в скотоводческие идиллии Авеля и в миф о творении, дальше - в Евангелие, Апокалипсис и учение Павла.
1 Там же. С.7.
Хамова "Песнь о начале" и финал рассказа (с упрятанной в последней легендой о том, что Хам станет "праотцом" африканских народов) вообще покидают пределы канонического текста. Содержание новеллы не исчерпывается творческим "контактом" с Библией, "воплощением воплощенного": иная "позитура характеров, новые акценты, повороты темы влекут за собой также и цепь исторических реалий. Образом "злого божества" автор рассказа вступает в полемику ... с религиозными идеалами К. Леонтьева, на самом рубеже 20 века призывавшего ввести в церковную практику ветхозаветный догмат о "боге-хозяине, мрачном, недобром и карающем"; подобное же звучало и в проповеди "страха божьего" "религиозных обновленцев", в требовании (напр., С. Булгаков) восстановления "учения религии о первородном грехе»42. Итак, Лысов доказывает, что в системе культурной прототипизации Леонова «вековой тип», «мировой сюжет» вызывается к жизни запросами современности.
По мнению Лысова, интенсивность использования библейского материала в прозе Леонова 20-х годов при всей его внешней разрозненности, рассредоточенности в отдельных рассказах призвана в совокупности воссоздать контуры монолита предшествовавшей культуры, а на микроуровне, каждый в отдельности, библейский мотив исполняет роль «меченого атома», по которому определяется направление дальнейшего духовного развития. Культура, по Леонову, «не ящик со старьши, хоть я почтенными книгами, а движение, действие, способность мыслить дальше» . В отличие от Достоевского, использовавшего открытый текст Священного писания, Леонов соприкасается с ним по преимуществу через опосредование, через отражение библейского материала в подвижных процессах народной культуры. Творческое внимание писателя, делает вывод Лысов, надолго приковал к себе тот пласт национального сознания, который можно определить как народно-
Там же. СП. Там же. С. 12.
книжную культуру: «Это особый образ исканий народа, "умудренного книжностью" (слова Есенина) - порождение Руси раскольничьей и иноческой, еретической и страннической, "беготствующей", "взыскующей града", переселенческой, где разными путями обретенное книжное знание (Библия, апокрифы), переходя в устную традицию, вплеталось в канву правдоискательства, вступало в причудливые сочетания о языческой "прапамятью", обрастало утопиями и др. На этом срезе национального сознания Леонов скрупулезно исследует мыслительную историю народа, самобытность его морального мышления, возможности обновления человека. Его, вслед за Достоевским, не могло не волновать, чем заполнятся пустоты от вырванного "библейского древа", как будет вершиться самосозидание народной культуры. Полагая, что грядущее народа связано с идеалами "просвещенного язычества", Леонов, в основном, не разделял трагических опасений автора "Бесов" в разрушительных последствиях утраты веры в бога, но и не мог одобрить "встречу" топора с иконой, поспешное забивание "клиньев" в наметившийся "пролом", в трещины древнего храма. Поэтому столь пристально вглядывается он в движение христианства по духовным путям его родины, выверяя жизнеспособность тех или иных потоков культуры, влившихся в пореволюционную новь. С образами Бурыги и Тигунка связывается язычество, в Егорушке воплощается двоеверие, в Хаме - мир народных ересей, в "Петушихинском проломе" - не только пролом в религиозном сознании, но и кризис тех элементов в народной культуре, которые были сопряжены с религией»44.
Ранние произведения Леонова, ставшие в 70-80-е годы предметом академического изучения филологов-леоноведов, рассматривались прежде всего со стороны их идейно-художественного содержания, а поскольку стремление интерпретировать художественную идею писателя неизбежно связано и с исследованием особенностей поэтики, то в работах этого
44 Там же. С. 13.
периода отмечались некоторые жанровые и стилевые особенности произведений. Однако такой путь — от содержания к форме - в значительной степени обусловил то, что смысл отдельных произведений трактовался зачастую почти противоположно. Установление истины, т.е. в большей и меньшей степени конструирование интерпретации, адекватной авторской художественной идее, возможно только на пути от формы к содержанию.
Кроме того, в интерпретациях ранней прозы, предлагаемых советскими литературоведами, сильно влияние идеологических штампов: априори ими предполагалось, что Леонов, ставший советским классиком, изначально был на стороне революционной морали и к старой идеологии и морали мог относиться только критически. Идеологические догмы не позволили предполагать исследователям, что период 1922-1925 гг., особенно первые два года, наиболее плодотворные в творческом плане, был временем сложного мировоззренческого кризиса для молодого писателя, и именно кризисное состояние стимулировало обращение к сказу - Леонову нужен был «чужой» голос, другие эпохи и культуры, чтобы понять свое время; Созданные Леоновым в эти годы произведения, не будучи, конечно, единым циклом, тем не менее объединяются тем, что в них представлено сознание в состоянии кризиса, который порожден столкновением традиционного мышления о мире с нетрадиционной действительностью, все леоновские герои переживают «пролом», а избранная писателем форма сказа, будучи «чужим языком», в наилучшей степени позволяет передать ощущение живого присутствия того, что ушло или должно отойти.
Советские исследователи, несмотря на одинаковые идеологические установки, предлагают различные интерпретации одних и тех же произведений, поскольку идут в своих толкованиях не от стилевых особенностей, а от идейно-художественного содержания, поэтому предпринятая в настоящем исследовании попытка выделения некоторых
ведущих стилевых тенденций ранней прозы Леонова представляется имеющей несомненную актуальность, причем не только с точки зрения проекции стиля ранней прозы на последний роман писателя «Пирамида», в котором исследователи справедливо усматривают возвращение раскрепостившегося от догм соцреализма писателя к богатым возможностям авангардизма, но и потому, что такие произведения, как «Бурыга», «Бубновый валет», «Конец мелкого человека», «Записи Ковякина», цикл «Необыкновенные рассказы о мужиках», как нам представляются, входят в число лучших образцов российской прозы 20-х годов.
Новизна нашего исследования помимо попытки выделения некоторых ведущих стилевых тенденций ранней прозы Л. Леонова, заключается также и в том, что в нем впервые проанализированы такие ранние вообще не исследовавшиеся произведения, как «Бурыга», «Бубновый валет», «Темная вода», сделаны попытки снова же на основе более или менее подробного текстуального анализа дать освобожденные от идеологических догм интерпретации повестей «Конец мелкого человека» и «Записи Ковякина», вместе с тем установлены взаимозависимости выделенных стилевых тенденций раннего творчества Леонова с художественным мировоззрением писателя.
Объектом исследования являются тексты Л. Леонова 1921-1925 гг.: повести «Конец мелкого человека», «Записи Ковякина» и рассказы «Бурыга», «Бубновый валет», «Темная вода»; предметом - стилевые традиции в этих произведениях.
Цель данной работы является выделение и описание некоторых доминирующих стилевых тенденций в раннем творчестве Леонова на основе подробного литературоведческого анализа текстов писателя первой половины 20-х годов.
Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи:
Изучить существующие в критике 20-30-х годов оценки раннего прозаического творчества Леонова;
сделать обзор существующих литературоведческих исследований прозы раннего Леонова;
Доказать на основе текстуального анализа рассказов «Бубновый валет», «Темная вода» и повести «Конец мелкого человека», что стиль ранней прозы Леонова эволюционирует на пути синтеза символистской поэтики и традиций реализма Достоевского;
Используя методологию исследования карнавализированной литературы М. М. Бахтина, проанализировать рассказ «Бурыга» и доказать его принадлежность к мениппее;
Показать роль реминисценций в «Записях Ковякина» для создания полифонического текста;
Методологической базой исследования являются труды таких ученых, как М. М. Бахтин, В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Ю. М. Лотман, а также научные наблюдения и выводы современных исследователей П. П. Филиппова, Г. Г. Исаева, А. Г. Лысова, Н. В. Шенцевой, Э. Ф. Кондюриной, В. И. Хрулева и др.
Теоретическая ценность видится в исследовании
взаимозависимости выделенных стилевых тенденций раннего творчества Леонова с художественным мировоззрением писателя.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы при чтении общих курсов по истории русской литературы XX века, при подготовке специальных курсов и семинаров, применены при изучении творчества отдельных писателей второго десятилетия, для выявления их места и роли в историко-литературном процессе, а также в исследованиях, посвященных теоретическим и актуальным проблемам русской литературы XX века.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии.
Художественная философия и особенности поэтики символизма
Обычно словом «символизм» обозначают идейное движение (прежде всего в литературе), возникновение около середины XIX в. новой художественной школы, весьма широкой, включающей разные искусства. Термин «символизм» ввел французский поэт Жан Мореас и обосновал его в «Манифесте символизма»(1886 г.), а одним из основоположников символизма считается французский поэт Ш. Бодлер, утверждавший, что символизм - это единственно возможный способ отражения действительности. Символизм в начальный период своего становления был оппозиционен торжествовавшим тогда позитивизму, натурализму и реализму и апеллировал к интуиции, воображению, невыразимому, стремясь вернуть приоритет духовному над материальным. Первые символисты (в основном, французские) находились под сильным воздействием полной мистицизма музыки Р. Вагнера, и общую цель видели в раскрытии внутреннего мира художника. Вместо описания какого-либо предмета они предлагали обозначать его условно, выражая г содержание через ассоциации. В таком случае, если смысл искусства заключается в том, чтобы не описывать или изображать, а намекать, то литература уподобляется музыке, в частности, музыке Вагнера.
Волна символизма прошла по всей Европе, включая Россию. Символизм явился выразителем общего культурного перелома во второй половине прошлого века. Переоценка ценностей прошлого выразилась в бунте против узкого материализма и натурализма, но ни к идеализму призывала новая литературная школа, хотя и было в ней в некоторых вопросах согласие с классиками, а более всего ощущалось дыхание романтизма, однако некоторые признаки, запечатлевшиеся и в форме, и в содержательной стороне символистских произведений, одинаково не подходили ни к традициям романтизма, ни к традициям классицистической школы.
А. Белый, один из деятелей и теоретиков символизма, пишет: «Были попытки вывести символизм из классиков; наоборот: были попытки отыскать символизм в романтизме; новое искусство представляли то как неоклассицизм, то как неоромантизм, то как неореализм. Правда, черты реализма, классицизма и романтизма мы встречаем у иных представителей символизма; правда и то, что лучшие произведения современных художников верны лучшим традициям старого доброго времени. Но если бы мы это признали, то стерли бы грань, отделяющую современное искусство от прошлого; будучи преемственно все тем же искусством, оно одушевлено сознанием какого-то непереступаемого рубежа между нами и недавней эпохой; оно - символ кризиса миросозерцании; этот кризис глубок; и мы смутно предчувствуем, что стоим на границе двух больших периодов развития человечества» .
Итак, Белый указывает, что отличительной особенностью символизма явилось прежде выражение в нем кризиса миросозерцания, определившего и его формальную поэтику. Исходя же из того, что для Леонова начало 20-х годов было временем кризиса личного мировоззрения, можно предположить, что его обращение к учебе именно у символистов было не данью литературной моде, но сходным с символистским кризисным миросозерцанием.
Кризис миросозерцании, вызвавший к жизни символизм, был впервые осознан, определен, а в некоторой степени и спровоцирован (поскольку такое определение помогло многим понять себя и самоопределиться) Ф. Ницше, почитаемым абсолютным большинством символистов. В знаменитом ницшеанском высказывании «Бог умер» не просто художественная метафора, а философская посылка нового искусства.
«Со "смертью Бога", провозглашенной Ницше, в философии искусства "рубежа веков" заканчивает существование этот великий принцип нравственной онтологии, умирает гуманистическая, антропоцентрическая христианская идея, лежавшая в основе европейского искусства Нового времени» .
Отбросив идею христианского Бога, с его непреложностью моральных установлений, Ницше по-своему определяет смысл творения и формулирует свою философию жизни: в отличие от христианских представлений о целесообразности творения, совершаемого Богом, который есть Благо и Добро, Ницше утверждает, что в самом- акте творения жизни никакой изначальной идеи блага и добра нет, а творение -это свободная художественная игра. Ницше предлагает идею своего Бога -капризного и своенравного художника, ставшего «по ту сторону добра и зла». Жизнь есть бесконечный художественный акт, процесс художественного творения, который сам по себе никакого морального смысла не имеет.
Эволюция символистской поэтики в ранней прозе Л. Леонова
Влияние символистской художественной философии и поэтики на раннего Леонова-прозаика очевидно, когда речь идет о таких произведениях, как «Уход Хама», «Туатамур», «Халиль», в которых молодой писатель, стилизуя, занимается мифотворчеством: Он обращается к языку чужих эпох и культур, чтобы, таким образом, создать некий универсальный язык, способный описать, а значит, раскрыть вневременное, общечеловеческое. В советском литературоведении, совершенно не учитывая особенности символистической ремифологизации, отыскивали историзм, создаваемый в том числе и при помощи бытовых этнографизмов, в «Туатамуре» или в «Уходе Хама», тогда как Леонов отыскивал сюжеты, запечатлевшие некие вечные коллизии, для создания своих интеллектуальных мифов. Приложение к этим произведениям канонов символистской поэтики (мало почитаемой советским литературоведением, если речь шла о классике соцреализма) позволяет без труда установить влияние на молодого прозаика символистской философии и поэтики.
Однако влияние символизма в ранней прозе Леонова отнюдь не ограничивается лишь этими очевидными интеллектуализированными мифологизациями и структурированием текстов (целиком или частей теста) при помощи системы образов-символов, создающих подтекст (в анализах следующих глав будет неоднократно выделяться использование Леоновым образов-символов), символистским мироощущением, нашедшим выражение в адекватной ему поэтике, пронизаны и другие ранние произведения, лучшим из которых, на наш взгляд, является «Бубновый валет», незаслуженно проигнорированный леоноведами, хотя, как мы попытаемся это доказать, в отличие от мифов-стилизаций, этот рассказ представляет собой оригинальное леоновское мифологизирование, создаваемое по символистским законам.
«Бубновый валет» не попал в орбиту внимания исследователей, как представляется, по причине того, что его сочли подражательным, увидели в нем не более чем популярную перед революцией и разрабатываемую в том числе и символистами тему развенчания бездуховности мещанства, совершенно неактуальную во время «пролома» 20-х годов.
Действительно, если причины обращения к сюжетам из библейской и средневековой истории объяснимы стремлением через «чужие» языки выявить общечеловеческое и понять себя, свою современность, то как соотносится с переживаемым Леоновым мировоззренческим кризисом мистическая история о печально завершившейся для обоих героев любви бубнового валета и героини-человека?
Соотношение, несомненно, есть: в период «пролома», вызванного катастрофическим разрушением мира, находясь в состоянии кризиса и отыскивая из него выход, Леонов создает модель жизни почти идиллической, некатастрофической, чтобы понять, а возможно ли человеку, как таковому, реализовать свои таинственные, иррациональные, интуитивные влечения к чему-то потаенному, высшему, может ли он избыть неясно-хмучительную тоску, одиночество?
Как известно, мировая художественная культура в необозримом множестве произведений давала, по сути, с древнейших времен один-единственный ответ на этот вопрос - любовь, соединение разорванных половин в единое целое. Леоновский «Бубновый валет» является ничем иным, чем «переписыванием», ремифологизацией знаменитого платоновского мифа, выполненным в символистской поэтике.
Рассказ начинается увертюрой, в которой образы-символы благодаря свойственной им суггестивности намечают, «внушают» основные темы и мотивы рассказываемого рассказчиком мифа. Кстати, форма сказа здесь используется для того, чтобы подчеркнуть, что рассказываемое не выдуманная литературная история, а бытующий, как и положено, в изустной форме миф.
Рассмотрим увертюру. Первая фраза «Этой девочке кукол дарили на елку, а было ей всего четырнадцать лет» на первый взгляд не имеет никакого отношения к событиям рассказа, ведь дальше в рассказе и речи не будет ни о куклах, ни о елке, если только не смотреть на эту зачинающую фразу как на составленную из символистских символов, имеющих целью нечто внушить. Образы «девочки», «кукол» и «елки» вносят в рассказ множество смыслов: нечто радостно-таинственное, мистическое, связанное с Рождеством, с рождественскими чудесами, с детским ожиданием этих чудес, а также смыслы игры, детской чистоты, радостного детского приятия мира. Правда, указание на возраст героини настораживает: это время конца детства, время перехода. Итак, героиня в период приближающего для нее «пролома», катастрофы, неизбежного перехода из праздничного мира детства во взрослый хМир, где знают, что рождественские чудеса - это только сказки. Однако следующая фраза «снимает» или наоборот, усиливает возникшее напряженное ожидание («И была у этой девочки своя солнечная комнатка в мезонине над сиренями» -96), внося новые и еще менее отчетливые, чем символика первой фразы, смыслы
Карнавализация как одна из стилевых доминант ранней прозы Л. Леонова
Под карнавализацией понимается «транспонировка карнавала на язык литературы». «Карнавал выработал, - пищет М. Бахтин, - целый язык символических конкретно-чувственных форм - от больших и сложных массовых действ до отдельных карнавальных жестов. Язык этот дифференцированно, можно сказать, членораздельно... выражал единое (но сложное карнавальное мироощущение, проникающее все его формы. Язык этот поддается известной транспонировке на родственный ему по конкретно-чувственному характеру язык художественных образов, то есть на язык литературы»81.
Почвой, на которой в раннем творчестве Леонова произошла активизация фундаментальной традиции народно-смеховой культуры, было то состояние реальности, которое явилось следствием глубочайшего разлома жизни, вызванного революционным взрывом, когда все переворотилось и только укладывалось, принимая формы причудливого смешения высокого и низкого, трагического и смешного, смысла и бессмыслицы. Возвышенная идея подчас говорила корявым языком улицы, невежество претендовало на значительность, пытаясь построить мир по своему разумению.
В этих условиях происходит оживление карнавальной традиции в целом в искусстве и литературе 20-х годов - они обращаются к «уже освоенному мировой культурой способу художественного воссоздания, позволяющего путем игрового отстранения реальности в своеобразной форме карнавального действа запечатлеть судьбу человека в мире, выпавшего из своей обычной колеи»82. Карнавал, указывает Бахтин, это -праздник всеуничтожающего и всеобновляющего времени, т.е. это праздник уничтожения во имя возрождения.
В мире, утратившим четкие ценностные ориентиры, не может быть трагического мироощущения - трагическое предполагает катарсис, происходящий в результате торжества, хотя и ценой гибели, неких вечных, незыблемых ценностей, тогда как человек оказывается в состоянии «пролома» как раз по причине разрушения ценностей. Здесь неоткуда взяться катарсису, спасением становится лишь смех - смешное перестает быть страшным, смех позволяет выжить в разрушающемся и становящемся одновременно мире. В эпохи «проломов» серьезные жанры (трагедия, эпопея) нехарактерны, ведущее место начинает занимать область серьезно-смехового, трагикомического.
Серьезно-смеховая литература, целью которой является постижение изменяющегося, утратившего прежние ценностные ориентиры мира, не может, указывает Бахтин, опираться на предание (как, например, в трагедии), освящать себя им - она может опираться лишь на опыт (хотя еще и весьма незрелый) и на свободный вымысел. Отношение же ее к преданию, освящающему уничтоженные ценности, напротив, «глубоко критическое, а иногда- цинично-разоблачительное»83.
Наконец, Бахтин выделяет такую особенность серьезно-смеховой литературы как ее нарочитую многостильность и разноголосость: «...характерна многотонность рассказа, смешение высокого и низкого, серьезного и смешного, они широко пользуются вводными жанрами -письмами, найденными рукописями, пересказанными диалогами, пародиями на высокие жанры»
Активизация карнавальной традиции в серьезно-смеховой литературе 20-х годов происходит по причине близости мироощущения человека, живущего в состоянии «пролома», карнавальному мироощущению. «Карнавальная жизнь, - пишет Бахтин, - это жизнь, выведенная из своей обычной колеи, в какой-то мере "жизнь наизнанку", "мир наоборот"
Понятие карнавализации как жанрово-стилевой традиции
Рассказ «Бурыга» - первое напечатанное произведение Леонова -вызвал одобрение критиков-современников прежде всего за свежесть и чистоту языка, неожиданных для дебютанта, однако серьезного разбора у литературоведов эта сказка, которую сочли не больше, чем пробой пера, как правило, не удостаивалась. В. Ковалев, один из немногих леоноведов, обратившийся к этому рассказу, открывающему первый том собраний сочинений писателя, видит в этом рассказе прежде всего разоблачительный социальный пафос, для которого Леонов использовал народный юмор: «Это - непритязательный рассказ о судьбе некоего мохнатого лесного существа, мирного и безобидного, которое было вынуждено покинуть родной русский лес, беспощадно уничтоженный и растерзанный дровосеками. Бурыга скитается среди людей, становится игрушкой и развлечением у богатеев. Он сталкивается с причудами и произволом помещиков, купцов, дельцов-спекулянтов.
В обрисовке помещиков и купцов много народного юмора. Так, например, с иронией говорится о пронырливости Бутерброта, об истеричности купчихи, о дворянской амбиции графа. Автор грубовато-насмешлив, когда он говорит о барах и купцах. «А Бутерброт разбогател: вставил себе в пасть золотые зубы, а мог бы и брильянтовые, да отсоветовал один там: не практично, говорит»(81). «Дома у купчихи стал детеныш Бурыга третьим: первой была купчихина моська Аннет... она па задних лапках могла ходить, а вторым попугай Зосима, которого покойный купец в свободное время обучил ругаться неприличными словами»(83). О графе говорится совсем в духе крыловского «Трумфа»: «За неделю стал граф к тому празднику готовиться: пирог испекли в сажень, колбасы корзину целую купили; сам граф, рукава засучив, яблоки рубил, наливки на разных травах настаивал»(86). Раскрывается пустота бар и купцов, их эгоизм и жадность, животный образ жизни, . их бесчеловечность, жестокость.
Этим фигурам противопоставлена не только «естественная», чистая душа лесного существа, но и образы доброй бабки Кутафьи, отзывчивой кухарки, рассказчика «деда Егора из старого Ликеева»88.
Обратим внимание, что идеологизированный подход не позволил литературоведу увидеть как минимум неоднотонность образа бабки Кутафьи, которая продает Бурыгу.
В. А. Ковалев отмечает сложную композицию и стилевое разнообразие рассказа: «В лирическую стихию повествования о скитаниях Бурыги "вписывается" живая реалистическая обрисовка русских социальных типов, осложненная добавлением комического "испанского" колорита (действие переносится якобы в Испанию). Эта тройная композиция рассказа - совершенно в духе сложных структурных решений, которые так характерны для последующих произведений писателя. Сочетание условности приемов и образов с бытовым реализмом и "приземленностью" характеристик также предвосхищает специфическую леоновскую художественную манеру. Яркий, выразительный язык рассказчика, рельефные речевые характеристики персонажей, непринужденная смена интонации и стилей - от деревенского сказа, в духе озорной, замысловатой северной сказки, до проникновенного гоголевского лиризма и лирической патетики, - предсказывают богатую стилистическую палитру зрелого Леонова.
Повествование овеяно поэзией природы»89.
Думается, что невнимание леоноведов к этому рассказу в немалой степени было вызвано и признаниями (довольно легковесными, может быть, и по причине того, что ставший советским классиком Леонов был не особенно расположен вспоминать о кризисном для себя времени «пролома») самого писателя о том, как зародился у него этот рассказ: «Я всегда любил болотные места, болотную флору, - там своя укромная жизнь. Придешь в такое местечко - и эк! как будто что-то спряталось. Кажется, что вот оно было перед вашим приходом, но вы спугнули его, и оно замерло, застыло! Я любил бродить в таких местах. Помню, в детстве, когда мне было лет семь - десять, мы с братом Борисом часто ходили в лес Гулино, возле деревни Полухино (Калужской губернии). Там была густо заросшая лощинка. Мы пробирались в нее и играли у чистого-чистого ручья. Пили воду из берестянка, который прятали, - слаще не было той воды! (тайна!). Вот из таких впечатлений и родился этот рассказ»90.
Как нам представляется, фантастическо-авантюрный рассказ «Бурыга» может быть определен как мениппея, в которой очевидно проявилось карнавальное мироощущение молодого Леонова.
Героем рассказа у Леонова становится представитель инфернального мира - чертик Бурыга, и выбор такого героя является очевидным элементом карнавализации: низ и верх, божественное и инфернальное даже не поменялись местами, но уравнялись, смешались в этом герое, и это проявление карнавальной амбивалентности.