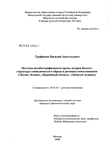Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Сказовая стилизация в новеллистике Л Петрушевской
1.1. Стилевые тенденции «деструкции» и «игры» 17
1.2. Шутовство как форма поведения рассказчика 44
1.3. Рассказчик и повествователь в системе точек зрения 54
ГЛАВА 2. Поэтика сказоподобного повествования в прозе Л Петрушевской
2.1. План персонажа: судьба «маленького человека» 62
2.2. Движение воспринимающего сознания «от логоса к мифу»: поэтика неомифологизма 84
2.3. «Свой» и «чужой» миры в микрокосме Л.Петрушевской 112
Заключение 129
Список использованной литературы 135
- Стилевые тенденции «деструкции» и «игры»
- Рассказчик и повествователь в системе точек зрения
- План персонажа: судьба «маленького человека»
- «Свой» и «чужой» миры в микрокосме Л.Петрушевской
Введение к работе
Творчество Л. С. Петрушевской - особый, во многом уникальный художественный мир. Жанровое разнообразие ее произведений достаточно
ф велико. Однако драматические и прозаические тексты писательницы в своей
совокупности представляют собой некий гипертекст, благодаря единой для всех произведений Петрушевской стилевой доминанте, выражающей авторское мироощущение. В прозе эта стилевая доминанта проявляется в формах наррации, в особой организации повествования.
В нашей диссертации исследуется поэтика повествовательных форм прозы Л Петрушевской. С первого появления на литературной арене - в 1972 году в журнале «Аврора» было опубликовано два ее рассказа - писательница поставила перед критиками и теоретиками литературы ряд загадок, одной из
W* которых стал оригинальный образ повествователя. Петрушевская
обнаружила дар «стенографического воспроизведения» бытовых ситуаций, пугающе точно излагая их «ненавистным, сумасшедшим языком очереди» [25, с.35]. Язык ее произведений стал выразителем «психопатологии обыденной жизни» [138, с.101]. Но только этот необыкновенный стиль Петрушевской и смог вызвать «эффект самовыражающейся жизни» [93, с. 151], сделав ее одной из самых заметных фигур в современной прозе.
Повествовательная манера в русской литературе 80-90-х годов XX века
t продолжала оставаться продуктивной формой, позволявшей писателям
^-^ придти ко множеству новаторских решений. Так, повествование в последнем
романе Ю. Трифонова «Время и место» оформляется как «интеллигентский сказ». В прозе В. Маканина («Голубое и красное», «Лаз», «Кавказский пленный»), Т. Толстой («Петере», «Лимпопо») приоритет также отдается слову и сознанию героя, чье мироощущение, хотя и близко авторскому, представляет собой социокультурный феномен. Еще более сложную задачу ставит Саша Соколов в «Школе для дураков», используя повествовательную
маску не просто «маленького человека», но личности безумной, больной, раздвоенной и необыкновенно свободной в творческом плане.
Вопрос об изучении современной литературы с точки зрения повествовательных тенденций приобретает в настоящее время особую актуальность, поскольку становится проблемой не только филологического, но и социокультурного характера Активность поиска «имиджей» и «масок» для повествователя и героя обусловлена «психоисторическим и социокультурным выбором в той же мере, в какой этот выбор определяет смену общественных формаций или систему литературных стилей» [18, с. 140]. В стилистических экспериментах, представляющих собой полемику с традиционными формами повествования (всеведением автора, прямым авторским самоопределением), у Л. Петрушевской и ее современников правомерно видеть отражение сознания современного человека со всеми укоренившимися в нем культурными идеологемами и мифологемами. Изучение новейшей литературы с точки зрения повествовательных тенденций становится поэтому одной из актуальнейших проблем современного литературоведения.
Появление первых публикаций Л. Петрушевской вызвало резкое неприятие официальной критики. Признание и слава к писательнице пришли во второй половине 1980-х годов, после значительных изменений в политической и культурной жизни страны. В 1992 году ее повесть «Время ночь» была номинирована на премию Букера За литературную деятельность Петрушевская удостоилась международной премии имени А. С. Пушкина, премии «Москва - Пенне» за книгу «Бал последнего человека», наконец, она стала обладательницей приза «Триумф».
Некоторые черты поэтики Л. Петрушевской, такие, как выбор маргинальных тем, агрессивная лексика, общая декоративность стиля, «компенсирующая» натуралистическое начало, позволяют соотнести творчество писательницы с возникшим в русской литературе второй
половины 1980-х годов явлением «другой прозы»1. Успех ряда ее представителей (Вик. Ерофеева, В. Нарбиковой, Е. Попова и др.) объяснялся принципиальным отходом от господствующей литературной парадигмы, вызвавшем эффект «шоковой терапии». Однако принципиальное отличие творчества Л. Петрушевскои от «другой прозы» состояло в том, что представители последней лишь тиражировали художественные открытия своих предшественников, лишая их «положительной энергии и превращая в текстуальные клише, обреченные на отмирание» [18, с.296].
Несмотря на полученное Петрушевскои признание, полемика вокруг ее произведений, сопровождающая писательницу с самых первых публикаций, продолжается до настоящего времени3. Основной корпус исследований составляет журнальная и газетная критика. Петрушевская - один из немногих современных авторов, чье творчество находится под пристальным вниманием критики: практически ни одно ее произведение не осталось незамеченным. Противоречивость частных суждений всех, кто когда-либо писал о Петрушевскои, сопровождалась единством мнений в оценке всего ее творчества как явления неординарного.
Почти все критические исследования о прозе Петрушевскои, начиная с самых ранних и заканчивая новейшими, содержат порой взаимоисключающие концепции образа повествователя. Если Т. Морозова говорит, что повествование Петрушевскои озвучено голосом «рассказчицы-сплетшщы, умной и внимательной к человеческим грешкам» [ 118, с. 10], то
Анализируя журнальную прозу 1988 года, С. Чупринин отпетая, что наряду с произведениями отчетливой социальной проблематики существует и «другая проза» - «другая и по проблематике, и по нравственным акцентам, и по художественному языку» [202, с. 222]. Более радикально настроенная критика говорила об этой прозе как о «чернухе» в литературе.
2 Об эффекте «шоковой терапии» у Л. Петрушевскои писала Л. Улицкая: «Вот писатель, поставивший «талантливый и глубокий социальный диагноз. Этот диагноз всегда казался мне очень жестоким. Но убедительным» [186, с.34].
Определение прозы Л. Петрушевскои как «поэтики вульгарного, восславляющего тлей и разложение и безжалостное равнодушие к людям» (Ованесян Е. Творцы распада //Молодая гвардия.- 1992.- №34.- С.249-252) соседствует с мнением о том, что «изображение распада содержит в себе активный заряд гуманности и сострадания и побуждает пересмотреть образ жизни в гораздо большей степени, чем открытые призывы и высказанные автором осуждения» (Невзглядова Е. Сюжет для небольшого рассказа //Нов. мир.- 1988.-№4.-С.256-258).
б М. Липовецкому «тон повествования» автора видится совершенно иным, достигающим «глубины взаимного понимания» между повествователем и героем [95, с.230].
Несовместимыми эти точки зрения кажутся только на первый взгляд. Если же рассматривать повествовательную стратегию Петрушевской как обращение к русской сказовой традиции, то подобные противоречия снимаются. При этом характеристика рассказчицы, данная Т. Морозовой, объясняется тем, что в повествовании Петрушевской «устность» связана не столько с фольклорной традицией, сколько с феноменом «болтовни», «толков» [161, с.49]. Необычность созданной «маски» повествователя делает особенно актуальным исследование повествовательных форм в прозе писательницы.
Кроме того, актуальность исследования диктуется новым подходом современного литературоведения ко всей парадигме художественности -подходом, обусловившим продуктивность «подтекстуальной интерпретации» (К. Тарановский) творчества писателя, изучения егоуфоне русской литературы ХІХ-ХХ веков. Несомненная социально-прагматическая ценность произведений Петрушевской базируется на глубинных механизмах, отражающих законы человеческого бытия как Целого, стоящего над частной исторически-конкретной культурой данного общества В событиях, обусловленных конкретным временем, автор «символически изображает вечные идеалы» [187, с.208]. Для дешифровки этих символов актуальным представляется анализ философско-эстетического содержания образов и конфликтов у Петрушевской в их связи с литературной традицией. Поэтому объектом исследования стал литературный процесс 1970-1990-х годов, в русле которого и развивалась проза Л Петрушевской, рассмотренный в контексте русской прозы ХГХ-ХХ веков. Предмет исследования - проза Я. Петрушевской с точки зрения сказовой традиции, развивающейся в новых
социокультурных координатах и преломляющейся через индивидуальное мировосприятие автора
Глубоко индивидуальное и эстетически суверенное, творчество
Петрушевской представляет собой сложную, динамическую систему,
^ содержащую традиционные роли, типологические модели. Писательница
ведет активный диалог с русской и мировой культурой, «знаки» которой — литературные архетипы, аллюзии - не раз привлекали внимание исследователей. Поэтический опыт Петрушевской - еще одно доказательство того, что XX век не стал веком разрыва культурной преемственности.
Сложный процесс взаимодействия поэтических систем XIX-XX веков и
прозы Петрушевской является своеобразным психологическим феноменом
памяти. Писательница подчиняется императиву эпохи - активизировавшейся
в XX веке рефлексии, когда литература начинает «вспоминать», «творить
V* свое прошлое» [102, с.22], отказываясь от социально-исторического в пользу
мифологического, экзистенциального, антропологического. Таким образом, для исследования поэтического мира прозы Л. Петрушевской актуальность приобретают такие ключевые комплексы культуры постмодернизма, как «интертекстуальность», «крах логоцентризма и бинарных оппозиций» [215, с.6]. Сама постмодернистская реальность создает возможность для рассмотрения творчества Петрушевской не только как объективно существующего в поле стратегий, заданных традицией (в категориях исторической поэтики), но и как субъективно интерпретирующего эту г* традицию посредством осознанных приемов (в категориях интертекстуальности).
И, наконец, важным представляется исследование сложного процесса освоения писательницей картины мира, общих тенденций формирования ее мирообразов, определения ее оригинального творческого метода. Сложность художественного метода Петрушевской отмечалась многими исследователями, большинство из которых указывают на возможность
рассмотрения ее прозы в русле традиционного для русской литературы сказового повествования.
Авторы монографии «Поэтика сказа» утверждают, что «сказ выражает некоторые существенные стороны развития именно русской литературы, являясь одним из показателей ее национального своеобразия, и что возможности этой формы далеко не исчерпаны» [122, с.5]. Как «форма сложной комбинации приемов устного, разговорного и письменно-книжного монологического речеведения» [28,с.35], сказ стал альтернативой русскому литературному языку «автора» или «повествователя» в художественном тексте. Причину «любви к диалектам и варваризмам» в русской литературе В. Шкловский видел в том, что русский литературный язык уже по своему происхождению для России чужероден [208, с.24]. На наш взгляд, сказовое повествование более всего отвечает особенностям русской ментальности с характерной для нее юмористической рефлексией, питающейся стихией русского языка и фольклора. Еще А. С. Пушкин заметил, что «отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума и живописный способ выражаться» [153, Т.5, с.27-28]. Герой-рассказчик с такими характеристиками впервые появляется у ИВ. Гоголя в «Вечерах на хуторе близь Диканьки». Стилистика гоголевских повестей открыла новые изобразительные возможности в языке художественной прозы.
Основанная Н.В. Гоголем, сказовая культура повествования во многом определила развитие русской модернистской парадигмы в литературе XX века, основными чертами которой стали субъективность и открытость всей предшествующей культуре. Сказ в XX веке развивался в двух направлениях: как самостоятельный и как «усеченный», опосредованный тип повествования, приведший к многообразию сказоподобных форм.
Сказ как самостоятельная форма повествования отличается четко очерченной фигурой рассказчика, формально как бы «оттесняющего» автора на второй план. Такой рассказчик характерен для прозы Гоголя. Гоголевская
линия повествования развивалась в творчестве Н.С. Лескова, в сказе которого произошло смещение акцентов с изображения «речевого жеста» на «исповедальность» и образ «коллективного слушателя» [122, с.95, 100]. Гоголевское открытие эстетики устной звучащей речи активно проявилось в начале XX века (А. Ремизов, А. Белый, Ф. Сологуб и др.), а в 20-е годы повлияло на творчество JL Леонова, Ю. Олеши, И. Бабеля и особенно М. Зощенко1. С шедеврами последнего, по словам Вяч. Вс. Иванова, «соперничают удачи небольших вещей Л. Петрушевской» [62, Т.2, с.761].
В сказоподобном повествовании - «условном» или «усеченном» сказе - слово персонажа сопровождается голосом повествователя, проникающего в сознание персонажа Эта плоскость стилизации, по мнению авторов монографии «Поэтика сказа», представляет собой одно из проявлений «чужого» слова. Традиция такого повествования опирается на опыт Ф.М. Достоевского [122, с. 120]. В конце XIX - начале XX века эта традиция продолжает эволюционировать в творчестве А.П. Чехова, который делает равноправными нейтрального повествователя и героя, устраняя всякую авторскую категоричность [122, с.124].
Такая повествовательная стратегия вводит читателя во внутренний мир героя, превращая последнего в воспринимающего субъекта В данной литературной парадигме культивируется тяга к изображению быта и повседневности «маленького человека» изнутри его сознания и подсознания, окрашивающих будничность странным, фантастическим светом. Вяч. Вс. Иванов наблюдает «нарастание черт "фантастического реализма" в смысле Достоевского в нашей литературе вплоть до 30-х и 40-х годов XX века», прежде всего в сказоподобном повествовании А. Платонова [62, Т.2, с.237]. Включается в эту литературную парадигму и Л. Петрушевская, предшественником и даже «учителем» которой М. Липовецкий считает А.
В 1921 году писатель А. Ремизов сказал: «Берегите Зощенко - это наш, современный Гоголь» [201, с.37].
Платонова1. Традиция М. Зощенко и А Платонова в прозе Л. Петрушевской, отмеченная в критической литературе, требует серьезного научного осмысления.
Эпохи Зощенко-Платонова и Петрушевской разделены более чем полувековым интервалом. Но, на наш взгляд, художественные системы этих авторов недалеко отстоят друг от друга. Во-первых, очевидно взаимопересечение поэтических миров М Зощенко и А. Платонова, двух современников, на что указывают такие ученые, как Вяч. Вс. Иванов2, М. Чудакова и В. Чалмаев3, Ю. Манн4, Л. Киселева3, Н. Корниенко6, А. Жолковский7.
Во-вторых, ряд исследователей обнаруживает в поэтике М Зощенко и А Платонова те черты, которые легли в основу эстетики постмодернизма -культурного контекста творчества Петрушевской. Это - десакрализация мира [61, с. 227], предчувствие катастрофы [62, Т.2, с.463], одновременное осуществление диаметрально противоположных стилевых интенций (материальной конкретности и метафизической семантики) [96, с.666]. Принадлежность Л. Петрушевской к данной литературной парадигме объясняет сходство тем, ситуаций, образов - подобно Зощенко и Платонову, писательница изображает «маленького человека» с его мирком, с его философией. Совпадение жанрово-стилевых принципов объясняется сходством социокультурного контекста двух литературных эпох, двух исторических периодов - периодов сложных переплетений событий, грез и
Выделяя ведущую черту поэтики Л. Петрушевской (когда «конкретная ситуация попадает в координаты вечности»), M. Липовецкий говорит об усвоенных писательницей «уроках прозы» А. Платонова [95, с.230]. 1 «...язык Платонова, предельно самобытный, сближает его скорее с Зощенко» [62, Т.2, с.474].
3 Платонов и был... тем «воображаемым, но подлинным пролетарским писателем», которого столько лет
«временно замещал» Зощенко» [201, с. 116-117]; [197, с. 103].
4 «Произведения и герои таких великих художников XX века, как Чарли Чаплин, Кафка, Булгаков,
Платонов, Зощенко... отстаивают права любой клетки, любого индивидуального существования» [108,
с.182].
Творчество Зощенко, Олеши, Платонова - это «мир прозы «сдвинутых вещей», «смещенных понятий» [76, с.163].
«Платонов и Зощенко писали «новых и неописуемых людей»... никак не попадающих на «столбовую дорогу» истории» [83, с.48]. 7 «Поднятие забрала двусмысленности превратило бы Зощенко в Платонова» [52, с.56].
п разочарований. Фрагментарность повествования отразила историческое время, когда повсюду шла ломка больших эпических форм; усложнение субъективной организации углубило жанровую специфику малых форм. Связь проблемы жанра с категориями мировоззрения и метода обусловила выбор сказовой стилистики.
Стилистика сказового повествования, являющегося одним из способов проникновения во внутренний мир героя через формы его речевого сознания, отвечает ведущей проблеме художественного творчества - проблеме гуманистического мироустройства Образ человека с точки зрения литературной характерологии рассматривается в двух аспектах: во-первых, в соотношении статических и динамических компонентов - внешнего вида и поведения; и, во-вторых, в единстве внешнего, «телесного» человека и внутреннего, «душевно-духовного».
В антропологии Л. Петрушевской обнаруживается специфическое для русской литературы сосуществование двух культурных традиций -шутовства и юродства. В образе рассказчика у Петрушевской актуализируется память архетипа шута, являющегося знаковой фигурой для русской культуры [46, с. 109]. В XX веке в рамках «шутовского вектора» развивается ряд художественных систем, среди которых и так называемая «советская сатира» - творчество И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко и др. «Юродивая линия», как утверждает И.А. Есаулов, отчетливо просматривается в творчестве А. Платонова [46, с. 109]. Доминантой в мироощущении многих героев Л. Петрушевской также становится комплекс юродивого со всеми присущими ему атрибутами поведения, «заставляющего рыдать (здесь и далее разрядка цитируемого автора - O.K.) над смешным» [46,с.108].
Гносеология Л. Петрушевской сосредоточена именно на герое-субъекте. Он проживает свою драму в неостанавливающемся процессе бытового обихода, среди тех «обстоятельств», которые, по мнению Е.
Щегловой, поглощают у писательницы живого человека, словно черная дыра [212, с.53]. Но, вопреки утверждению критика, Петрушевская не становится автором-дегуманизатором, потому что в ее поэтике из подробностей серых будней и мелкого быта вырастает духовная жизнь героя. Проблема антропологии писательницы неразрывно связана с повествовательной стратегией, поскольку концепция личности у Петрушевской, как и у М. Зощенко и А. Платонова, обусловлена способностью героя и восприятию и субъективной интерпретации окружающего. По нашему мнению, творчество Петрушевской отражает диалектику времени и личности автора, принявшего «вызов» своей «больной» эпохи.
Научная новизна настоящей работы, представляющей первое монографическое исследование творчества Л. Петрушевской, заключается в том, что:
1) впервые осуществлена попытка целостного анализа ее прозы в
аспекте исследования многообразных форм «сближений-отталкиваний» с
художественными мирами русских классиков и современных писателей;
2) анализ прозы Л. Петрушевской проводится с точки зрения развития
сказового и сказоподобного повествования в русской литературе, прежде
всего в прозе М. Зощенко и А. Платонова
Целью диссертации является, таким образом, исследование традиции сказа в прозе Л Петрушевской. Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
1) раскрыть сущность феномена прозы Петрушевской, рассмотрев
формы повествования и образ повествователя;
2) «вписать» прозу Л. Петрушевской в движущуюся панораму
культурного процесса, в контекст произведений русской сказовой и
сказоподобной прозы, типологически и сюжетно близкой ее произведениям.
Материал исследования составили журнальные публикации Петрушевской и сборники ее произведений - «Бал последнего человека» (М.,
1996), «Дом девушек» (М., 2000) и «Настоящие сказки» (М., 2000)1, а также проза М Зощенко и А. Платонова
Методологической базой исследования послужили труды по теоретической поэтике В.В. Виноградова, P.O. Якобсона, В.М. Жирмунского, О.М Фрейденберг, Д. С. Лихачева, Е.М Мелетинского, работы в области семиотики культуры М.М. Бахтина, Вяч. Вс. Иванова, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Р. Барта и др. В работе используются структурно-типологический и герменевтический методы исследования. Выбор методологического комплекса согласуется с принципом исторической детерминированности творчества Петрушевскои, позволяющим рассмотреть прозу писательницы в контексте основных тенденций развития литературного процесса XIX-XX веков и выявить ее поэтологические новации, а также с принципом имманентного анализа, который поможет раскрыть особенности художественной системы автора. Отдельные положения диссертации складывались под влиянием идей феноменологии и литературной антропологии.
Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы для углубленного изучения творчества современных писателей, для создания картины развития русской прозы XX века, принципов и форм ее наррации. Основные положения диссертации могут быть включены как в курс лекций по истории русской литературы, так и в спецкурсы, посвященные творчеству писателей, активно обращающихся к сказовым формам повествования.
Структура исследования предполагает наличие в работе двух глав: в первой рассматривается сказ как самостоятельный тип повествования, изучению сказоподобного повествования посвящена вторая.
В первой главе «Сказовая стилизация в новеллистике Л. Петрушевскои» сказ писательницы рассматривается в рамках развития
В 1998 году в Харькове вышло пятитомное собрание сочинений Л. Петрушевскои.
традиций новеллистики М. Зощенко. Представлен «человек внешний», для исследования которого применяется формула: «от речевого поступка - к действию». Данный подход определен спецификой сказа, где слово выступает одновременно и субъектом, и объектом речи [122, с.79].
В параграфе 1.1. «Стилевые тенденции «деструкции» и «игры» сказовое слово исследуется как единица модернистской поэтики, то есть как субъект повествования, а не просто элемент художественного образа или сюжета Модернизм высвечивает важнейшее свойство слова, отмеченное А.А. Потебней, - его способность быть целым художественным произведением [151, с. 182]. В творчестве Петрушевской утверждается независимость слова, освобождение его от коммуникативной функции, подчиняющей слово сюжету [51, с.ЗЗ, 104].
Ритмический рисунок прозы Л. Петрушевской создается взаимодействием «деструктивных» и «игровых» стилевых тенденций, которые отмечались многими критиками. Так, Г. Г. Писаревская обращает внимание на «игровую основу, утрированность, ориентацию на литературную интертекстуальность» в произведениях Л. Петрушевской [138, с.95]. Анализируя новеллу «Свой круг», И.П. Смирнов говорит о разрушении как о единственно возможном «разрешении сложной проблемы» у писательницы [167, с. 11]. На наш взгляд, тенденции «деструкции» и «игры» являются стилевыми доминантами поэтики Петрушевской и поэтому требуют серьезного научного анализа
В параграфе 1.2. «Шутовство как форма поведения рассказчика» рассматривается стиль произведений, «язык» Л. Петрушевской, формирующий поведенческий код героя-рассказчика Наиболее адекватно стиль поведения такого рассказчика можно определить как шутовство.
В параграфе 1.3. «Рассказчик и повествователь в системе точек зрения» исследуется иерархичность «голосов», стоящих за рассказчиком, что создает «нелинейность» сказа Л. Петрушевской.
В сказоподобном повествовании внутренний мир персонажа раскрывается через последовательную реализацию его точки зрения. Поэтому фактическим героем второй главы диссертационного исследования «Поэтика сказоподобиого повествования в прозе Л. Петрушевскои» стал «человек внутренний» в единстве его телесного, душевного и духовного наполнения. В данной главе проза Л. Петрушевскои рассмотрена в свете повествовательных традиций А. Платонова
В параграфе 2.1. «План персонажа: судьба «маленького» человека» объект изображения, «маленький человек» Л. Петрушевскои рассматривается как субъект повествования, субъективность которого поднимается на аукториальный уровень. Данный персонаж реализуется на фоне такой художественной модели, как юродивость.
Параграф 2.2. «Движение воспринимающего сознания «от логоса к мифу»: поэтика неомифологизма» исследуется пристрастие к изображению реальности из «глубин души человеческой» (Ф.М. Достоевский), которое сформировало в литературе XX века тенденцию «ухода от рационалистических приемов в пользу... обращенных к сфере подсознательного». Это, в свою очередь, приводит к развитию «символико-мифологического психологизма», возвращающего в литературу многие формы древнейшей архаической поэтики [82, с.8]. Данные формы встречаются в прозе А. Платонова и Л. Петрушевскои. В параграфе рассматривается специфика «мифопоэтической гносеологии Петрушевскои, отличающая ее от неомифологизма Платонова.
В параграфе 2.3. «Свой» и «чужой» миры в микрокосме Л. Петрушевскои» исследуется функционирование важной для поэтики А. Платонова антиномии свой-чужюй (здесь и далее курсив наш. - O.K.) в прозе Л. Петрушевскои. Одновременно привлекается современный писательнице литературный контекст «женской прозы» - произведения К Садур и Т. Толстой. Данный феномен которой далек от так называемой «дамской
16 литературы» - «благополучного чтения, доставляющего удовольствие» [1, с. 13]. Антиномия свой-чужой, становясь для героев «женской прозы» призмой мировосприятия, придает конфликту экзистенциальный характер.
Исследование прошло апробацию в работе научных конференций. По теме диссертации опубликовано десять статей.
Понятно, что ввиду отсутствия монографических работ о прозе писательницы нами активно используется материал литературно-критических журнальных и газетных статей, которому, однако, мы пытаемся придать форму научной рефлексии. Считаем, что наше исследование будет иметь научно-практическую направленность, станет одной из первых диссертационных работ, посвященных сказовой поэтике в литературе второй половины XX века, и послужит началом к появлению научных монографий, осмысляющих феномен прозы Л. Петрушевской.
Стилевые тенденции «деструкции» и «игры»
Выяснение неповторимого своеобразия индивидуального стиля художника становится сегодня актуальной проблемой во многих сферах искусствознания и, особенно, в литературоведении. Осмысление категории стиля для ряда литературоведческих школ стало ведущей проблемой, поскольку фундаментальность этой категории для художественного творчества очевидна. Стиль организует в систему автономную логику всех художественных структур, формальных компонентов текста -выразительных средств, образных деталей, жанра, композиции, интонации. В то же время в индивидуальном стиле реализуются закономерности литературного развития. Таким образом, в категории стиля воплощается философское понимание единства формы и содержания. Язык, материя литературного произведения, становится ключом к авторской аксиологии и методологии.
Вопросы метода и стиля, важнейших познавательно-ценностных компонентов искусства, в творчестве Л. Петрушевской решаются достаточно своеобразно, вызывая противоречивые оценки критиков. А. Михайлов относит творчество Петрушевской к реализму, утверждая, что «жизнь, из которой состоят ее рассказы, заслоняет их формы» [117, с.4]. М. Золотоносов, напротив, видит в Петрушевской писателя-сюрреалиста, возвращающего слову его объем и плотность, хотя и не отрицает «психологической остроты» ее прозы, ставшей «эстетически «снятым» итогом психологического анализа, в том числе и самоанализа» [56, с.23]. Это суждение поддерживает Л. Панн, написавшая о феноменальной способности Петрушевской «слышать и язык жизни, и язык литературы» [135, с. 198].
Мнение исследовательницы разделяет Е. Шкловский, сравнивая тексты Петрушевской с двуликим Янусом: они обращены как в сторону реальной жизни («вроде бы и в рамках натуральной школы»), так и в сторону словесности [206, с.4].
Задачи, поставленные Л. Петрушевской в области художественной формы, определились рядом факторов. Во-первых, влиянием бытового и речевого уклада, общественных и эстетических приоритетов современности. Во-вторых, связью со стилевой средой эпохи, с идиостилями писателей-современников. И наконец, в-третьих, восприятием стилевого опыта прошлого. На наш взгляд, семантическая насыщенность области языкового выражения, диалектическая «игра», которую Л. Петрушевская ведет со своими предшественниками, обеспечивают особую продуктивность восприятия ее прозы в рамках модернистской традиции сказа Стилевые открытия Петрушевской накладывают особый отпечаток на созданный автором художественный мир, который, тем не менее, остается открытым для сравнения и сопоставления с мирами, создаваемыми другими художниками. При этом диалектика влияния или преемственности связана с тем, что авторы решают в чем-то сходные жизненные и художественные задачи. Данная точка зрения обусловливает актуальность анализа взаимопересечений прозы писательницы и произведений таких представителей русской сказовой парадигмы, как Н.В. Гоголь и М.М. Зощенко. Выявление общих и индивидуальных структур в произведениях Л. Петрушевской и ее предшественников позволит наиболее полно обозначить уникальность сказа писательницы.
Стилистическое разнообразие художественного формотворчества в сказе Петрушевской может быть сведено к двум поэтическим комплексам -«деструктивному» и «игровому», которые, будучи проявлениями карнавальной поэтики, взаимообусловливают друг друга Рассматривая сказовую стилистику Петрушевской как явление комплексное, целесообразно привлечь опыт М. Зощенко, в произведениях которого можно наблюдать взаимопроникновение различных стилевых тенденций, в том числе «деструкции»1 и «игры».
Типологическая близость творчества М. Зощенко и Л. Петрушевской просматривается, прежде всего, в отношении этих авторов к речи. Отмеченная исследователями агрессивность лексических средств, «разрушающая сложившиеся в российской словесности стилевые конвенции» [115, с.55], является ядром их художественных систем. О деструкции как одной из черт поэтики Зощенко пишет И.П. Смирнов [168, с. 185], говоря о ней применительно к трем уровням поэтического текста -стилистическому - уровню, на котором прослеживается связь единиц языка (звуков, слов и предложений) друг с другом; семантическому, соответствующему плану содержания конкретного знака и отраженному в проблемно-тематическом компоненте произведения и прагматическому, изучающему отношение к сообщаемому говорящего или слушающего и в тексте проявляющемуся в сложной системе точек зрения повествователя и персонажей.
«Принцип деструкции» последовательно реализуется на всех трех уровнях поэтики и проблематики прозы Л. Петрушевской, являясь, прежде всего, организующим началом ее стиля. На стилистическом уровне произведения Л. Петрушевской, так же как и новеллы М. Зощенко, полны чувства разрушения целостности бытия. Это выразилось в такой черте стиля, которую М.О. Чудакова назвала «испорченным словом» [201, с.57]: речь героев представляет собой коллаж дискурсов - языковой массив, организованный мозаикой просторечия, специальной, например, военной или научной лексики, блатного жаргона, канцеляризмов и вульгаризмов. Подобной дисквалификацией человеческой речи, отказом от позитивизма и детерминизма в пользу «вероятностно-множественной» логики - проблемами чисто экзистенциального плана- объясняется востребованность сказовой манеры повествования. Кроме того, эмоционально-экспрессивный компонент сказовой стилистики, часто заслоняющий, затемняющий наличный фабульный материал, также приводит к эффекту «деформации внешнего мира как деформации представлений эмоциями» [38, с. 179].
Рассказчик и повествователь в системе точек зрения
Образ рассказчика заслуживает более пристального внимания, так как центрирует художественную систему Л. Петрушевской. Уже в начале XX века «важным становится не само по себе изображение быта, а восприятие его субъектом устной речи, обращенной к «своему» слушателю» [122, с. 125].
Близость Зощенко в ее прозе определяется стремлением найти рассказчика, способного адекватно отразить сознание человека переломной эпохи - перехода от капитализма к социализму у Зощенко и обратно - у Петрушевской. Словом «перестройка», знаковым для 1980-1990 годов, характеризуется и историческая ситуация, в которой существует зощенковский рассказчик. В «Голубой книге» он прямо заявляет: «Все-таки прошло не так-то уж много лет после перестройки» [59, с.236].
Резкая классовая поляризация 20-х годов определила у Зощенко поиск рассказчика то в «пролетарско-писательской» среде, то в «интеллигентской», о чем он говорит в статье «О себе, о критиках и о своей работе» [60, с.41]. У Петрушевской выбор рассказчика подчинен иной логике: здесь и женщина из «научной интеллигенции» («Свой круг»), и 18-летняя девушка («Новые Робинзоны»), и сумасшедший мужчина («Новый Гулливер»).
Рассказчик у Зощенко - это человек с периферии «крупных революционных событий», как Ефим Григорьевич из рассказа «Жертва революции», Назар Ильич Синебрюхов, герои «сентиментальных повестей» («Коза», «Аполлон и Тамара», «Люди», «Страшная ночь», «Сирень цветет»). Рассказчик Петрушевской - маргинал, для которого картофелина - праздник, а корка с сахаром - «пирожено» («Время ночь»). «Суп из собак» на ужин («Маленькая волшебница») и «одно вечное пальто на зиму и три платья, одно страшнее другого» («Бог Посейдон»). Герой-рассказчик Петрушевской освобожден от идеологем и стилевых норм, давлеющих над человеком-носителем социальных ролей. Неприятие этих ролей, «социальная ограниченность» героя, формируют особый «грамматикой» и «лексикон», которые несут печать времени [169, с.99]. Сказ позволяет герою обрести собственный голос и дает возможность заявить о своей причастности к «пролетевшей мимо» жизни. Как размышляет рассказчица «Своего круга»: «Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские или югославские события, прошли какие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей, сидящих в лагерях, - все это пролетело мимо» [141, с.220]. Таким образом, у Петрушевской намечается тенденция говорить от имени человека просто, человека, переставшего быть тем или иным представителем замкнутых идеологических, национальных или возрастных групп.
В осознании необходимости говорить о себе у героев Петрушевской проявляется безотчетное подчинение чувству, отмеченному еще древним человеком - чувству «параллелизма слова-жизни и немоты-смерти», которая «отвращает... акт рассказывания», потому что «дар слова совпадает с даром жизни» [191, с.125]. Говорить для героя - это и единственная возможность оставаться человеком. В его голосе как бы провозглашается императив: «Говорю, следовательно существую!». Голос становится метафорой прорыва сквозь суету, сквозь штампы, к бытию.
Сказовое слово как минимум двухголосое: над ненадежным рассказчиком высится фигура автора. Однако стиль «нейтрального», несказового повествования у Петрушевской указывает на возможность более сложной иерархии голосов: наличия за спиной рассказчика некоего повествователя, действующего через рассказчика - это его, а не «авторская» маска.
«Нейтральному» повествователю у Петрушевской, как и любому ее рассказчику, свойственны грамматические неправильности, штампы, стилевая какофония, свидетельствующие о деградации языка повседневности. В «нейтральном» повествовании Петрушевской находим то же, что и в сказовом, «испорченное слово»: «удивительно воздействие группового отдыха», «один дядечка из племени пузатых», «семейники» («С горы»); «все проблемы обострились до неузнаваемости», «было полное не то», «краса очей и зеница ока», «ехала в электричке, плача в полном смысле слова» («Хэппи-энд»); «у нее сабантуй, все превращается в событие и выпить коньячку», «выражение под очками вытаращенное», «бегала, тоже занимала в отдел преступлений к преступникам» («Непогибшая жизнь»); «закоренелое сердце» («Дочь Ксени»), «близлежащая богатая москвичка», «народная тропа к ней не просыхала», «и она и есть она», «грубятина», «человек, угощенный бутылкой по чему попало», «хозмужики с большими мечтами», «такие дела» («Поэзия в жизни»); «поддавали раз и два по башке», «химики по ядохимикатам», «ужасная морда вечной гостьи» («Как ангел») и т.д.
План персонажа: судьба «маленького человека»
Повествование Л. Петрушевской в рассказах, написанных «от третьего лица», имеет ряд особенностей, позволяющих рассматривать его в парадигме сказоподобных форм. Рассмотрим эти особенности на примере небольшого отрывка из рассказа Петрушевской «Борьба и победа». Вот этот отрывок: «Жена не плакала, лицо ее горело, она сама это чувствовала, румянец выступил, вероятно, на ее бледных щеках, глаза блестели от непрошенных слезинок, голос прерывался. Все ради тебя, чтобы тебя не терзать» [145, с. 16]. Выделенные нами элементы текста позволяют идентифицировать данное внешне «нейтральное» повествование как сказоподобное. Действительно, в рассказе главная героиня как будто показана со стороны некоего повествователя-наблюдателя или «автора», о чем свидетельствует называние ее в третьем лице - жена, она. Если и далее следовать этой точке зрения, то становится непонятным сомнение повествователя по поводу внешних, видимых стороннему наблюдателю, изменений в героине, то есть появления у нее румянца. И уж совсем странно выглядит обращение повествователя к мужу героини — второе предложение отрывка. Становится ясным, что субъектом сомнения и «автором» обращения к мужу является сама героиня. Л. Петрушевская формирует феномен имплицитного автора, совпадающего с героем по точке зрения в плане идеологии, психологии и фразеологии.
Усиление плана персонажа в повествовании - знак литературы начала и конца XX века, но а сама традиция объективации повествования возникает в XIX веке, являясь, например, стилевой особенностью произведений Ф.М. Достоевского. По словам М.М. Бахтина, «герой интересует Достоевского как особая точка зрения на мир и на себя самого... Ему важно не то, чем герой является в мире, а прежде всего то, чем является для героя мир и чем является он для себя самого» [10, с.75].
В конце XIX - начале XX века традиция Достоевского актуализируется и обновляется А.П. Чеховым, для которого, как отмечает А.П. Чудаков, с самых первых шагов в литературе была «неприемлема позиция включенности автора в изображаемый мир... Он целиком принадлежит его героям; рассказ о нем ими же и предваряется... Мир изображен изнутри, повествовательная маска человека из описываемой среды» [200, с.35]. Так, рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда» начинается с описания города, где живет главный герой-гробовщик, и в этом описании повествователь сокрушается, что в городе «жили одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно». Понятно, что роль «повествователя». в этом рассказе отведена самому персонажу, потому что в данном случае испытывать досаду может только он. А в рассказе «Кухарка женится» само название говорит о том, что содержание будет передано через призму сознания ребенка
Специфика организации сказоподобного повествования в том, что субъективный план автора и персонажа не имеет четкого водораздела Автор ведет свой диалог с историко-культурным контекстом через менталитет и повседневность героя. Этот тип повествования оказался широко востребованным русской литературой XX века, так как давал автору еще и возможность для саморефлексии: герой становился воплощением многочисленных alter ego автора Данная повествовательная ситуация вписывается в контекст глобального общекультурного явления XX века — интериоризации, характеризующейся неразрывностью единства наблюдателя и наблюдаемого.
В период 20-30-х годов XX века рост демократических тенденций в литературе актуализирует опыт сказоподобного повествования, в частности, чеховских традиций, которые достаточно ярко проявляются в творчестве А. Платонова Анализ идейно-тематического содержания произведений Платонова позволяет сказать, что чеховский поэтический опыт наследуется писателем не только на уровне повествовательных стратегий, но и в плане эсхатологических предчувствий. Позже эсхатологические тенденции «материализуются» в прозе Л. Петрушевской, создавшей, по словам М. Ремизовой, «принципиально катастрофичный мир» [155, с.4]. Осмысливая бытийную трагедию человека, писатели XX века формируют свои художественные миры как процесс непрерывной перекодировки объективной реальности в субъективный психический опыт героя, превращая текст в гигантский монолог, не столько описывающий, сколько выговаривающий внутренний мир героя. В записных книжках Платонова читаем: «Все искусство заключено в том, чтобы выйти за пределы собственной головы... Субъективная жизнь - в объекте, в другом человеке. В этом вся тайна»1.
Таким образом, в сказоподобном повествовании намечается уход от прямой публицистичности в авторском самоопределении, зашифровывающий художественную концепцию произведений этих авторов и становящийся причиной для отрицательных оценок современников. Так, А.П. Чехов был обвинен своими современниками в «писательской несостоятельности»: Л. Оболенский писал в 1897 году, что Чехов изображает «почти только одну внешнюю сторону явлений, не стараясь почти ни разу проникнуть в мир душевный всех этих людей» [Цит. по: 200, с.280]2. Подобные «психологические бреши» находили и у писателей, продолжающих традиции АП. Чехова Один из критиков в 1937 году назвал героя А Платонова «покоренным болезненными теориями» «неврастеником» и «хлюпиком», а не «сыном народа» [Цит. по: 146, с.6]. Этот критический ряд можно продолжить высказыванием Е. Щегловой, написавшей, что Петрушевская попросту «громоздит одно несчастье на другое, не делая даже попытки проникнуть в их человеческую первооснову» [211, с. 195]. В приведенных негативных оценках заметно сужен и упрощен метод рассматриваемых писателей, в произведениях которых всегда наличествует второй план развития действия.
«Свой» и «чужой» миры в микрокосме Л.Петрушевской
Диалог с хаосом - один из основных принципов художественного моделирования у Л. Петрушевской. Антагонизм жизненной гармонии и энтропииности смерти - космоса и хаоса - представляет собой, по словам Е.М. Мелетинского, «высший смысл оппозиции свой-чужой» [114, с.61].
Фундаментальность роли антиномии свой-чужой в поэтике Л. Петрушевской связана, прежде всего, с повествовательной стратегией, выбранной писательницей. «Проникая в сознание героя», автор начинает «видеть мир его глазами, и мир этот предстает на первых порах чужим, непонятным» [122, с.204]. Антиномичными отношениями своего-чужого пронизано и мировосприятие самого героя у Петрушевской.
Данная антиномия связывает поэтические миры Л Петрушевской и А. Платонова Исследователи-платоноведы рассматривают «мифологему свой-чужой» как один из важнейших элементов «мифопоэтики» писателя [179, с.298], указывают на «неизменное пограничье платоновского локального пространства... между своим и чужим, жизнью и смертью» [33, с.60] и говорят о совмещении экзистенциального восприятия мира и мифопоэтического, которое также осмысливается через антиномию свой-чужой [179, с.304]. У Петрушевской эта антиномия культивируется уже в «Песнях восточных славян», в которых, по закону жанра быличек, мир четко «делится на свой - обыденный и чужой — чудовищный» [26, с. 82].
Антиномия свой-чужой организовывает полюса художественных миров таких программных для обоих авторов произведений, как «Котлован» у Платонова и повесть «Время ночь» у Петрушевской. Исследуя концепцию своего и чужого в поэтике этих произведений, целесообразно привлечь ближайший для Петрушевской литературный контекст - контекст современной «женской прозы». Данный феномен представляет собой достаточно разнородный художественный материал - от коммерческого чтива (любовный, детективный или фантастический роман) до серьезной и сложной «авторской» литературы. В поисках систематического подхода к явлению «женской прозы» М. Абашева предлагает отделять «женскую прозу» как жанровое образование беллетристической направленности от «сильной прозы, особых художественных миров» ряда современных авторов-женщин, к которым она с полным правом относит таких писательниц, как Л. Петрушевская, Т. Толстая и Н. Садур [1, с. 14]. В творчестве этих авторов, как и у представительниц современной «женской прозы», А. Ванеевой, И. Полянской, Р. Мустонен, Н. Горлановой, П. Слуцкиной и др., в центре повествования часто остается женская судьба. Но у Петрушевской, Садур и Толстой жизнь героинь, скорбных, усталых, растоптанных, превращается в «драму... не столько социальную или тендерную, сколько экзистенциальную» [31, с.62]. Подобно тому, как детективный, бульварный роман Ф.М. Достоевского становился романом философско-психологическим, бытовая «женская» история у этих трех современных писательниц высотой и правдой переживания превращается в повесть драматическую.
Две «женские» повести современниц Л. Петрушевской - «Лимпопо» Т. Толстой [181] и «Юг» Н. Садур [162] становятся оптимальным контекстом для анализа антиномии «свой-чужой» в произведениях А. Платонова, поскольку творчество А. Платонова подверглось активной рецепции со стороны именно этих современных писательниц, что и было замечено критикой. Так, А Соколянский в необычной на первый взгляд манере письма Н. Садур видит влияние «гениального словесного мученичества А. Платонова» [172, с.236]. Апелляция к гротеску и условности у Т. Толстой также объясняется вниманием к прозе Платонова
Платоновский слой в пространстве рассматриваемой современной «женской прозы» становится более очевидным, если иметь в виду притчевую интенцию последней: и «Лимпопо» Т. Толстой, и «Юг» Н. Садур можно считать своеобразными притчами апокалипсиса, ориентированными на ситуацию, описанную в «Котловане». Но эта повесть Платонова отнюдь не становится текстопорождающей матрицей для исследуемых здесь произведений современных авторов. В данном случае целесообразно говорить о приеме «стилистического транспонирования известных литературных конструкций», приводящем к сходному эстетическому эффекту в культурно и типологически близких художественных системах [27, с. 104]. Одной из таких конструкций является антиномия свой-чужой.
Семантическая оппозиция свой-чужой относится к группе древнейших антиномий, к тому «изначальному фонду» знаний о мире, которые запечатлены в бессознательном в качестве основных параметров описания модели бытия [156, с.238]. Использование подобного материала А. Платоновым и современными писательницами и формирует притчевость семантического пространства их произведений, поскольку притча является «смыслокреативным экзистенциально-символическим феноменом, в н е -культурным и укорененным в бессознательном» [170, с.76].
Основой притчеобразности в тексте является символ -«самостоятельная структурно-композиционная единица, редуцированная... до одного... образа и заменяющая несколько сюжетных ходов, при помощи которых можно достигнуть такой же степени идейной обобщенности» [73, с.74]. Такие символы имеются во всех четырех привлеченных для анализа \ произведениях. О их концептуальной художественной нагрузке в каждом ; тексте говорит то, что все эти образы-символы вынесены в заглавие и коннотированы как элемент хронотопа Котлован, река Лимпопо, Юг и время ночь - это топосы прорыва привычных измерений и вторжения другой реальности, странным образом преобразующей окружающую действительность. Герою открываются неведомые ему доселе пространства, в которых возможно путешествие души.