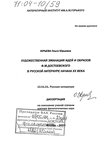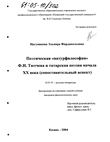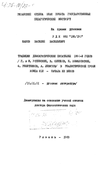Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Своеобразие семантического поля «музыка» в русской лирике пресимволизма и символизма 27
1.1. Воплощение оппозиции «Я - не- Я» в образной структуре семантического поля «музыка» в лирике И.Ф.Анненского 29
1.2. Особенности образов музыки в контексте развития сюжета лирической трилогии А.А.Блока 41
1.3. Образы музыки как средства раскрытия образа лирического героя в поэзии А.Белого 59
Глава 2. Особенности образов музыки в новокрестьянской поэзии 74
2.1. Музыкальные образы в художественной картине мира Н.А.Клюева 75
2.2. Образы музыки в их взаимодействии с образами лирического героя и родины в поэзии С.А.Есенина 99
Глава 3. Специфика смыслового наполнения музыкальных образов в лирике постсимволизма 115
3.1. Образная реализация представлений о мире и человеке в рамках семантического поля «музыка» в лирике В.Хлебникова 118
3.2. Особенности взаимодействия семантических полей «музыка» и «культура» в лирике О.Э.Мандельштама 134
3.3. Функциональное значение образов музыки в лирике А.А.Ахматовой 152
Заключение 177
Приложение 184
Список использованной литературы
- Воплощение оппозиции «Я - не- Я» в образной структуре семантического поля «музыка» в лирике И.Ф.Анненского
- Особенности образов музыки в контексте развития сюжета лирической трилогии А.А.Блока
- Музыкальные образы в художественной картине мира Н.А.Клюева
- Образная реализация представлений о мире и человеке в рамках семантического поля «музыка» в лирике В.Хлебникова
Введение к работе
Серебряный век русской литературы1 - феноменальный период истории отечественной культуры, хронологически очень компактный, по сути, укладывающийся в полтора-два десятилетия на рубеже XIX - XX веков и вместе с тем отмеченный чрезвычайной насыщенностью художественных и духовных поисков. Характеризуя эпоху Серебряного века, говорят о культурном ренессансе в целом, выделяя прежде всего небывалый расцвет поэзии. Развитие русской поэзии начала XX века неотделимо от процесса развития русской культуры в целом, поэтому отметим некоторые общие особенности поэзии Серебряного века.
Конец XIX - начало XX века в русской поэзии - эпоха модернизма. Некоторые исследователи в качестве синонима термина «модернизм» используют термин «неоромантизм». Этот термин впервые был введён в научный оборот С.А.Венгеровым, применившим его в 1914 г. по отношению к новейшим поэтическим веяниям [52: 1 - 54]. Романтические черты мировосприятия поэтов Серебряного века отмечали многие исследователи. А.Климентов посвятил целую монографию обоснованию романтической концепции символизма [88]. О развитии романтических мотивов в русской литературе начала XX в. писали В.М.Жирмунский [78] и М.Гофман [67]. Современная исследовательница М.А.Воскресенская утверждает, что «Серебряный век русской культуры - это время подлинного, истинного, внутренне мотивированного расцвета романтической традиции в России» [56: 92].
Такой подход, разумеется, обоснован, так как объясняет, насколько важна была для модернистов ориентация на романтическое начало. Всё же, на наш взгляд, это не раскрывает до конца сущности модернизма как принципиально нового направления в мировой литературе. Поэтому мы будем исходить из того, что романтизм является лишь начальной стадией модернизма.
1 В своей монографии «Серебряный век как умысел и вымысел» [М.: ОГИ, 2000] Омри Ронен обращает внимание на условный и «ненаучный» характер термина «Серебряный век». Мы, помня об этом, всё же будем использовать его для обозначения периода расцвета русской культуры конца XIX - начала XX века, поскольку этот термин уже стал традиционным в отечественной и зарубежной науке при рассмотрении литературных явлений той эпохи.
Действительно, точек соприкосновения романтизма и модернизма множество. В первую очередь необходимо отметить мировоззренческую близость этих двух направлений. Важнейшей чертой, объединяющей художественное сознание романтиков и модернистов, является универсализм. Это понятие многогранно. Так, в сознании немецких романтиков Ф.Шлегеля, Шеллинга, Новалиса, Вакенродера оно предстаёт как «взаимное насыщение всех форм и всех материалов», «постоянное движение в преодолении вечной незавершённости», «непрерывная цепь внутренних революций» [178: 316]. При этом важная роль отводилась единству поэзии с другими видами искусства и философией («теорией поэзии», по Ф.Шлегелю). Таким образом, универсализм неразрывно связан с понятием художественно синтеза, общей и крайне значимой для романтизма и модернизма категорией.
Так, И.Г.Минералова предлагает применительно к поэтике символизма наряду с термином «символ» использовать термин «художественный синтез» как широкое понятие: некий «известный компонент символизма» и формулу символистского сознания [121: 10]. Т.Л.Шумкова в свою очередь обнаруживает эту особенность художественного сознания у немецких романтиков, отмечая, что «универсальность гармонического синтеза антропоцентрична», «устремлена к духовному миру человека» [182: 40]. Это созвучно и высказываниям самих романтиков. Например, Шлегель писал: «Человечество - это высшее искусство, и искусство существует ради него» [178:400].
Гуманистический и изначально нравственный пафос связан ещё и с тем, что романтики, а вслед за ними и модернисты (особенно символисты), в искусстве видят подобие религии. В.Г.Вакенродер писал: «Искусство можно назвать прекрасным цветком человеческих чувств. В вечно меняющихся формах оно расцветает по всей земле, и общий Отец наш, что держит землю... в своей руке ощущает единый его аромат. Во всяком создании искусства... Он замечает следы той небесной искры, которую сам вложил в человеческое сердце: её свет возвращается к великому создателю из творений рук человеческих» [104: 71 - 72]. Исключительную роль здесь играет личность
5 художника, который в своём искусстве продолжает миротворение: «Музыка - это поэзия. Поэт сочиняет историю. Пока не было музыки, человеческий дух не мог вообразить себе радость, красоту, полноту жизни» [там же: 89].
Эта концепция поэта-творца получила своё развитие в творчестве русских символистов. Для них искусство было прозрением сущности мира, а художник - теургом: «Художник - это тот, для кого мир прозрачен, кто... видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним» [14: V, 418]. Однако сближение искусства и религии было общей тенденцией эпохи Серебряного века. Священнослужитель Г.В.Флоровский так написал об этом: «Это был особый путь возврата к вере, через эстетизм и через Ницше, и в самой вере оставался осадок этого эстетизма, остаток искусства и литературности. Раньше у нас возвращались к вере через философию... или через мораль... Путь через искусство был новым» [167: 456]. Можно добавить, что для многих поэтов это был путь возвращения и к своему народу, а значит и к себе. Художники ощущали грандиозность и катастрофичность происходивших социальных и политических перемен, «подлинно народное видели в осознании глубокой неизбывной религиозности» [56: 142].
Именно национальное религиозное чувство стало той основой, на которой сформировалась уникальная по своей напряжённости и мистико-метафизическому пафосу духовная атмосфера Серебряного века. Это свойство русской культуры представляет собой синтез порой взаимоисключающих компонентов: ортодоксальной христианской метафизики и атеистического бунта, религиозной философии и «неоязычества», основанного на традиционном народном двоеверии, бытовом мистицизме. Этот комплекс мироощущений выражается в поэзии, понимаемой художниками Серебряного века как синоним высокой гармонии; в эту эпоху религиозное чувство эстетизируется, а поэзия становится формой религиозного знания.
Взаимопроникновение искусства и религии ставит поэта начала XX века в ситуацию выбора между позициями творца и пророка. Попытки большинства поэтов осознать своё предназначение в искусстве оканчивались ав-
торским мифотворчеством. Поэты прибегают к мифу как форме эмоционального переживания мира; они переосмысляют миф в соответствии с современностью, чтобы лучше понять свою эпоху и самих себя. Несмотря на то, что авторские мифологические системы основываются на различных национальных (античных - у О.Мандельштама, африканских - у Н.Гумилёва, славянских - у Н.Клюева и В.Хлебникова и др.) и литературных («пушкинский» миф у А.Ахматовой и М.Цветаевой) мифах, вопрос о позиции поэта в мире остаётся ключевым. Он вписывает авторские художественно-мифологические системы в общекультурный контекст эпохи Серебряного века, актуализируя ряд важных эстетических проблем.
Одной из них является противостояние личности толпе. Модернисты провозгласили приоритет личности; только она способна на истинно творческий акт, на раскрытие человеческой души через искусство. Так, Вяч. Иванов в «Заветах символизма» писал о том, что главным для поэта является способность «заставить самую душу слушателя петь другим, нежели он (поэт. -А.Д.) голосом, не унисоном её (души поэта. - А.Д.) психологической верности, но контрапунктом её сокровенной глубины, - петь о том, что глубже показанных... глубин и выше разоблачённых... высот» [103: 107]. В неоромантической атмосфере культуры начала XX века художник отворачивается от толпы и ищет точки соприкосновения с другими мирами. Так, актуализируется ещё один признак романтического искусства - двоемирие. Основной и наиболее общей, на наш взгляд, формой его проявления в смысловом поле русской лирики является оппозиция: культура (сфера, связанная с жизнью человека) и природа (сфера, не зависящая от воли и деятельности человека). Личность стремится вырваться за границы своего мира, прикоснуться, с одной стороны, к стихии - тёмному, дионисийскому началу, а с другой - к аполлонической, светлой, упорядоченной гармонии космоса. Поскольку личность изначально ограничена рамками культуры, основным путём и результатом её самореализации становится искусство, альтернативное социуму.
Для модернистов и романтиков, особенно значимым видом искусства становится музыка. Этот интерес был продиктован как ощущением внутренней близости музыки и поэзии, так и интенсивностью развития музыкального искусства на рубеже XIX - XX веков. К девяностым годам XIX столетия музыка достигает высокого уровня развития. Сложилась оригинальная русская композиторская школа; действуют две крупные консерватории в Петербурге и Москве; работают оперно-балетные театры, среди которых особенно известны петербургский Мариинский театр и московский Большой; на русской сцене проходят гастроли оперных трупп, выдающихся дирижеров и исполнителей из разных стран Европы; в 1907 г. Сергей Дягилев организовывает пять «исторических концертов» русской музыки в парижском Гранд-опера. Всё это свидетельствовало об общем подъёме культуры в России.
Музыковед и искусствовед Ф.Розинер определяет основные черты музыкальной жизни той эпохи: «Большее... тяготение к эстетическому подходу в музыкальном искусстве (вместо "социального" и "исторического"), к эпическим и философским сторонам творчества... к чисто технологическим новшествам» [86: 445]. Последнее подразумевает переосмысление традиций или отказ от них (например, А.Скрябин использует только мажорные тональности, а затем и вовсе создаёт своеобразную атональную систему) и попытки расширить границы музыки как искусства.
С эпохой Ренессанса русский Серебряный век роднит ещё и особая многогранность талантов художников (М.Кузмин - поэт и музыкант, В.Маяковский - поэт и художник, Б.Пастернак - поэт, прозаик, музыкант и художник и др.). Это также явилось воплощением общего для той эпохи стремления к художественному синтезу. Так, внутренняя связь музыки с другими видами искусства проявилась в творчестве художника и композитора М.К.Чюрлёниса, автора живописных «Сонат», «Прелюдий» и «Фуг». А.Скрябин, которого Вяч. Иванов именовал Орфеем, уничтожившим противоречие между Аполлоном и Дионисом, стремился к синтезу музыки и света. Его «Поэма экстаза», «Прометей», «Окрылённая поэма» и замысел грандиоз-
8 ной «Мистерии» становятся воплощением музыкального искусства в понимании символистов (ср. эссе К.Бальмонта «Светозвук в природе и световые симфонии Скрябина»; статья Вяч.Иванова «Скрябин и Дух революции»). Ф.Розинер писал об исключительной значимости творчества Скрябина для символизма: «И если одним из постулатов символизма являлось утверждение первенства музыки среди искусств... то можно утверждать, что символизм вообще как стиль, как идея, как эпоха в искусстве, выразил себя наиболее полно и наиболее адекватно своим собственным представлениям о себе именно в творчестве Скрябина» [86: 450].
Таким образом, музыка Серебряного века, сочетая в себе «космизм, с одной стороны, и субъективную эмоциональность, с другой» [86: 451], воплощает в себе основные черты художественного сознания эпохи. И более того, музыка превращается в его особую философско-эстетическую категорию, которая объединяет культуру и природу. При этом для рефлектирующего художественного сознания большое значение имеет решение вопроса о взаимосвязи музыки и лирики, причём поэты, стремясь ответить на него, часто руководствуются различными традициями.
Например, некоторых лириков (И.Анненского, В.Брюсова, О.Мандельштама) интересовал античный опыт. Они актуализировали в своём творчестве формы, образы и мотивы античной культуры. Особую ценность для художников начала XX века представляли античные мифы. В некоторых из них воплотилась идея единства музыки и поэзии. Согласно мифам, покровителем певцов и музыкантов является златокудрый Аполлон. Именно в Дельфах, где критские моряки основали храм Аполлона, впервые и прозвучало песнопение в его честь - хоровой благодарственный гимн «пеан», исполнявшийся исключительно под аккомпанемент кифары и лиры. Отсюда и термин «лирика», которым первоначально обозначались песни, сопровождавшиеся игрой на лире. Немаловажно и то, что в поздний период своего развития образ Аполлона приобретает черты Бога Вседержителя, что отразилось в текстах античных гимнов:
Златокудрявый вещатель грядущего чистых глаголов...
Всё перед взором простерлось твоим - и эфир бесконечный,
И под эфиром земли, зримы тебе и сквозь мрак звездами расцвеченной ночи,
В полной тиши её, корни земли и мира пределы,
Сердце заботит твоё и начало и всеокончанье,
О всецветущий, ведь ты кифарой своей полнозвучной
Ладишь вселенскую ось, то до верхней струны поднимаясь,
То опускаясь до нижней струны, то ладом дорийским
Строя небесную ось, - и всё, что на свете живого...
...Ведь у тебя - печать от всего, что есть в мирозданье...
(Гимн XXXIV, Аполлону) Своеобразным антагонистом Аполлона, олицетворением стихийной музыки
оргий выступает в мифах Дионис. Его музыка доводит слушателей до экстаза и сопровождается особым ансамблем, где ведущим был духовой инструмент -авлос, попавший в Элладу, как и Дионис, из Фригии. Музам - спутницам Аполлона (отсюда «музыка» - «мусическое искусство», «искусство муз») - противостоят вакханки Диониса, гармонии - хаос. Эта антитеза станет основной в программной и оказавшей огромной влияние на русскую поэзию начала XX века работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
Ещё один древнейший мифологический образ - Орфей, певец, победивший смерть во имя любви; в нём соединились музыкальное и поэтическое начала. Так, А.Белый в статье «Песнь жизни» переосмысляет мифологический образ Орфея и связывает его с животворящей силой песни: «Мы знаем одно: песня живёт, песней живут, её переживают; переживание - Орфей; образ, вызываемый песней - тень Эвридики - нет, сама Эвридика воскресающая. Когда играл Орфей, плясали камни» [9: 176]. Орфей становится символом вечной гармонии искусства. Белый проводит аналогию между сюжетом мифа и поэтическим творчеством: поэт, как Орфей, стремится вывести из неведомых глубин песню-Эвридику, возродить её силой своего переживания. Это метафора символистского искусства, воплощающая веру поэта в то, что он способен переписать законы судьбы, пересоздать мир по принципам красоты и гармонии.
Именно гармония была определяющей характеристикой в античном миросозерцании. Пифагор сравнил музыку с математикой и сопоставил музыкальные
Античные гимны / Сост. А.А. Taxo-Годи. -М.: МГУ, 1988. С.214.
10 принципы с законами природы, установив соотношения между планетами, созвездиями и элементами: «Столь большие тела своим быстрым движением должны были вызывать звучания... звуки эти созидают созвучную гармонию, построенную согласно музыкальным соотношениям тонов, так что солнечная система уподобляется семиструнной лире... Пифагор не говорит, что эти движения вызывают музыку, но что они сами - суть музыка» [127: II, 119]. Живая вселенная у Пифагора звучит особой гармонической «музыкой сфер», созидающей мир из хаоса. Подобное позже мы встретим в эстетике Шеллинга, а затем и А.Блока.
Итак, очевидно, что уже в эпоху античности сформировался двоякий взгляд на музыку: как на созидающую «музыку сфер» и как на один из видов искусства, причём находящийся в единстве с поэзией. Так, Аристотель в «Поэтике» даёт свою классификацию искусств, исходя из этого единства, а также из идеи подражания искусства природе. Сущностью искусства Аристотель, как и Платон, считает подражание («мимесис») внешнему миру. Виды поэзии он различает в зависимости от объектов, способов и средств подражания. Но даже при достаточно жёстких формулировках Аристотелю трудно провести чёткие границы между поэзией и музыкой, о чём свидетельствует тот факт, что в рамки шести видов поэзии, выделенных им, наряду с эпосом, трагедией, комедией, дифирамбом попадают авлетика (игра на авлосе) и кифаристика (игра на кифаре). Собственно же музыку Аристотель наделяет не только эстетическими, но и воспитательными функциями: «Музыка ведёт к добродетели, ибо она, подобно тому, как гимнастика делает здоровым тело, взращивает этос, то есть приучает нас к праведным наслаждениям» [32:23].
Нравственный пафос, связанный с синкретизмом христианского и языческого, лежит в основе фольклорной традиции, также воспринятой художественным сознанием Серебряного века. Она наиболее ярко проявилась в творчестве новокрестьянских поэтов футуристов. В аспекте соотношения музыки и поэзии фольклорное влияние на лирику начала XX века проявляется прежде всего в развитии образа песни. Песня представляет собой формальное сочетание мело-
дии и слова, принадлежит и миру человека, и вселенскому миру. С другой стороны, образ песни всегда связан с идеей выражения народной души, что часто актуализируется в поэзии Серебряного века, обнажая глубокие противоречия между народом и интеллигенцией. Так, в диалоге 1912 г. «Учитель и ученик» В.Хлебников противопоставляет современной ему литературе «народное слово», песню и задаёт вопрос: «Или те, кто пишет книги, и те, кто поёт русские песни, два разных народа?» [27: 180]. Так из реалии повседневной народной жизни песня в художественном сознании трансформируется в историко-философскую и эстетическую категорию, часто определяющую не только характер содержания лирического произведения, но и его форму.
Но, пожалуй, наибольшее влияние на осмысление и воплощение взаимосвязи музыки и поэзии в эпоху Серебряного века оказали романтики начала XIX века (прежде всего - немецкие). Романтический культ музыки возник в Германии именно с развитием идей йенского идеализма, который наряду с платонизмом возродил и пифагорейскую теорию «музыки чистых сфер».
Одним из основоположников музыкальной теории можно назвать Новали-са (Ф.Л. фон Гарденберг). Вяч. Иванов писал о нём: «Новалис, мифотворец и слагатель гимнов, Новалис, орган тайного предания и вместе самостоятельный мыслитель, Новалис, мудрец-сказочник и дитя-учитель, главнее же и первее всего, Новалис - личность, как внешний образ и образ внутренний» [102: 7]. Музыкальная теория Новалиса «соединила в себе рационалистическую просвещённость и мистическую глобальность... строгую мысль и поэтическое творчество, точность и фантазию, математику и мечту» [96: 137]. Новалис мыслит музыку как «естественно-научный» образец для всех остальных искусств, поскольку она наряду с бытийным содержанием (музыкальное искусство) отражает и физическую сущность вещей (музыка природы).
Развивает взгляды Новалиса Ф.Шеллинг. Он использует натурфилософский подход, базирующийся на концепции Пифагора, но особое внимание Шеллинг уделяет идее гармонии. Для него вполне очевидно, что «начало истинной музыки» связано «с изобретением контрапункта» [176: 118]. По Шеллингу, гармония
12 - это умение «соединить в одно благозвучное целое несколько голосов, из которых каждый имеет свою собственную мелодию. В первом случае - явное единство в многообразии, во втором - многообразие в единстве» [там же: 115].
Одновременно с Шеллингом создали свои учения о музыке А.Шлегель и Л.Тик; свой вклад внесли Жан Поль и К.Брентано. «В результате музыка приобрела в Германии некое всеобщее символическое значение и стала мыслиться как некая космическая сила» [96: 275]. Поздние романтики (Вакенродер, Гофман) отходят от натурфилософской йенской трактовки музыки и ценят прежде всего музыкальность. Внешне продолжая традиции своих предшественников, Э.Т.А.Гофман пишет: «Поэт и музыкант - глубочайшим образом связанные между собой члены одного братства, ибо ведь тайна слова и звука одна и та же» [104: 197]. Но одновременно он возвышает музыку над всеми другими видами искусства: «Музыка - самое романтическое из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать, единственно подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное... Музыка - чистый культ и чистое служение Богу» [там же: 181 - 182]. Точно так же и музыкант, по Гофману, представляет собой уникальный тип художника, «принципами жизни» которого «можно назвать внезапность внутренних импульсов, возникновение мелодий в его душе... невыразимое словами - познание и постижение тайной музыки природы. Слышимые изъявления природы в звуке... для музыканта сначала отдельные выраженные аккорды, затем мелодии с сопровождением» [68: 95].
В связи с этим любопытно сравнить, как пишет о процессе создания стихотворения поэт. В одном из писем Шиллер заметил: «Музыка стихотворения гораздо чаще реет перед душой, чем отчётливое представление содержания, которое часто неясно мне самому» [64: 47]. О первостепенной роли музыкального созвучия при создании стихов говорил в начале XX века А.Блок: «Когда меня неотсупно преследует музыкальная мысль, я мучительно ищу того звучания, в которое она должна облечься. И в конце концов слышу определённую мелодию. И только тогда приходят слова» [12: 39]. Это то, что Б.Асафьев называл «видением мира в духе музыки». Но, вероятно, это не просто особенность
13 сознания конкретного поэта, а характеристика сознания художника эпохи рубежа веков, который создаёт свою систему координат в мире и общается с ним на языке музыки, способном выразить то, что порой не под силу выразить слову.
Наряду с проблемой невыразимого поэты начала XX века восприняли от романтиков понимание музыки как Мирового Духа. У Вакенродера читаем: «Подобно тому, как можно представить себе мировой дух вездесущим во всей природе, а всякий предмет считать свидетельством и залогом его дружественной близости, так и музыка - откровение языка, на котором говорят небесные духи, непонятным образом вложившие в железо, дерево и струны всемогущество, дабы мы могли искать и найти скрытую в них искру» [104: 82]. Вакенродер именует музыкой жизнь с её тайным поступательным движением: «Музыка выражает бытие самого бытия, жизнь самой жизни» [104: 109].
Понятие «дух музыки» позже станет основным в эстетике А.Шопенгауэра и Ф.Ницше, чьи труды оказали значительное влияние на многих поэтов Серебряного века, особенно на младосимволистов. Однако необходимо помнить, что поэты начала XX века являются наследниками и русской романтической традиции, связанной прежде всего с именами В.А.Жуковского и В.Ф.Одоевского.
В.А.Жуковский был одним из первых, кто открыл Запад русскому сознанию. «Жуковский - представитель для нас германского влияния», - пишет С.П.Шевырёв [146: 524]. В начале XX века Блок называл Жуковского своим «первым вдохновителем» и замечал: «Мы не согласны, что от Жуковского осталась только "правда настроения". Жуковский подарил нас мечтой, действительно прошедшей "сквозь страду жизни". Оттого он наш - родной, близкий. "Резвая радость" вместе с "лебединым пращуром" задумалась о... Вечной Женственности» [14: V, 576]. А.Блок уловил то, чего не заметили современники Жуковского: поэт не просто стал проводником европейского романтизма в России, он придал романтической поэзии формы философского выражения мысли. Так, например, Жуковский своеобразно интерпретирует проблему невыразимого. В одноимённом стихотворении он стремится перевести человеческие чувства на язык поэзии:
Сие столь смутное, волнующее нас, Сей внемлемый одной душою Обворожающего глас, Сие к далёкому стремленье, Сей миновавшего привет...
(«Невыразимое», 81) Для Жуковского невыразимое - сущность душевных переживаний, которую
невозможно выразить со всей полнотой с помощью обычных слов («Но льзя ли в мёртвое живое предать? / Кто мог создание в словах пересоздать? / Невыразимое подвластно ль выраженью?»). Одно из самых высоких чувств - поэтическое вдохновение. Оно у Жуковского сродни музыке, «божественной» («Горе душа летит»), открывающей тот «незнаемый край», откуда «светится из дали радостно, ярко звезда упованья».
Музыкальные образы и сопутствующие им художественные мотивы, интерпретированные Жуковским и генетически восходящие к эстетике западноевропейского романтизма, оказали влияние на становление творческого сознания видного общественного деятеля и талантливого литератора В.Ф.Одоевского В его знаменитом романе «Русские ночи» (1844) возникают образы двух композиторов, ставших для романтиков, а затем и для модернистов символами идеальных творцов, чьё искусство воплотило в себе соответственно дионисийское и аполлоническое начала, - Бетховена и Баха.
В новелле «Последний квартет Бетховена» наряду с традиционной романтической оппозицией (гений - толпа) возникает конфликт мысли и её выражения. Главный герой восклицает: «В моём воображении носятся целые ряды гармонических созвучий... сливаясь в таинственном единстве, хочу выразить - всё исчезло... грубые чувства уничтожают всю деятельность души» [133: 56 - 57]. Единственный язык, способный выразить таинственный мир невыразимого, -музыка. Но Бетховен безумен, как истинный романтик. Сумасшествие делает его исключительным, но лишает покоя и счастья. Лишь в последние мгновения жизни, обратясь к Богу, к свету, он слышит звуки собственной музыки, которой охвачен весь мир, внутренне ощущает счастье творческого самовыражения.
Главный герой новеллы «Себастьян Бах», напротив, находится в гармонии с собой и миром. «Универсум Баха - чудесное сплетение музыки и религии,
15 архитектуры и зодчества, облечённое в поэтическую форму высоких нравственных чувств» [182: 207]. В этой новелле Одоевский спорит с Гофманом, считавшим Баха романтиком, поскольку его творчество восходит к музыке итальянских мастеров, как «чудесное... строение Страсбургского собора к собору Святого Петра в Риме» [96: 277]. Бах у Одоевского перед смертью понимает, что он «всё нашёл в жизни: наслаждение искусства, славу, обожателей - кроме самой жизни» [133: 131]. Осознание этого является осознанием бессмысленности жизни и так же, как у Бетховена, свидетельством невозможности самовыразиться, поскольку в выражении себя заключено высочайшее счастье человека.
С другой стороны, можно согласиться с Е.А.Майминым [133: 263] в том, что чувство невыразимого для Одоевского есть «высшая степень души человека» и «единственный язык сего чувства - музыка». В письме к В.С.Серовой Одоевский пишет: «Из всех искусств наиболее музыка служит проявлением этого невыражаемого, недосягаемого начала, - этой загадки, которой сплочены все организмы. Музыка вводит этот загадочный элемент в речь человеческую, -которую без музыки, вообще без элемента эстетического могли бы только выговаривать» [Письмо от 11.01.1864; 132: 526].
Это последнее утверждение Одоевского восприняли поэты школы «чистого искусства», для которых «музыкальность» речи являлась важной эстетической характеристикой художественного произведения и выражением принципа гармоничного единства формы и содержания в искусстве. П.И.Чайковский в письме к К.Р. от 26 августа 1888 года ёмко написал об А.А.Фете: «Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и делает шаг в нашу область. Поэтому Фет напоминает мне Бетховена... Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом» [174: 266 - 267].
Сам Фет был убеждён в том, что «поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны. Все вековечные поэтические произведения - от пророков до Гёте
и Пушкина включительно - в сущности, музыкальные произведения - песни» [165: 56]. Главное, как считает Фет, - музыку и поэзию роднит гармония: «Гармония также истинна... Ища воссоздать гармоническую правду, душа художника сама приходит в соответствующий музыкальный строй» [там же]. Основным же способом выражения «нераздельности» музыки и поэзии выступают для Фета звукопись и приёмы «музыкальной композиции при некоторой смысловой неопределённости» [49: 106]. Всё это, с одной стороны, сближает Фета с мелодической линией в русской поэзии, а с другой - предвосхищает поэтику символистов, в особенности А.Блока.
Влияние фетовской поэзии на символистов отмечалось как исследователями литературы (Б.Я.Бухштаб, З.Г.Минц и другие), так и самими поэтами. Так, К.Бальмонт в курсе публичных лекций 1897 г. [37: 63 - 79] объявил А.Фета и Ф.Тютчева «царящими над современной литературной молодёжью». А.Блок в наброске статьи о русской поэзии (1901 - 1902) называет Фета в числе своих «великих учителей» [14: VII, 29], а в 1919 г. в предисловии к сборнику «За гранью прошлых дней» он пишет: «Заглавие книжки заимствовано из стихов А.Фета, которые некогда были для меня путеводной звездой» [14:1, 332]. Действительно, глубже и непосредственнее всех поэтов Серебряного века был связан с А.Фетом именно А.Блок. Ему близки были как музыкальность стиля его предшественника, так и сам характер фетовских образов, основанных на ассоциативных сцеплениях и генетически родственных блоковским символам.
Таким образом, природа взаимосвязи и характер взаимодействия лирики и музыки издавна были предметом размышлений и исследований. Даже эта краткая характеристика позволяет сделать вывод о том, что изначальный смысловой синкретизм восприятия сделал музыку одной из важнейших художественных категорий поэтического сознания Серебряного века, которая получает различные формы эстетического воплощения и требует разностороннего и подробного изучения. Для нас основной интерес представляют музыкальные образы в русской лирике начала XX века.
Такое уникальное по своей значимости явление, как русская поэзия начала XX столетия, вызывало и продолжает вызывать интерес у исследователей. Проблема синтеза музыки и поэзии как один из аспектов изучения особенностей лирики этого периода также нашла своё отражение в музыковедении и литературоведении. В трудах музыковедов (в работах Б.Асафьева о лирике А.Блока; Л.В. Гервер «Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первые десятилетия XX века)»; сборниках «Музыка и поэзия» Р.И.Петрушанской и Е.Н.Домриной, монографии Т.И.Левой «Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи» и др.) ставится важный вопрос о необходимости создания нового терминологического аппарата, который бы смог адекватно отразить специфику синтеза музыки и поэзии.
Среди собственно литературоведческих работ, затрагивающих эту проблему, можно выделить два типа исследований. В первую очередь, это труды, в которых даётся обобщающая характеристика лирики конца XIX - начала XX века. Так, подробный анализ мотивов, в том числе и музыкальных, предпринят в книге А.Ханзен-Лёве «Мифопоэтический символизм» [168]; исследование И.Г.Минераловой «Русская литература Серебряного века» посвящено анализу поэтики и эстетики русского символизма [121]. Полная характеристика социокультурной ситуации рубежа веков дана в книге М.А.Воскресенской «Символизм как мировидение Серебряного века» [56]; подобную обзорную направленность имеет и работа Е.В.Тарышкиной «Русская литература 1890-х - начала 1920-х гг.: от декаданса к авангарду» [154], предлагающая, впрочем, довольно схематично, анализ поэтики и эстетики художников Серебряного века. Рассмотрению теории и эстетики постсимволизма посвящена монография В.И.Тюпы «Постсимволизм. Теоретические очерки русской поэзии XX века» [160]. Следует упомянуть и докторскую диссертацию (1998) Н.Ю.Грякаловой на тему «От символизма к авангарду. Опыт символизма и русская литература 1910 - 1920-х гг.» [70], также посвященную обобщению историко-литературного опыта Серебряного века на трёх уровнях: поэтика, жизнетворчество и историософия. К этой же группе отнесём и труды искусствоведческого характера И.А.Азинян
18 «Диалог искусств Серебряного века» [30] и Л.А.Рапацкой «Искусство Серебряного века» [143]. Авторы всех этих исследований особое внимание уделяют философии и художественным экспериментам символистов, а также тому историко-культурному контексту, который влияет на развитие символизма и постсимволистской поэзии.
Другой тип работ составляют исследования музыкальных образов и мотивов в творчестве отдельных авторов. Здесь можно выделить как фундаментальные монографии (Хопрова Т.А. «Музыка в жизни и творчестве А.Блока»; Кац Б., Тименчик Р. «Анна Ахматова и музыка»), так и отдельные статьи. Среди последних отметим цикл статей О.Клинга в журнале «Вопросы литературы», в которых исследователь рассматривает символистские традиции в творчестве различных поэтов (В.Хлебникова, О.Мандельштама, Б.Пастернака и др.). Эти статьи отражают материалы докторского диссертационного исследования автора на тему «Влияние символизма на постсимволистскую поэзию в России 1910-х гг. (проблемы поэтики)» (1996). О.А.Клинг основное внимание уделяет исследованию идиостилей поэтов, и, отталкиваясь от частных характеристик, выходит к общим закономерностям литературного процесса начала XX века.
Все вышеперечисленные работы имеют дело преимущественно с музыкальными мотивами. В то же время в поэтических текстах возникают вполне зримые словесные образы музыки, особенности и поэтические функции которых недостаточно изучены. Исследование этой темы представляется весьма актуальным для понимания своеобразия как художественных миров отдельных авторов, так и лирики Серебряного века в целом. Тем не менее для более точного определения границ нашего исследования необходимо обозначить различия между художественным образом - категорией, интересующей нас, - и мотивом.
Классическую теорию мотива предложил А.Н.Веселовский: «Под мотивом я разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшие особенно яркие, казавшиеся важными повторяющиеся впечатления действительности. Признак мотива-это образный одночленный схематизм» [54: 3]. Мотивы, будучи кросс-
19 уровневыми единицами, повторяются, варьируясь и переплетаясь с другими мотивами в тексте. Более подробные сведения о теории мотива можно найти в работе И.В.Силантьева «Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике. Очерк историографии» [150]. Нам же важно, что образ, как видно из определения А.Н.Веселовского, является частью мотива и определяет его художественную природу.
Теории словесного художественного образа многочисленны и разнообразны. В связи с темой нашего исследования остановимся лишь на некоторых из них, предложенных романтиками и модернистами. В среде романтиков по вопросу о природе художественного образа не было единого мнения. Можно выделить две основные романтические концепции образа. Первая представлена Шеллингом, который понимает художественный образ как конкретное изображение предмета, «чистое особенное», обладающее «автономно-созерцательной ценностью» [176: 106 - 116]. Он настаивает на том, что следует отличать образ от других категорий, например, символа - «осмысленного образа», «свойственного мифологическому целому» [176: 110 - 111]. Сторонники второй концепции, Вакенро-дер, Тик, Гофман, напротив, сближали художественный образ и символ: «Поэзия есть изображение души, настроенности внутреннего мира в его совокупности. Уже её средство - слово - указывает на это, ибо они ведь суть внешнее раскрытие внутреннего "мира энергий"» [104: 99]. А содержание художественного образа («мир энергий») - противоречиво и неоднозначно: «Всяческий образ, по сути, составлен из противоположностей. Свобода связываний и сочетаний снимает с поэта ограниченность» [там же: 96].
Оба эти понимания природы образа получат своё развитие у модернистов начала XX века. Так, крайнее проявление шеллингианской теории находим в стремлении футуристов слить слово и вещь, чтобы искусство из отражения жизни превратилось в саму жизнь. Романтическая же концепция символической природы образа легла в основу теории А.А.Потебни. Несмотря на жёсткую критику со стороны формалистов (Б.Б.Шкловского, Б.В.Томашевского и др.), его идея «внутренней формы» («отношения содержания мысли к сознанию»,
20 которое показывает, как «представляется человеку его собственная мысль» [140: 98]) и определение «искусство есть мышление образами» устояли и получили своё обоснование и развитие в теоретических работах русских символистов.
Исследователи (И.Гарин, К.А.Баршт и др.) не раз отмечали, какое исключительное влияние оказала концепция А.А.Потебни на эстетические поиски А.Белого. Потебнианскую триаду внешней формы, содержания и внутренней формы А.Белый рассматривал как такое единство, которое и составляет символический образ. Для А.Белого образ и символ тождественны: «Образ как модель переживаемого содержания есть символ. Метод символизации переживаний и есть символизм» [9: 257]. В статье «Магия слов» Белый пишет о символической природе слова, в котором соединяются в звуке - «время» и «пространство». Символическая сущность образа для него музыкальна: «Музыка идеально выражает символ. Символ всегда музыкален... Символ пробуждает музыку души. Когда мир придёт в нашу душу, всегда она зазвучит...» [9: 246]. То есть в поэтическом сознании символистов образ как художественная форма адекватен выражаемому с его помощью содержанию. В художественной практике поэты стремились достичь максимального соответствия внешнего и внутреннего планов художественно образа, за основу которого часто бралась категория музыки - один из важнейших эстетических ориентиров культуры начала XX века.
Мы же в понимании сущности художественного образа будем опираться на концепцию Л.И.Тимофеева и определять образы музыки1 не как образы, созданные с помощью музыкальных, звуковых средств, но как словесные образы, которые вызывают зрительные и ассоциативные представления о музыке как явлении и как виде искусства. Л.И.Тимофеев в словесном образе выделяет «план содержания» и «план выражения» и основным признаком художественного образа называет «обобщённое отражение действительности в форме единичного, индивидуального» [157:17]. Это определение важно для нас ещё и потому,
В ходе исследования мы будем пользоваться понятиями «образы музыки» (в широком смысле) и «музыкальные образы» как синонимичными (в контексте нашей работы).
21 что отражает особенности понимания образа художественным сознанием Серебряного века.
Многие исследователи (В.Жирмунский, Ю.Лотман, З.Минц) писали об особой значимости художественного образа в русской лирике Серебряного века и отмечали, что сам факт возникновения повышенного интереса к его сущности как проявления рефлексии поэтического сознания сближает поэзию начала XX века с романтизмом. Особенно это справедливо по отношению к символизму.
Символизм имел исключительно важное значение для развития русской литературы. «Символизмом открывался Серебряный век: именно символизм заложил его философско-эстетические основы, из которых прорастали все последующие художественные течения и направления; именно он сформировал стиль мышления и мировоззренческую систему этой культурной эпохи» [56: 146]. В целом можно согласиться с М.А.Воскресенской, однако, нам кажется, что традиционное разделение на «символизм», «акмеизм», «футуризм» можно принять лишь условно и только по отношению к теоретико-эстетическим концепциям, поскольку художественное сознание поэтов начала XX века так или иначе связано с символизмом. Разумеется, каждый художник по-своему относится к эстетической доктрине символизма: следует ей и переосмысляет её (И.Анненский, А.Белый, А.Блок), своеобразно трансформирует её в соответствии со своими творческими позициями (С.Есенин, Н.Клюев, В.Хлебников), спорит с ней (А.Ахматова, О.Мандельштам), тем не менее каждый проходит свой период ученичества у символизма.
Наиболее явно условность традиционного деления лирики Серебряного века на течения предстаёт в связи с попытками определения «места в литературном процессе» творчества И.Ф.Анненского и новокрестьянских поэтов (Н.Клюева, С.Есенина). И.Ф.Анненского называли своим учителем как младосимволисты, так и акмеисты. Возможно, поэтому В.М.Жирмунский в работе «Преодолевшие символизм» [78: 103 - 133] отмечает в его творчестве черты этих двух течений. Л.Я.Гинзбург, вслед за Вяч.Ивановым, который считал Анненского представителем «ассоциативного» символизма [84], предложила определять метод поэта
22 как «психологический символизм» [62: 341]. Её статья «Вещный мир» надолго определила динамику изучения наследия Анненского, её основные положения развивались в работах Н.Ашимбаевой, В.Гитина, И.Корецкой, А.Кушнера.
Однако, думается, что понимать творческий метод Анненского нужно более широко: как соединение классической традиции, романтизма, эстетики школы «чистого искусства», интуитивизма, импрессионизма и модернистских элементов, что иллюстрирует процесс зарождения нового типа художественного сознания. Здесь, на наш взгляд, ближе всего к истине З.Г.Минц, которая относит лирику Анненского к поэзии «пресимволизма». В своей работе «Блок и русский символизм. Поэтика русского символизма» [122] она определяет пресимволизм как «сумму пёстрых, разрозненных организационно и эстетически мало связанных тенденций» [122: 187] в литературе, которые «нечётко отграничены от других явлений литературы своего времени» [122: 163]. И.Анненский не входит ни в одну из литературных групп, и, как отмечает З.Г.Минц, «его эстетические взгляды сформировались в основном до модернистов и независимо от них» [122: 357]. Сам же символистский элемент в его лирике связан не с эстетикой символистов, поскольку Анненский считал, что символизм как самостоятельное течение в поэзии не существует, а с его пониманием природы поэзии: «В поэзии есть только относительности, только приближения - поэтому никакой другой, кроме как символической она не была и быть не может» [2:338].
Новокрестьянских поэтов традиционно рассматривают как отдельную группировку, что порой приводит к своеобразной замкнутости в восприятии их поэтического наследия. Между тем, отталкиваясь от фольклора, лирика Н.Клюева и С.Есенина вбирает в себя различные пласты национальной культуры: взаимодействует с традициями русской литературы и вписывается в художественные поиски современников; соотносится с поэтическим опытом символизма и сближается с постсимволизмом (особенно с «будетлянами»).
Чтобы избежать условности традиционного деления на символизм, акмеизм и футуризм (хотя, разумеется, не идёт речь о полном отказе от этих терминов), своё исследование мы построим на анализе музыкальных образов в творчестве
23 поэтов пресимволизма (И.Ф.Анненский), символизма (А.Блок, А.Белый), постсимволизма (В.Хлебников, О.Мандельштам, А.Ахматова) а также обратимся к творчеству новокрестьянских поэтов (Н.Клюев, С.Есенин).
Итак, мы понимаем пресимволизм в соответствии с концепцией З.Г.Минц, а «символизм» прежде всего как синоним «младосимволизма». Содержание же понятия «постсимволизм» исследователи определяют по-разному.1 Перед нами не стоит задача подробного рассмотрения природы постсимволизма. А само деление на три направления необходимо нам для упорядочивания материала исследования относительно символизма с точки зрения хронологии и эстетического влияния. Поэтому постсимволизм для нас - это те литературные явления начала XX века, которые возникли хронологически позже символизма и отталкивались от его эстетико-философских традиций, прежде всего футуризм (В.Хлебников) и акмеизм (О.Мандельштам, А.Ахматова).
Методологическую основу исследования составляют системно-семантический и структурно-типологический методы с использованием принципов количественного, мифопоэтического и сравнительно-исторического анализа художественного текста. Для удобства и точности анализа мы предлагаем использовать понятие семантического (смыслового) поля. Этот термин вводится нами по аналогии с термином «функционально-семантическое поле» (ФСП), предложенным лингвистом А.В.Бондарко. Бондарко в своей «Функциональной грамматике» [45] предлагает один из возможных типов грамматического описания, основной единицей анализа при этом является ФСП, которое понимается как «система разноуровневых средств данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических и т.п.), объединённых на основе общности и взаимодействия их семантических функций» [45: 21]. Нам особенно важен тот факт, что ФСП «связывается с условным представле-
Так, О.А.Клинг считает его условным и носящим преимущественно стилевой характер. И.П.Смирнов под постсимволизмом подразумевает авангард [151]. В.И.Тюпа, исследующий литературный процесс с точки зрения «типов исторического сознания» и типов эстетического дискурса, воспринимает символизм как переходное звено между классическим реализмом XIX века и «неклассической парадигмой художественности» XX века. Последняя (то есть постсимволизм) складывается, по мнению исследователя, из трёх субпарадигм: неотрадиционализма (акмеизма), авангардизма (в круг авангардных явлений включён обширный материал 1910 - 1990-х г.г. русской и зарубежной литературы) и соцреализма.
24 ниєм о некотором пространстве, в котором намечается конфигурация центральных и периферийных компонентов» [45: 22]. Основным отличием семантического (смыслового) поля от ФСП служит характер его компонентов: если ФСП оперирует языковым материалом (языковые единицы, категории, классы), то главным элементом смыслового поля является художественный образ. Мы предполагаем, что концепция смыслового поля при анализе музыкальных образов поможет не выйти за рамки темы исследования (выявление особенностей именно художественных образов, а не мотивов) и решить проблему разграничения общих и индивидуально-авторских черт в музыкальных образах русской лирики начала XX века.
В связи с этим необходимо выделить в семантическом поле «музыка» на уровне гипотезы следующие семантические центры (ядра): образ песни, образ собственно музыки и образ музыкального инструмента. Эти образы в творчестве разных поэтов скорее всего конкретизируются по-разному, за счёт чего у каждого из этих смысловых ядер создаётся своеобразная периферия, и уже затем на пересечении этих отдельных образных полей формируется единство художественного мира поэта. Сам факт вычленения трёх ключевых образов не случаен: в своей совокупности они актуализируют основную смысловую оппозицию художественного сознания начала XX века - «культура - природа», а значит, представляют собой наиболее общую модель поэтической картины мира Серебряного века, особенности которой нам и предстоит выяснить.
Кроме того, следует сразу оговориться, что мы различаем образ музыки и образы звуков вообще. Последние включают в себя всё многообразие звуков живой и неживой природы, в том числе и музыкальных. В рамках данной работы не представляется возможным проанализировать столь обширный материал.
Итак, объектом нашего исследования является русская лирика начала XX века, материалом исследования - поэтические тексты И.Анненского, А.Блока, А.Белого, Н.Клюева, С.Есенина, В.Хлебникова, О.Мандельштама, А.Ахматовой,
1 Термин «картина мира» был впервые введён Л.Витгенштейном в «Логико-философском трактате». В.Руднев определяет картину мира как «систему интуитивных представлений о реальности» и отмечает, что каждому историческому времени соответствует своя картина мира [145: 127-130].
25 авторов, чьё творчество так или иначе связано с символистским миропониманием. Предметом исследования служат образы музыки во всём многообразии их компонентов. Основная цель исследования - рассмотрение в культурно-историческом и национальном контексте эпохи особенностей образов, которые являются структурообразующими элементами семантического поля «музыка», возникающего в русской поэзии начала XX века. Исследовательские задачи: 1) анализ эмоционально-смыслового наполнения (семантического поля) образов музыки в творчестве поэтов Серебряного века; 2) опыт систематизации и классификации образов музыки, характерных для творчества каждого поэта и лирики первой половины XX века в целом; 3) исследование взаимосвязи образов музыки с особенностями мировосприятия и спецификой художественной системы каждого из поэтов; 4) выявление способов создания музыкальных образов.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые категория музыки в лирике начала XX века рассматривается на уровне художественных образов. Новым является и то, что показана возможность системного выявления и анализа особенностей этих образов, их смыслового и эмоционального наполнения. Положения, выносимые на защиту:
1. Путём уточнения и дополнения представлений о некоторых общих законо
мерностях художественного сознания эпохи может служить выявление основ
ных художественных функций музыкальных образов в лирике начала XX века:
- музыкальные образы участвуют в создании неомифологических поэтических
систем;
музыкальные образы отражают психологическое состояние лирического героя;
музыкальные образы являются средством отражения в поэтическом тексте эстетико-философских и мировоззренческих установок художника.
2. Символическая или метафорическая художественная природа музыкальных
образов помогает приблизиться к решению подчас непростого вопроса о сущно
сти художественного метода каждого конкретного поэта.
P 26
В русской лирике начала XX века создаётся развернутая сложная система семантического поля «музыка», в основе которой лежат некоторые общие для художественного сознания закономерности: универсализм, стремление к художественному синтезу, рефлективность психологического и эстетико-философского характера, неомифологизм.
Семантическое поле «музыка» в русской лирике начала XX века, с одной стороны, представляет собой совокупность художественных образов музыки, фиксирующих результаты образного познания мира поэтами Серебряного века (картину мира), а с другой - служит отражением динамики образного познания действительности, связанной с творческой эволюцией художников.
Структурно-смысловые особенности семантического поля «музыка» различаются в рамках художественных миров поэтов и отражают индивидуально-авторские эстетические и общественные позиции.
Воплощение оппозиции «Я - не- Я» в образной структуре семантического поля «музыка» в лирике И.Ф.Анненского
Долгое время поэтическое наследие И.Ф.Анненского привлекало внимание исследователей в значительно меньшей степени, чем творчество таких «столпов» русского модернизма, как А.Ахматова, А.Блок, О.Мандельштам, Б.Пастернак и другие. Ситуация начала меняться, когда в науке возник интерес к философско-эстетической и художественной природе модернизма и наметилось стремление объяснить причины и условия его зарождения. В этой связи творчество И.Ф.Анненского - поэта, предвосхитившего многие открытия модернизма, приобрело особое звучание как для отечественных (ЛЯ.Гинзбург, В.М.Жирмунский, Г.П.Козубовская, Л.Колобаева, П.П.Громова), так и для зарубежных (Janet G.Turcker) исследователей.
На творчество И.Ф.Анненского особое влияние, помимо немецких романтиков, оказали французские «парнасцы» и «проклятые» - Л. де Лиль, С.Малларме, Ш.Бодлер, П.Верлен, а также представители мелодической линии русской поэзии - В.А.Жуковский, А.А.Фет, К.Павлова. Но, оттолкнувшись от традиции, он сумел органично вписаться в культурный контекст Серебряного века, сочетая в художественной манере мистицизм со «строгой классичностью форм и будничностью тона» [78: 132]. Поэтому Анненский, по словам Мандельштама, «с достоинством несший свой жребий отказа - отречения от символизма» [20: II, 265] сам становится своеобразным символом художника эпохи рубежа веков; даже его внезапная смерть на вокзале («на грани», «накануне», «на рубеже») 30 (13) ноября 1909 года в контексте «уми-ранья века» приобретает символическое значение.
Однако основной темой, интересующей поэта всё-таки является жизнь в многообразии отношений между «Я» художника и миром - «не-Я» (вселенная, природа, внутренний мир другого человека). Музыкальные образы способствуют более полному раскрытию коллизий этих взаимоотношений.
В лирике И.Анненского нет чётких границ между образом песни и образом собственно музыки. Для лирического героя ближе всего песня без слов1. Это один из устойчивых образов, ассоциативно связанный с романтическим мотивом невыразимого и, как следствие, с традицией тютчевского стихотворения «Silentium». Лирические герои Тютчева и Анненского чувствуют несостоятельность слов, которые не в силах во всей полноте выразить внутреннее состояние человека («Мысль изреченная есть ложь»), то, что является содержанием истинной поэзии. С этим связано отношение Анненского к различным видам искусства: «Я нахожу, что в музыке, скульптуре и мимике - поэзия, как золотой сон, высказывается гораздо скромнее, но часто интимнее и глубже, чем в словах. В "поэзии" слов слишком много литературы» [письмо А.В.Бородиной от 6 августа 1988; 1:483].
Образ песни без слов соприкасается с образом тишины, и его вариациями - образами немоты и забвения. Образ тишины-немоты, невозможноста выразиться в слове часто возникает в у Анненского: «Два дня здесь шепчут: прям и нем / Всё тот же гость в дому» («Перед панихидой»); «Погасшие огни, немые голоса» («После концерта»). Определение «немая» устойчиво характеризует в лирике Анненского образ тени - обитательницы мира смерти: «Немые тени вереницей / Идут чрез северный портал» («Тоска возврата»); «Или сам я лишь тень немая» («Трилистник лунный», «TRAUMEREI»).
Многие современники Анненского и исследователи его творчества отмечали особую важность образа смерти в его художественном мире. Так, например, писал об этом Вл. Ходасевич: «Поэзия была для него заклятием страшного Полифема - смерти: но это психологически не только не мешало, но способствовало тому, чтобы его вдохновительницей, Музой была смерть» [169: 126]. «Тихий берег умиранья» у поэта не только безгласен, но и неподвижен («Точно вымерло всё в доме»; «В недвижном сумраке тяжелее и страшней черты»); Его черты только угадываются лирическим героем-поэтом, в «песнях без слов» он ищет звуки иных миров. Поэт писал: «Поэзия не изображает, она намекает на то, что остаётся недоступным выражению. Мы славим поэта не за то, что он сказал, а за то, что он дал нам почувствовать несказанное» [172].
В таком контексте образ «песни без слов» Анненского приобретает фи-лософско-эстетическое звучание. Лирический герой стихотворения «Агония» С. Прюдома, переведённого Анненский, видимо, не случайно, а в силу внутренней идейной близости, на пороге смерти просит:
Над гаснущим в томительном бреду Не надо слов - их гул нестроен; Немного музыки - и тихо я уйду Туда - где человек спокоен.
(«Над гаснущим в томительном бреду...») Слова здесь противоположны музыке. Первые часто лгут («Довольно слов - я им устал внимать, / Распытывать их чисты ль цели»), а вторая не может быть неискренней. В агонии слова - лишние, они - «слишком от жизни»; только музыка должна быть рядом, символизируя прощание с одним миром и переход в другой. В этом стихотворении таким проявлением музыки является песня старой няни лирического героя, «хоть там и пенья мало». Недоговорённость её «простого напева» («Я люблю недосказанность песни и муки») сродни загадке смерти, с которой столкнулся лирический герой.
Однако песня без слов не означает только мелодию. Человеческое «Я» проявляет себя с помощью голосового пения: «Без слов кристальные сливались голоса». Такое слияние создаёт некий обобщённый образ лирического «я». Этому же способствует персонификация внутренних состояний человеческой души. Слова не нужны песне, если поётся она самими чувствами: Лишь Ужас в белых зеркалах... Здесь молит и поёт, И с поясным поклоном Страх Нам свечи раздаёт. («Перед панихидой») Заглавные буквы при наименовании чувств усиливают эффект персонификации. А.Блок в рецензии на сборник «Тихие песни» отметил способность Ан-ненского «вселяться в душу разнообразных переживаний» [14: V, 621], тем самым подчеркнув закономерность появления подобных образов в художественном мире поэта.
Ещё одна смысловая коннотация образа «тихие песни» актуализируется в связи с близким ему названием труда о. Сергия Булгакова «Тихие думы». Автор по-своему трактует понятие «невыразимое»: «Переизбыток сердца ведёт к немоте уст» [48: 164]. Молчание - отражение состояния внутреннего самоуглубления, самопознания и Богопознания, а песни тихи, потому что лирический герой боится «вспугнуть» эту гармонию.
Особенности образов музыки в контексте развития сюжета лирической трилогии А.А.Блока
Музыковед Б.Асафьев назвал А.Блока «гениальным музыкантом-поэтом». Уникальность блоковского дара состоит в умении «видеть мир в духе музыки», слышать мелодию своей эпохи и отвечать на неё своей песней. Так нетрудно было потерять себя в контрапунктах симфонии Серебряного века, предлагающего множество путей, эстетических и общественно-политических. Он же выбрал единственно возможный для себя: путь художника, верного своему времени, не чуждого его идеалам и порокам. За это «его» Серебряный век отплатил ему славой и признанием: перед ним преклонялись великие поэты (А.Ахматова, Н.Клюев, С.Есенин и другие), его эстетические работы и поэзия властвовали над умами современников, многие из которых конец своей эпохи обозначали датой смерти А.А.Блока.
Поэт верил, что его время отмечено «духом музыки». Дух музыки становится определяющей категорией блоковской эстетики в 1910-е гг. Подробно категория музыки в прозе А.Блока рассмотрена в монографии Д.М.Поцепни «Проза А.Блока. Стилистические проблемы» [142], мы же остановимся только на общих закономерностях музыкальной эстетики А.Блока, определивших особенности музыкальных образов в его лирике.
Дух музыки у поэта связан с тремя сферами: «историей» (прошлое), «современной действительностью» (настоящее), «культурой» (вечное). Он реализуется в них и выступает как гармонизирующее мир начало. Дух музыки -биение живого пульса мира; изменение его ритма влечёт за собой развитие человеческой цивилизации: «Утративший ритм гуманизм утратил и цельность. Как будто мощный поток, встретившись на пути своём с другим потоком, разлетелся на тысячи мелких ручейков; в брызгах, взлетевших над разбившимся потоком, радугой заиграл отлетающий дух музыки» [14: V, 172].
Дух музыки стихиен. В истории это проявляется в революционном движении народных масс: «Всем сердцем слушайте музыку революции!». В этом порыве Блок видит естественный ритмический рисунок вселенной, где новое сменяет старое, «музыкальные» эпохи сменяют «немузыкальные». Разрушительной эта стихия выступает только в масштабах человеческого мира. Мистические идеи романтиков о «космическом духе музыки» Блок переносил в область социальной жизни. При этом России и русскому народу отводилась особая роль «хранителей» вселенского духа музыки, которая должна вскоре заставить зазвучать весь остальной мир: «Музыка - это гул, который растёт и ширится над Россией... такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой» [14: V, 215].
Дух музыки для Блока - это индикатор, которым проверяется истинность поэтического дара. Настоящий поэт не может не слышать музыку мира и времени. Только приобщившись к «духу музыки», поэт может стать теургом; только в единении со своим народом он сможет почувствовать точку равновесия, на которой покоится мир, и обрести себя: «Только слыша музыку отдалённого "оркестра" (который и есть "мировой оркестр" души народной), можно позволить себе лёгкую "игру"». И далее: «Раз ритм налицо, значит творчество художника есть отзвук целого оркестра, то есть отзвук души народной... те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра» [там же: V, 370 - 371].
В поэтическом сознании отражением народной души традиционно выступает песня. Особый интерес литераторов к народной песне вспыхнул в эпоху романтизма. Богатствами народной песенной лирики восхищались Но-валис и Вакенродер, Гердер и Жуковский. Предшествующий литературный опыт и богатейшие национальные традиции не могли не сказаться и на творчестве русских символистов.
Образ песни занимал особое место в эстетике младосимволистов. А.Белый в статье «Песнь жизни» называл её «началом творчества в искусстве» и первоисточником, из которого родились поэзия и музыка: «Песня соединяет ритм (время) и образ (пространство) в слове (причинности)» [9: 176]. Понимание песни у Блока и Белого складывается под влиянием ницшеанской традиции: «Песня - земной остров, омытый волнами музыки... тот остров, куда нас звал Заратустра: он звал нас оставаться верными земле» [там же: 176]. «Быть верным земле» - уметь видеть чудо жизни и за призрачными мечтами небес ценить земные радости, быть благодарным за подаренную возможность являться частью этого мира. Это «земное» песенное начало связано у Блока с образом его лирического героя, который на протяжении всей «трилогии вочеловечения» проходит путь «от мгновений слишком яркого света» до «рождения человека "общественного", художника, мужественно глядящего в лицо миру» (Письмо А.Блока А.Белому, 1911). Это движение предчувствуется поэтом ещё в 1900 году. В одном из стихотворений цикла «Ante Luceum» читаем:
Хоть всё по-прежнему певец Далёких жизни песен странных Несёт лирический венец В стихах безвестных и туманных, -Но к цели близится поэт, Стремится, истиной влекомый, И вдруг провидит новый свет За далью прежде незнакомой... («Хоть всё по-прежнему певец...», I)1 Первая и вторая строфы противопоставлены, в том числе и формально - с помощью союза «но». «Певец» противостоит «поэту», мечта - реальности, интуиция - разуму. Чтобы оставаться частью жизни, «певец» закономерно должен превратиться в «поэта», которому единственному и дано увидеть новые горизонты. Изменяясь, лирический герой трагически теряет прежнюю чистоту и былые мечты, но обретает знание правды жизни. Однако осознать - не значит принять, поэтому перерождение лирического героя сопровождается страданиями и поисками ответов на «вечные вопросы»:
Тропу печальную, ночную Я до погоста протоптал, И там, на кладбище, ночуя, Подолгу песни распевал. И сам не понял, не измерил, Кому я песни посвятил, В какого бога страстно верил, Какую девушку любил. («Русь», II)
Само место действия (кладбище) уже располагает к элегическим размышлениям о жизни и смерти. С другой стороны, пение на кладбище несёт отпечаток ритуального действа - оплакивания покойника. Здесь это плач над собственной судьбой. Особенностью употребления лексемы «петь» у Блока является то, что она часто соседствует с лексемой «плакать»: «Сегодня - трезво торжествую, / А завтра - плачу и пою» («Я коротаю жизнь мою...», III); «Поют и плачут хрустали» («Грустя и плача и смеясь...», III); «Молчали жёлтые и синие, / В зелёных плакали и пели» («На железной дороге», III). С одной стороны, сочетание песни и плача укоренено в русской фольклорной традиции, что свидетельствует о близости лирического героя к национальной жизни, с другой - следует обозначить связь этих двух явлений в духе символистской эстетики. А.Ф.Лосев, размышляя о символической природе музыки, отмечал: «Из всех искусств музыка наиболее сродни трагизму, и она выражает его наиболее ярко... Трагедия произошла из ощущения бесформенной, хаотичной качественности бытия, поселяющей в душе тот же диссонанс, принципиальный и существенный» [107: 319]. Разумеется, речь идёт о высокой трагедии, через которую достигается очищение. В этом смысле песня и плач становятся не просто выражением эмоций, но моментом переживания трагедии мира (вселенского или индивидуального масштаба) и ступенью к духовному совершенству. Лосев формулирует это так: «На самом же деле музыка не насквозь хаотична. Она возвещает хаос накануне преображения. Это простой вывод из того чувства некого метафизического утешения, которое даёт душе самая трагическая музыка» [107: 319].
Музыкальные образы в художественной картине мира Н.А.Клюева
Признанным идеологом новокрестьянской поэзии был Николай Алексеевич Клюев. Его судьба во многом стала воплощением «национальной трагедии» русского художника в 1920-е - 1930-е годы. Это, а также наличие очень разных - от восторженных (А.Блок, С.Городецкий, ранний С.Есенин, О.Мандельштам) до крайне отрицательных (О.Бескин) - оценок его творчества современниками в последние десятилетия привлекают внимание литературоведов к наследию и личности Н.Клюева. Среди монографических работ нужно отметить книги К.М. Азадовского «Николай Клюев. Путь поэта» [29], В.Г. Базанова «С родного берега: о поэзии Николая Клюева» [35] и Т.А. Пономарёвой «Проза Николая Клюева 20-х годов» [139], докторскую диссертацию Е.И. Марковой «Творчество Н.Клюева в контексте севернорусского словесного искусства» [113]. Кроме того, в 1997 году в издательстве «Наследие» появился коллективный труд российских и зарубежных учёных «Николай Клюев. Исследования и материалы».
Исследователи открывают для себя нового Н.Клюева в связи с фактами его биографии и историей творческих взаимоотношений с современниками; их интересуют различные аспекты творчества Клюева - поэта и публициста, наследника богатейшей фольклорной традиции и новатора в области художественной практики, где за внешней орнаментальностью чувствуется подлинная народность как осознанный выбор поэта.
Этот выбор был определён не только крестьянским происхождением, но и его религиозными и общественными взглядами. Не секрет, что Н.Клюеву были близки старообрядчество и сектантство. Особенно его привлекала хлыстовская мечта о Великом преображении (всеобщем и личном), достичь которое возможно, лишь пройдя через «огненное испытание, душевное распятие... и через воскресение "нового разума, слышания и чувствования"» [16: 65]. Для Клюева подтверждение идеалов народного мироустройства своей жизнью было непреложным законом, это в конце концов и развело его окончательно с С.Есениным, который не разделял идеи «сораспятия» «смиренного Миколая». Эти убеждения в сознании Клюева сочетались с общим для Серебряного века апокалипсическим ощущением, которое, однако, носило у него «активный» характер в духе «Философии общего дела» Н.Фёдорова. Клюева привлекали идея коллективизма Фёдорова, его христианская вера, а так же, как отмечал Н.А.Бердяев, «проповедь коллективного общего дела... проективизм, тоталитарность в отношении к жизни, склонность к... планам мирового масштаба... признание труда основой жизни» [43: 324]. Всё это ставит Клюева в один ряд с такими художниками 1920-х -30-х гг., как Н.Заболоцкий, А.Платонов и В.Маяковский.
Таким образом, Н.Клюев занимает особое место в истории русской литературы начала XX века: органично влившись в художественные искания модернизма, он сделал основным содержанием своего творчества (и жизни) утопическую мечту о крестьянском духовном преображении. Это был один из многочисленных вариантов пути, по которому могла бы, по чаяниям художников, пойти «новая» Россия. И, как все утопии, утопия Клюева была об речена на непонимание и крах. Тем не менее сам факт её существования делает художественную систему поэта ценным объектом для историко-литературного изучения. Выявить своеобразие художественного мира Н.Клюева и его взаимосвязи с особенностями художественных систем современников помогает анализ музыкальных образов.
Семантическое поле «музыка» у Клюева представлено немногочисленными образами музыкальных инструментов и различными вариациями образа песни: собственно песни лирического героя (и других персонажей), песни мира природы, мифологическими песенными образами (Сирин, Алконост, Китоврас и др.). Необходимо оговориться, что помимо элемента образной системы поэта песня в художественном мире Н.Клюева выступает как жанр народного творчества, что проявляется в названиях и ритмико-мелодической структуре стихотворений («Гимн свободе», «Слушайте песню простую...», «Брачная песня», рекрутская «Незрелая калинушка», «Радельные песни», «Песнь утешения»).1 Это помогает формированию сквозного для лирики Н.Клюева мотива пения, выходящего за рамки нашего исследования.
Лирический герой в песнях Клюева - один из богатырей святого воинства. У раннего Клюева почти нет «я», только «мы», поэтому можно говорить, что в стихотворениях «Братская песня» и «Песня похода» звучит хор голосов. В этом воплощается и соборность былинных русских богатырей, и стремление к единству друг с другом и с Богом. С Богом, потому что хору земных воинов отвечает хор небесный: «Воспоёт небесный хор - / Херувимы. Серафимы» («Песня похода»). А то и само воинство, к которому принадлежит лирический герой, предстаёт как Господне: «Были общники Всещед-рой Силы, / Громогласны, световидны, шестикрылы» («Усладный стих»).
Важно отметить, что установка на «множественность» связана не только с ролью лирического героя Клюева как выразителя народного сознания и не только со «стилизаторством» поэта, на чём настаивает К.Азадовский [29: 326]. Это «мы» вместо привычного для поэта «Я» восходит также (и, наверное, в большей степени, если вспомнить, насколько реальны для Клюева были его утопии) к религиозным, сектантским воззрениям поэта. Хотя, разумеется, неверным было бы совсем отрицать два предыдущих фактора, как это делает А.Эткинд [183: 294 - 295], поскольку речь идёт всё-таки об искусстве слова и о талантливом художнике Н.Клюеве. А следовательно, в этом «мы» выражается осознание лирическим героем своей народо- и богоизбранности. Это осознание помогает поэту в неустроенной и нищей жизни российской деревни видеть сказку, прозревать истоки и истинную жизнь народного духа:
Образная реализация представлений о мире и человеке в рамках семантического поля «музыка» в лирике В.Хлебникова
Природа таланта В.Хлебникова - исследовательская. С самого начала своего творческого пути он фактически занимался непрерывными метафизическими исканиями. Это определило и основные особенности его поэтического творчества, которое стало своеобразной иллюстрацией его теории и принесло ему славу «гениального первооткрывателя "новых поэтических материков"» [117: X, 28] не только среди его собратьев - футуристов, но и среди представителей иных модернистских течений (известно, что Хлебникова высоко ценили Вяч. Иванов, О.Мандельштам и другие).
Основными проблемами, интересовавшими В.Хлебникова, были время и язык, причём проблема времени была определяющей в этом тандеме. Зачастую при рассмотрении творчества Хлебникова (особенно это характерно для работ структуралистского и лингвистического характера) учёные обращаются только к исследованию языковых экспериментов без учёта проек-тивно-утопических взглядов поэта, что приводит к формализму в анализе. Во избежание этого попытаемся раскрыть сущность теории времени поэта.
Будущее у Хлебникова - понятие эстетическое, связанное с искусством и миссией поэта. Последний должен поднять восстание и похитить тайну времени у высших сил, дабы решить проблему достижения всечеловеческого бессмертия. В эссе «Наша основа», которое объясняет задачи поэтов группы «Гилей», Хлебников подробно доказывает (опираясь на методы физики) новый временной закон, который он «открыл». Суть этого закона в повторяемости исторических явлений, что позволяет разделить историю человечества на периоды и таким образом предсказать будущее: «Но в 534 году было покорено царство вандалов; не следует ли ждать в 1917 году падения государства» [«Диалог. Учитель и ученик», 28].
Как справедливо замечает Ж.К.Ланн [86: 563], своей теорией Хлебников стремился «воссоздать первоначальное единство, преодолев дробность времени, которое распыляет всё сущее». В реальности средством объединения людей является язык. Новым бессмертным людям, «будетлянам», по Хлебникову, необходима новая адекватная языковая система. Не вдаваясь подробно в особенности теории «заумного» языка Хлебникова, лишь отметим, что в основе его лежит принцип переноса смысловой нагрузки с корней слов на звуки, каждый из которых «скрывает за собой некоторый образ и есть имя» [86: 237] и озвучивает физические законы движения тел.
Таким образом, футуризм Хлебникова - это скорее исследование времени, которому подчинены поиски новой, адекватной «будетлянскому» сознанию художественной формы. Причём для нас важно, что это исследование, во-первых, изначально носило «музыкальный» характер, в том смысле, что свою утопию Хлебников выстроил на математической формуле, генетически связанной с гармонией и точностью музыкальных ладов, а во-вторых, что оно выдержано Хлебниковым, стоявшим на позициях «русского» футуризма, в национальном ключе. Эти два фактора определяют особенности семантического поля «музыка» в лирике В.Хлебникова.
Образ собственно музыки у В.Хлебникова почти не встречается. Как в поэтических системах Клюева и Есенина, его место занимает образ песни. В семантическое поле образа песни у поэта входит образ «немоты». Песня и немота представляют собой устойчивую семантическую оппозицию: звучание - беззвучие, жизнь - смерть: «Грезирой на камне немот / Я высечь чертоги грезини не мог» («Грезирой на камне немот...).1 Образ немоты здесь -один из вариантов мотива невыразимого. Лирический герой признаётся в том, что силы его грёз недостаточно для того, чтобы во всей полноте отразить мечту («чертоги грезини»), мёртвый «камень немот» не поддаётся поэтическому вдохновению, он не способен воссоздать сокровенный образ.
Помимо неологизмов, «хлебниковизмов», по О.Клингу [90: 101], которые включаются в традиционные метафоры, важным средством создания образа немоты у Хлебникова выступает парономазия: «Немотичей и немичей / Зовёт взыскующий сущел» («Война - смерть»). Слово «немец» произошло от слова «немой». Здесь же Хлебников устанавливает и обратную связь - «немой» - значит «неясный». В единую смысловую цепочку включаются два различных по своему значению слова: «немотичей» - от «немота», «немичей» - от «немец» (т.е. «чужой»). С помощью близких по звучанию и функции (обозначение лица) словообразовательных морфем (-ич-) осуществляется и смысловое сближение: «немой» значит «непонятный», «враждебный», «чужой». Близкие по звучанию слова предстают как варианты одного общего понятия, а языковой оборот превращается в знак высшей истины.
Причём, если первое слово в синтаксически параллельном ряду - «отсвет» - вполне общеупотребительное, то формы остальных («отмет», «отволос», «отголос», «отколос») образованы по аналогии с ним. Сохраняя исходный, делающий слово узнаваемым корень, Хлебников присоединяет к нему несвойственные в языке аффиксы (ср. также - «звученик», как «мученик»). С другой стороны, материалом для создания неологизмов, характеризующих лирического героя, являются не аффиксы, а корни слов или их части. Из слияния двух корней об- разуется новое слово с более широким значением. Так, слово «немостыня» ассоциативно связано и с «милостыней», и с «немотой», и с «пустыней».
Интересно, что у Хлебникова нет неизменяемых слов. На примере этого текста видно, все его слова - «живые» с точки зрения формы. Это отражается и на значениях слов: «абстрактность» как компонент значения почти теряется, переходит в «вещественность». Слово, которое привычно осознавалось как абстрактное по содержанию (например, «немота»), у Хлебникова, изменяясь, ощущается как нечто зримое и живое («немизны» - мн. ч.).
Лирический герой Хлебникова ощущает себя частью этого зримого и живого мира. И если мир мучается, не умея выразить себя, то и человек, его разумный атом, страдает вместе с ним, пропуская через себя его боль: «Познал я числа, / Узнал я жизнь. / Я явсть без смысла, / Я песнь немизн» («Познал я числа...»). Последние две строки организуются приёмом оксюморона. Лирический герой узнал не только жизнь, но и себя, он осознал в себе парадоксальное сочетание противоположных начал. Это свидетельство его исключительности и залог будущей (или уже ощущаемой) трагедии. В этом раннем стихотворении 1906 года он словно подводит итог своей жизни и своим поискам: бессмыслица, обречённая на непонимание.