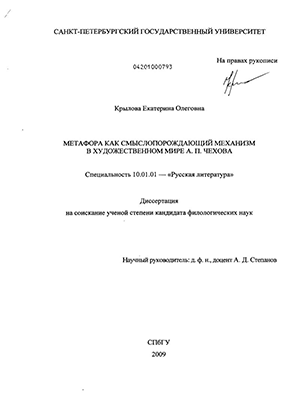Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Историко-литературные и теоретические основания исследования. 10
1.1. «Поэтичность» прозы и особенности чеховской метафорики в трактовке критики и литературоведения 10
1.2 Концепт: к определению понятия 25
1.3. Метафора: к определению термина 29
Глава II. Метафорические репрезентации эмоций и коммуникации в творчестве Чехова 32
2.1. Специфика чеховской метафорики (общий обзор) 32
2.2. Метафорические репрезентации эмоционального состояния тоска . 56
2.3. Система метафорических репрезентаций в рассказе «Скрипка Ротшильда» 71
2.4. Метафорические репрезентации коммуникации 86
Глава III. Метафорические репрезентации чеховской аксиологии 93
3.1. Метафоры искусства. «Талант» и «бездарность» 93
3.2. Метафоры «скуки» и «свободы» 109
3.3. Метафора «футляра» 122
3.4. Амбивалентный концепт «счастье» 136
3.5. Правда, красота и «абсолютнейшая свобода» 141
Глава IV. Единство концептосферы: метафорика раннего и позднего Чехова 150
4.1. Сеть метафорических репрезентаций в повести «Цветы запоздалые» (1882) 150
4.2. Сеть метафорических репрезентаций в повести «В овраге» (1900) 161
Заключение 171
Список использованной литературы 175
- «Поэтичность» прозы и особенности чеховской метафорики в трактовке критики и литературоведения
- Метафорические репрезентации эмоционального состояния тоска
- Метафоры искусства. «Талант» и «бездарность»
- Сеть метафорических репрезентаций в повести «В овраге» (1900)
Введение к работе
Как прижизненная чеховская критика, так и последующее чеховедение уделяли недостаточно внимания функциям метафоры в творчестве А. П. Чехова. Эта тема обычно возникала только в контексте широких и расплывчатых рассуждений о «поэтичности» и «лиричности» чеховской прозы. Исключение составляют работы А. П. Чудакова, в которых содержится целый ряд глубоких (однако не систематизированных) наблюдений над механизмами порождения чеховской метафоры . В настоящем диссертационном исследовании этот вопрос решается с помощью методов когнитивной теории метафоры. На сегодняшний день в рамках когнитивного подхода существуют работы, посвященные анализу и реконструкции отдельных чеховских концептов, однако применение этой теории не только по отношению к чеховскому творчеству, но и в литературоведении в целом до сих пор остается редким.
Предметом диссертационного исследования являются репрезентации базовых метафорических концептов, используемых в творчестве А. П. Чехова и определяющих специфику его художественного мира.
Материалом для исследования послужила как ранняя, так и поздняя проза Чехова, а также драматургия и письма писателя.
Актуальность диссертационного исследования обусловлена как недостаточной изученностью чеховской метафорики, так и необходимостью привлечения к решению задач поэтики современных лингвистических методов, в частности, достижений когнитивистики. Когнитивная поэтика -одна из динамично развивающихся областей современной науки, и попытка применения ее концептуального и аналитического аппарата к поэтике Чехова помогает открыть в его текстах новые смыслы, взглянуть на чеховскую картину мира с неожиданной точки зрения.
Новизна работы заключается в том, что в ней впервые проведено исследование метафорики А. П. Чехова с применением методов когнитивной теории метафоры, при котором чеховские тропы рассматриваются как тексто- и смыслопорождающий механизм, а чеховские тексты - как сеть тонких смысловых взаимосвязей, которые создают эффект «поэтичности». Такое исследование оказывается неотделимо от реконструкции чеховской концептосферы, что позволяет выйти на уровень аксиологии писателя как системы взаимосвязанных метафорических концептов, структурирующих художественный мир. Иными словами, в настоящем исследовании предпринимается попытка проникнуть в суть мировосприятия Чехова, что непросто, поскольку сам писатель обычно избегал прямых деклараций и часто отрицал наличие у себя целостного и систематического «мировоззрения».
Целью диссертационного исследования является выявление, описание и истолкование используемых А. П. Чеховым репрезентаций
1 См., например: Чудаков А. П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986.
ключевых метафорических концептов и исследование стоящих за этими репрезентациями особенностей чеховской «картины мира». Этим определяются основные задачи исследования:
1. Конкретизация интуиции критиков и литературоведов о тех
формальных и содержательных особенностях произведений А. П. Чехова, которые позволяют говорить об их «поэтичности».
2. Определение специфики чеховских тропов, анализ их структуры и
функционирования в текстах писателя с применением методов когнитивной теории метафоры.
3. Реконструкция отдельных фрагментов концептосферы
А. П. Чехова: выявление и описание концептов эмоций, создающих «чеховское настроение», а также базовых концептов чеховской аксиологии.
4. Анализ отдельных произведений А. П. Чехова, позволяющий
продемонстрировать функционирование базовых метафор для
создания смыслового эффекта целого.
Дополнительной - хотя и немаловажной - задачей данной работы
является попытка дать непротиворечивое объяснение некоторым
«случайностным» (по А. П. Чудакову) составляющим чеховских
текстов.
Методологической основой диссертации послужили, с одной
стороны, труды исследователей творчества А. П. Чехова, имеющие не только
историко-литературную, но и теоретико-литературную направленность
(П. М. Бицилли, А. Б. Дермана, В. Б. Катаева, Н. О. Нильсона, И. Н. Сухих,
В. Шмида, А. П. Чудакова и др.), а с другой - работы российских и
зарубежных специалистов в области когнитивной лингвистики
(Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Е. С. Кубряковой,
Ю. С. Степанова, Н. Ю. Шведовой, Дж. Лакоффа, М. Джонсона, Ж. Фоконье,
М. Тернера и др.).
Основные положения, вынесенные на защиту:
Для понимания как целостности чеховских текстов (отсутствия в них «случайного»), так и их особой «поэтичности» оказываются эффективны аналитические методы когнитивной теории метафоры, которая рассматривает тропы как тексто- и смыслопорождающий механизм. Исследование отдельных порождающих тропов в текстах Чехова ведет, в конечном итоге, к реконструкции концептосферы художника, его «картины мира».
Ключевой для понимания «чеховского настроения» концепт тоска представляет собой сложный семантический комплекс, «распыленный» по множеству текстов писателя, но обладающий единством содержания и способа репрезентации.
Концепты талант и бездарность у Чехова оказываются метафорически связаны с оппозицией влажное / сухое. Посредством этого противопоставления в прозе и письмах Чехова выражается целый ряд абстрактных понятий.
Концепт скука в текстах Чехова может выражаться пространственной метафорикой. Подобно понятию бездарность, он соотносится с сухостью и «изъянами» пространства. Скука у Чехова выступает как эмоциональный эквивалент бездарности. Чеховская предметно-пространственная метафора оказывается весьма необычной: пространственная метафора часто дополняется «сенсорными» элементами.
Самопоглощенность человека, выраженная в метафоре (имплицитно присутствующей в тексте и реконструируемой из ее метафорических репрезентаций) люди - закрытые сосуды, оказывается одной из самых важных чеховских тем. Идеал Чехова, скрытый в его метафорике, - это выход из состояния замкнутости, и потому свобода становится ключевым концептом чеховской аксиологии.
Все подлинные ценности в чеховском мире способны передавать эмоциональное состояние одного человека другому. Именно поэтому представление одаренности (например, музыкальной) в творчестве Чехова связано с представлением о людях как сообщающихся сосудах. Талант предстает как некое свойство, с помощью которого человек может преодолевать барьеры и «перелить» метафорическую «жидкость» из сосуда в сосуд. Выход за пределы «сосуда» - это ощущение единства с миром, слияние субъекта и объекта. К этому идеальному пределу человеческой свободы и устремлена вся система чеховских метафорических репрезентаций.
Глубинная метафорическая система, порождающая чеховские тексты, остается, в основном, единой на протяжении всего творчества писателя.
Теоретическая значимость работы определяется тем, что примененный в диссертации подход может оказаться эффективным для дальнейших исследований художественного мира как А. П. Чехова, так и других писателей, для сближения лингвистики и литературоведения.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы при разработке курсов по истории русской литературы XIX века, поэтике, стилистике и лингвопоэтике; в спецкурсах и спецсеминарах, посвященных проблемам русской литературы второй половины XIX века и творчества Чехова; в разработке методических рекомендаций по изучению прозы и драматургии Чехова, а также в работе над словарем языка писателя.
Апробация диссертации. Основные положения диссертации были изложены в ряде докладов на следующих международных конференциях: «"То в телеге, то верхом...": путешествие и дорога в русской литературе» (Пушкинские горы, 2004), «Чеховские чтения в Ялте» (Ялта, Украина, 2005), «Молодые исследователи Чехова» (Москва - Мелихово, 2005, 2008), «Пушкин, Гоголь, Петроний, Данте: "римские каникулы" в русской и мировой литературе» (Пушкинские горы, 2005), «"Являться муза стала мне...": творчество писателя как предмет литературы» (Пушкинские горы, 2005), «Биография Чехова: итоги и перспективы» (Великий Новгород, 2006), «XXXVII Международная филологическая конференция» (СПбГУ, 2008),
«Удовольствие и наслаждение как явления культуры» (Пушкинские горы, 2008), «Образ Чехова и чеховской России в современном мире» (Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом) и СПбГУ, 2008), «Современные методы исследования в гуманитарных науках» (Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), 2008).
По теме диссертации опубликовано 5 статей, две из них - в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения.
«Поэтичность» прозы и особенности чеховской метафорики в трактовке критики и литературоведения
Критики и исследователи чеховской прозы с давних пор признавали, что одной из самых ярких ее специфических особенностей оказывается так называемая «поэтичность». Тезис о «лиричности», «музыкальности» чеховских рассказов и повестей давно стал общим местом чеховедения. Такие оценки появлялись уже в первых рецензиях на чеховские сборники в середине 1880-х гг.14, а после «Степи» стали обычными. В отличие от многих других суждений критики, они не вызывали резкого отторжения у автора; известно, что самому Чехову некоторые отрывки из повести «Степь» напоминали стихотворения в прозе15. Более того, писателем высказывалась и «теоретическая» мысль о родстве прозы и стиха как эстетическом критерии: «Может быть, я и не прав, но лермонтовская "Тамань" и пушкинская "Капит анская дочка", не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой» (Я. П. Полонскому, 18 января 1888 г.; П. 2, 177).
При этом надо отметить, что слова «поэтичность», «лиричность» и «музыкальность», указывающие на сходство прозы с поэзией, употреблялись современниками Чехова туманно-метафорически и недифференцированно. Впоследствии, в научной литературе, эти понятия также не получили четкого определения и разграничения. Так, А. Б. Дерман в понятие «поэтичности» прозы А. П. Чехова включал «музыкальность стиля»16, известная работа Н. М. Фортунатова была основана на прямом переносе музыкальных понятий («побочная партия», «динамическая реприза» и т.п.) на структуру литературного произведения . А. П. Чудаков, ставя знак равенства между «поэтичностью» и «лиризмом» чеховской прозы, замечал в то же время, что метафора «музыкальности» требует филологической конкретизации18. Такая постановка задачи кажется нам безусловно верной, и в дальнейшем мы попытаемся конкретизировать интуиции критиков и литературоведов, раскрыть некоторые формальные и содержательные особенностей чеховской прозы, которые сближают ее с лирической поэзией. Однако сначала попытаемся понять, какой смысл вкладывали в указанные выше (и близкие к ним) слова современники Чехова, для которых отличие его прозы от текущей литературы конца XIX века (говоря словами Ю.Н. Тынянова, ее «выпадение из системы») было более очевидно, чем для нас.
«Поэтичность» чеховской прозы для критиков-современников заключалась прежде всего в лиризованном, проникнутом личным отношением говорящего описании природы. Одним из первых на эту «пантеистическую» черту поэтики Чехова указал в своей дебютной статье Д. С. Мережковский: «У г-на Чехова, как у истинного поэта, есть эта глубокая сердечность и теплота в отношении к природе»19. Лиричность неотделима от музыкальности: «По этому небольшому отрывку Мережковский цитирует описание из рассказа «Враги». - Е. К. можно судить о мастерстве г-на Чехова изображать природу такими тонкими и вместе с тем резко определенными индивидуальными чертами, что описание воспроизводит все неуловимые музыкальные оттенки впечатления» . Рассказ «Мечты» Мережковский называет «маленькой поэмой в прозе»21, а о лирических фрагментах рассказа говорит, что они «написаны музыкальной прозой, напоминающей своим изяществом хороший стих»22. Мысль о родстве чеховской прозы со стихом звучит и в другой, написанной гораздо позднее и в целом уже негативно оценивающей «идейный смысл» чеховского творчества, статье Мережковского: «Отличительное свойство русской поэзии — простоту, естественность, отсутствие всякого условного пафоса и напряжения, то, что Гоголь называл "беспорывностью русской природы",/ Чехов довёл до последних возможных пределов, так что идти дальше некуда. Тут последний великий художник русского слова сходится с первым, конец русской литературы — с началом, Чехов - с Пушкиным» .
В свойстве «поэтичности» чеховскому пейзажу не отказывали даже самые решительные противники чеховского «безыдейного» творчества, такие, как М. А. Протопопов: «Его описания природы блещут тургеневскою красотой и поэзией .. . прочитавши "Степь", всякий скажет, что автор этой повести с природою одной жизнью живет, разумеет ручья лепетанье и чувствует трав прозябанье»24.
Критика чувствовала выразительность не только отдельных пейзажных фрагментов, но и изящество чеховского стиля в целом. Беллетристика 1890-х гг. на фоне Чехова казалась современникам (по известным словам Горького) «написанной не пером, а точно поленом». В этом сходились критики самых разных направлений. А. Л. Волынский писал о том, что Чехов обладает «выдающимся поэтическим талантом», отмечал «блестящие внешние краски, выразительный язык, богатство поэтических нюансов» . В. А. Гольцев иллюстрировал чеховское стилистическое мастерство, способное «опоэтизировать самую смерть» примером из рассказа «Враги», где словами передано то, что «умеет передавать только музыка» . Андрей Белый признавал, что «Чехов - удивительный стилист. Он первый инструменталист среди русских писателей-реалистов»27. Если для Белого Чехов был художником, который благодаря тонкому стилистическому чутью вплотную подошел к задачам символизма, то молодой Маяковский, вопреки иконоборческому пафосу раннего футуризма, видел в Чехове собрата по строительству нового языка: «Мне ... хочется приветствовать его достойно, как одного из династии "Королей слова" ... Все произведения Чехова - это разрешение только словесных задач»28. Маяковский противопоставлял чеховский стиль всему русскому реализму: «Рядом с щелчками чеховских фраз витиеватая речь стариков, например, Гоголя, уже кажется неповоротливым бурсацким косноязычием. Язык Чехова определён, как "здравствуйте"; прост, как "дайте стакан чаю"»29.
Итак, некое особое качество чеховской прозы чувствовали все - и критики-народники, и критики-либералы, и критики-поэты, символисты и футуристы, — но при этом у каждого оказывался «свой», не похожий на других, Чехов. Представление о «поэтичности» не получало должной конкретизации.
То же можно сказать и о «музыкальности», на которую не раз указывали профессиональные композиторы. Известна часто цитируемая фраза Д. Д. Шостаковича: «"Чёрного монаха" я воспринимаю как вещь, построенную в сонатной форме»30. В. П. Соловьев-Седой вспоминал, что его учитель, воспитатель целой плеяды композиторов, профессор Ленинградской консерватории П. Б. Рязанов «иллюстрировал учение о музыкальных формах анализом рассказов Чехова. Рассказ «Полинька» (1887) для П.Б.Рязанова служил примером "полифонической формы, основанной на контрапункте внешнего и внутреннего действия"» . Самое авторитетное признание получила музыкальность рассказа «На пути»: молодой Сергей Рахманинов прислал Чехову свою «Фантазию для оркестра» с надписью: «Автору рассказа "На пути", содержание которого служило программой этому музыкальному сочинению»32.
Разумеется, композиторы не могли передать свои ощущения в литературоведческих терминах, но то, что они «чувствовали» можно-сформулировать в более точных словах. Известно, что в основе построения любого1 музыкального произведения лежит развитие темы по принципу сопоставления и повторяемости. По всей видимости, именно изучение системы перекличек, повторяющихся мотивов может объяснить ту «музыкальность» чеховской прозы, которую находили у него музыканты. Как нам кажется, эти переклички следует искать на всех стилистических уровнях: ритмическом, фонетическом, лексическом и синтаксическом.
Метафорические репрезентации эмоционального состояния тоска
Как показывают специальные исследования, среди концептов, наиболее ярко отражающих русскую ментальность, особо выделяются «тоска» и «скука»119. А. Вежбицкая, анализируя произведения русской классической литературы, приходит к выводу, что в русском языке лексемы «тоска» и ее производные оказываются одними из самых частотных .
Концепт «тоска» со всеми его коннотациями, несомненно, оказывается ключевым в чеховской прозе и драматургии, он выступает одним из камертонов «чеховского настроения». Как и в случае с другими концептами, Чехов отталкивается от определенного общеязыкового метафорического представления и преобразует его в соответствии со своими художественными задачами. В этом разделе мы попробуем описать эти специфические трансформации.
При попытках объяснить, что такое «тоска» (в отличие от близких эмоциональных состояний — «печали», «грусти», «хандры» и т. п.) лингвисты обычно указывают на два главных отличительных признака: недостачу (как правило, эмоциональную) и отсутствие надежды на восполнение этой недостачи в будущем . Эмоциональная неудовлетворенность героев, живущих в условиях «устойчивого конфликтного состояния» (А. П. Скафтымов), — очевидный лейтмотив поздней прозы и драматургии Чехова.
Веэюбгщкая А. Лексическая семантика в культурно-сопоставительном аспекте // Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. С. 503-653; Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997; Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.5 2002.
Однако репрезентация тоски в этом значении появлялась и в ранних, юмористических и пародийных, текстах Чехова.
Уже в ранней чеховской прозе широкое распространение получил прием олицетворения: «тоска» эксплицитно или имплицитно представала в виде эюивого существа. При этом тоска «гнездится» в человеке, сердце и грудь оказываются вместилищами тоски, а пробравшееся в них живое существо предстает как хищное: оно «вгрызается» в человека, враждуя с его желаниями и чувствами. Эта семантика характерна как для утрированно-пародийных, так и для вполне серьезных текстов Чехова:
- Анета! - крикнула она. - Что это Теодор нейдет? Тоска грызет мое сердце («Тысяча одна страсть или страшная ночь», 1880; 1, 37);
Степан ехал и думал, что он умирает. В голове его было пусто, туманно, а в груди грызла тоска... («Барыня», 1882; 1, 264).
Представляемой таким образом тоске приписываются и другие атрибуты живого существа (небольшого животного): например, способность возиться в груди. В следующем примере комический эффект возникает в результате деметафоризации «груди», которая происходит за счет упоминания в одном ряду с ней «корсажа»; тем самым метафорическое вместилище {грудь) становится «грудью из плоти»:
Ее грудь вздымалась под корсажем, как волна. Там, под корсажем и грудью, происходила страшная возня: тоска, угрызения совести, презрение к самой себе, страх... («Два скандала», 1882; 1, 439).
Однако гораздо чаще молодой Чехов использует стертые языковые метафоры готовыми, не прибегая к преобразованиям, а лишь слегка изменяя их на уровне означающего:
Рядом с этим лицом мелькали в ее воображении лица его товарищей, гостей, старушек-утешительниц, женихов и плаксивое, тупое от горя, лицо самой княгини, и тоска сжимала бедное сердце Маруси. Как пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около этих родных, любимых, но ничтожных людей!
Тоска сжимала ее сердце, и дух захватывало от одного страстного, еретического желания... («Цветы запоздалые», 1882; 1, 410);
- Так ей и следует! - сказал он утром, проснувшись, но... он лгал! Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его сердце («Два скандала», 1882; 1, 445).
Если в первом примере используется «готовое» узуальное сочетание тоска сжимает сердце, то во втором - конвенциональное сочетание щемящая тоска преобразуется в совершенный вид {защемила) и получает каламбурный характер (сочетаются инхоативное значение - начала щемить — и значение законченного однократного действия - прищемила) и, таким образом, конструкция несет в себе снижающий комический потенциал, который Чехов реализует в других ранних рассказах:
Пробило шесть часов, желудок Амаранты ущемила тоска по утреннем чае, а он всё говорил («Жены артистов», 1880; 1,61);
Кунина защемила тоска по чаю.
«Нет, не дождусь я тут чаю! - подумал он, глядя на часы. - Да кажется, тут я не совсем желанный гость ... » («Кошмар», 1886; 5, 66).
Во втором примере комический эффект создается за счет соединения стилистически разнородных лексем: тоски и чая. «Высокие» коннотации лексемы тоска исчезают, эмоция переносится на бытовой предмет и глагол «щемить» начинает звучать диссонансом . В первом же случае комический эффект перенесения с высокого на низкое усиливается за счет несоответствия «системы» и «органа», который обслуживает эту систему124. В узуальном фразеологизме «тоска» может щемить сердце — «привычное» для нее вместилище, но никак не желудок. Кроме того, в глаголе ущемить стирается значение начала действия и остается только комическое значение механизации живого - «зажима».
Впрочем, значение «зажима» (чужеродного предмета внутри человека), несомненно, ассоциативно связывается у молодого Чехова и со значением находящегося внутри «живого существа». Ср.:
Она по-прежнему всё больше молчала, часто плакала и изредка ставила горчичники Грохольскому. Впрочем, ее можно поздравить с обновкой. Внутри ее завелся червь. Этот червь - тоска... Она сильно тосковала, тосковала за сыном, за прошлым житьем-бытьем, за весельем («Живой товар», 1882; 1, 385).
Здесь мы.видим сложную трансформацию устойчивого словосочетания точит червь. Метафора обретает статус окказиональной за счет дробления словосочетания, его постепенного, трехэтапного, разворачивания в тексте. Вводная фраза извещает читателя о некой «обновке», т. е. предмете, однако затем «обновка» превращается в метафору - «червя», и только в третьем предложении поясняется, что этот червь — тоска. Тройная оппозиция живое vs. неживое vs. абстрактное оказывается снятой семантикой «помещенного внутрь человека чужеродного предмета, мешающего жизнедеятельности».
Этому «внутреннему» значению концепта противостоит у Чехова «внешнее»: «В знойном воздухе повисла угнетающая тоска, когда дрожащий народ густой толпой окружил Степана и Марью...» («Барыня», 1882; 1, 272). Тоска, повисшая в воздухе, дана здесь в отстраненном восприятии повествователя: эмоция, которой охвачены герои «немой сцены», как бы выходит из каждого отдельного «вместилища» «наружу» и воспринимается как нечто, находящееся «вне» человека.
Тоска может быть репрезентирована и в виде неопределенной внешней «силы», способной, прижимать, ломать, гнать человека:
- ...А убил скворца от тоски... Тоска прижала... ... После водосвятья напился... Назавтра тоска пуще прежнего... Ломит тебя да из избы гонит... Так и гонит, так и гонит\ Сипаї Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять! («Он понял!», 1883; 2, 173).
Читательское восприятие этой метафоры, несомненно, должно склоняться к значению «тоски» как внешней гнетущей силы. Однако глагол «ломить» связан также и с языковыми метафорами внутренней боли («ломит поясницу» и т. п.) и, таким образом, «внешнее» и «внутреннее» здесь оказываются тесно переплетены. В этом проявляется, по-видимому, не только специфика чеховской метафоры, но и те общие свойства языковой метафорики, о которых пишет Н. Д. Арутюнова: «Поскольку внутренний мир человека моделируется по образцу внешнего, материального мира, основным источником психологической лексики является лексика «физическая», используемая во вторичных, метафорических смыслах»125.
Метафоры искусства. «Талант» и «бездарность»
Метафорический комплекс музыки как особого языка, позволяющего преодолевать обычные для чеховского мира провалы коммуникации, представлен у Чехова большим количеством материальных означающих. Анализируя «Скрипку Ротшильда», мы уже показали одно из них: человеческое тело предстает как «футляр», а душа (или определенное эмоциональное состояние) - как музыкальный инструмент. Примеры подобных представлений встречаются и в других рассказах: «- Женщина... -усмехнулась Сусанна. - Разве я виновата, что бог послал мне такую оболочку? ... Не от скрипки зависит выбор футляра» (Тина, 1886; 5,365); «Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка» (Палата № 6, 1892; 8, 91).
Истоки этой метафоры — в раннем юмористическом творчестве Чехова, где широко используются обычные для «малой прессы» его времени овеществляющие метафоры. Среди них есть и представления человека через музыкальные инструменты. Они могут, например, метонимически замещать играющих на них музыкантов или быть (метафорически) внешне подобны исполнителям. Так, например, в рассказе «Контрабас и флейта» (1885) последовательно проводится параллель «инструмент - исполнитель»:
Иван Матвеич и Петр Петрович с внешней стороны так же похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович -высокий, длинноногий блондин с большой стриженой головой, в неуклюжем, короткохвостом фраке. ... Иван же Матвеич изображает из себя маленького, тощенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким тенорком ... Приятели сильно расходятся и в своих привычках. Так, контрабас пил чай вприкуску, а флейта внакладку ... Флейта спала с огнем, контрабас без огня (4, 190-191).
Этот комический по происхождению прием, меняя функцию, переходит в серьезное позднее творчество. В «Скрипке Ротшильда», как мы уже видели, при описании оркестра, в котором играют Яков и Ротшильд, звуки, издаваемые инструментами, напоминают человеческие голоса, передают человеческие эмоции и в целом характер музыканта: «...скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого — плакала флейта...» (8; 297). В данном случае перед нами пример олицетворений.
Метафора душа — музыкальный инструмент связана с коммуникативной проблематикой и может являться смысло- и текстообразующим элементом в чеховских «диалогах глухих»:
Ирина. Это не в моей власти! Я буду твоей женой, и верной, и покорной, но любви нет, что же делать! (Плачет.) Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян.
Пауза.
У тебя беспокойный взгляд.
Тузенбах.Яне спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня, и только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать. Скажи мне что-нибудь.
Пауза.
Скажи мне что-нибудь...
Ирина. Что? Что? Кругом все так таинственно, старые деревья стоят, молчат... (Кладет голову ему на грудь.)
Тузенбах. Скажи мне что-нибудь.
Ирина. Что? Что сказать? Что? Тузенбах. Что-нибудь. Ирина. Полно! Полно! («Три сестры», 1901; 13, 180-181)
Подобная метафора (человек - пианино/рояль) встречается и в одном из писем Чехова ялтинского периода. Писатель, лишенный общения, не видящий отдачи от своей работы, сравнивает себя с музыкальным инструментом, на котором некому играть:
...какая скука, какой это гнёт ложиться в 9 час. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как всё равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас тут некому играть. (М. П. Чеховой, 11 ноября 1899 г.; П. 8, 300).
Заметим, что не только человек (или его душа), но жизнь в целом может сравниваться у Чехова с музыкальным инструментом. Подобное сравнение встречается в рассказе «Неприятность» (1888), хотя оно, по всей видимости, апеллирует не к звуковому, а к визуальному образу. Иными словами, основанием для структурного отображения концептов жизнь (как совокупность всех жизней) и фортепиано; единичная жизнь и клавиша в фортепиано - служит не звуковая, но визуальная составляющая (сравнение происходит на основе внешнего «сходства»):
Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепиано, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его (6, 148).
«Звуковой» элемент здесь тоже присутствует, так как испорченные клавиши, как и «испорченные» жизни, скорее всего, «не звучат» должным образом или не звучат вовсе. Ср. оживление стертого сочетания звук пустой, за счет превращения его в метафору смерти:
...не сегодня-завтра я превращусь в звук пустой. Мне хотелось бы умереть с мыслью, что она пристроена. Орлов слегка покраснел, нахмурился и сурово, мельком взглянул на меня. На него неприятно подействовало не столько "важное дело", как слова мои о превращении в звук пустой, о смерти («Рассказ неизвестного человека», 1893; 8, 211).
Пустой звук можно интерпретировать как тишину (отсутствие звука), тогда метафора смерть — звук пустой обретает статус «звуковой», т. к. именно слуховой образ становится основанием для метафоризации. Пустой звук также можно интерпретировать как «семантически пустой» знак (имя умершего) - и тогда данная метафора приобретает статус «семиотической».
Думается, в данном контексте уместно вспомнить и знаменитый чеховский звук лопнувшей струны, который можно интерпретировать как метафору конца (прежней) жизни.
Метафорический комплекс музыки напрямую связан с метафорой люди - сосуды и позволяет преодолевать провалы коммуникации, восстанавливая баланс сообщающихся сосудов. Метафоры, носящие комический характер: человек — закрытый сосуд с жидкостью (бутылка), а музыка (и вино, в данном случае) - штопор, откупоривающий ее, встречаются, например, в письме Чехова А. Н. Плещееву:
Вино и музыка всегда для меня были отличнейшим штопором. Когда где-нибудь в дороге в моей душе или в голове сидела пробка, для меня было достаточно выпить стаканчик вина, чтобы я почувствовал у себя крылья и отсутствие пробки (А. Н. Плещееву, 9 февраля 1888 г.; П. 2, 194). Речевая коммуникация в произведениях Чехова редко выполняет свою функцию, взаимопонимание между героями возможно только в случае использования ими языка музыки. Об этом неоднократно писали исследователи:
Разговор Андрея с глухим Ферапонтом ... и оперное пение Вершинина и Маши ... образуют два полюса притяжения: вокруг первого выстраиваются многочисленные "диалоги глухих", ко второму тяготеют немногочисленные случаи, взаимопонимания. Если бы Ферапонт слышал Андрея, Соленый - Тузенбаха; Кулыгин - Вершинина, а Наташа - саму себя, то они, конечно, и не говорили бы... Но говорят ли в своей единственной счастливой сцене Вершинин и Маша? Нет, они поют. Слышат ли они друг друга? Несомненно... Что это, тотальное недоверие к слову?..177
Сеть метафорических репрезентаций в повести «В овраге» (1900)
И название, и место действия повести, село Уклеево, представляет собой ориентационную метафору пространственного «низа», связанного с негативными эмоциями и состояниями: «Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик» (10, 144). Оппозиция «верх-низ» разворачивается и в дальнейшем, приобретая аксиологические коннотации: в V главе есть эпизод, повествующий о том, как Липа и ее мать сидят на краю «оврага» и не торопятся возвращаться домой: «Им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо» (10, 163). Уклеево именуется в рассказе ямой (которая, как мы уже знаем, у Чехова имеет семантику скуки и тюрьмы), и теряет этот негативный смысл только в особом модусе воспринимающего сознания, когда последнее «настроено» на восприятие гармонии музыки и природы. Слово героя в подобных эпизодах сливается со словом повествователя:
Вечером, после катанья, когда ложились спать, во дворе у Младших играли на дорогой гармонике, и если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеево уже не казалось ямой (10, 148).
Есть в повести и метафора футляра, которая выражается через внешний облик отрицательных героев, сравнимый с атрибутами внешности Беликова:
...Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком...» (10, 145);
162 Почему-то и летом и зимой одинаково он Цыбукин. - Е.К. ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно, надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию, или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется (10, 178).
Как и во многих других случаях, одним из основных текстообразующих начал в повести оказывается «водный» метафорический комплекс в сочетании с метафорой люди-сосуды. Случайные, на первый взгляд, диалоги несут метафорический смысл, и при этом метафорическая вода, как и ее физический эквивалент, выполняет амбивалентные функции: она может нести как «абсолютное зло», так и «добро»:
— Взяла мою землю, так вот же тебе!
Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.
После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так (10, 172).
Приведенный контекст являет собой пример «антикоммуникации» людей-сосудов. Ненависть Аксиньи выплескивается «кипятком» и приносит смерть ребенку. Липа в ответ кричит от «боли». Младенец, конечно, метафорически представляет собой сообщающийся с матерью сосуд. Полноценная коммуникация матери и ребенка происходит на невербальном уровне:
- Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. Кто он? Какой он из себе? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я всё понимаю, чего он своими глазочками желает (10, 167).
Муж Аксиньи «отгораживается» от «негативной жидкости» глухотой256. После того, как Аксинья плеснула на ребенка кипятком:
Глухой всё ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там. ... А глухой ничего не понимал, не глядел на нее; он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи и раскусывал их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета (10, 172, 156).
Неестественность отношений, отравленных ложью и ненавистью, метафорически эксплицируется Чеховым через нежелание «естественного», «отприродного» создания пить подобную метафорическую «воду»: Об этом говорит сцена с лошадью и следующий, на первый взгляд, «случайный». диалог, который происходит между Липой, возвращающейся из больницы с мертвым ребенком на руках, и встреченной по дороге женщиной:
Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила.
- Чего же тебе еще? - говорила женщина тихо, в недоумении. Чего же тебе? .. .
— Не пьет... — сказала Липа, глядя на лошадь (10, 172).
Красота и гармония жизни особенно чувствуются в трагическую минуту:
Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз! (10, 173)
Человек оказывается единственным дисгармоничным «элементом» природы, который не может просто наслаждаться жизнью, как «другие твари». Он нуждается в иной «гармонии», среди себе подобных. Мир природы лишь подает пример, но не может заменить человеку человека:
О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому всё равно - весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик! (10, 173).