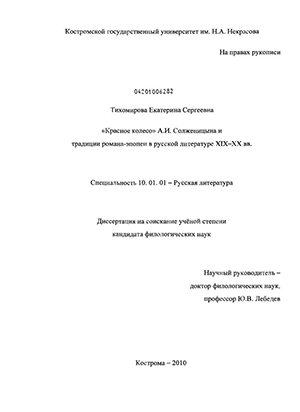Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Жанровые истоки эпопеи а. и. солженицьша «красное колесо» 12
1.1. «Красное колесо» - синтез русской и западноевропейской литературной традиции 12
1.2. Традиции жанра «романа-эпопеи» в произведении А.И. Солженицына «Красное колесо» 33
1.2.1. Война — основополагающая тема эпопеи 33
1.2.2. Диалектика души - важнейший прием изображения человека в эпопее 44
1.2.3. История в личности или личность в истории? 62
1.2.4. Эпопейный герой, равномасштабный событиям 70
1.2.5. Роль личности Николая II в эпопее «Красное колесо» 74
1.2.6. Природа - самостоятельный персонаж эпопей 85
1.2.7. Традиции «семейного гнезда» в эпопее «Красное колесо» 94
ГЛАВА II. Жанровое своеобразие эпопеи а.и. солженицьша «красное колесо» 112
2.1. Эволюция жанра романа-эпопеи в произведении А.И.Солженицына «Красное колесо» 112
2.2. От цикла к узлам 126
2.3. Вожаки Истории
2.3.1. Марионетки Истории 138
2.3.2. Вершители нового времени 148
2.3.3. Толпа как действующий персонаж повествования 153
2.3.4. Неоднозначность образа Ленина в эпопее Солженицына 163
2.4. Многогранная революция — новый виток Истории 171
Заключение 193
Список использованной литературы
- Традиции жанра «романа-эпопеи» в произведении А.И. Солженицына «Красное колесо»
- Эпопейный герой, равномасштабный событиям
- Вожаки Истории
- Неоднозначность образа Ленина в эпопее Солженицына
Введение к работе
Диссертация посвящена проблеме жанровой природы «Красного колеса» А.И. Солженицына, определение которой является спорным вопросом в литературоведении. Причин тому (объективных и субъективных) несколько: во-первых, особенности данного художественного произведения (многотомность, тематическая многоплановость, многообразие сюжетных линий, сложная система пространственно-временных координат, многоуровневая повествовательная структура); во-вторых, специфика творческих задач, решаемых автором; в-третьих, вызывающие споры собственно авторские обозначения жанра «Красного Колеса» .
Некоторые литературоведы видят в «Красном колесе» вариант романной формы. Другие же рассматривают произведение Солженицына как историческую эпопею, что соответствует авторскому замыслу. Сходятся исследователи, пожалуй, в одном: «повествованье в отмеренных сроках» - явление синтетическое и синкретическое. Между тем, указанная особенность составляет характерную черту русской литературы в целом.
По мнению автора диссертации, жанровая специфика книги А.И. Солженицына «Красное Колесо» является одним из ключевых факторов в понимании идейного содержания всего произведения.
Актуальность темы. Определение жанровой специфики «Красного колеса» позволяет увидеть тесную взаимосвязь авторской позиции и архитектоники произведения, роль автора в расстановке смысловых акцентов, которые, в свою очередь, требуют специальных художественных средств для своего воплощения. Личностный аспект, столь значимый для жанровой природы «Красного колеса», со всей очевидностью корректируют представления о своеобразии русской литературы в XX веке.
Актуальность данного исследования связана с очевидной проекцией художественного мира книги Солженицына на сегодняшний день, на общественно-политические и общекультурные процессы в истории России конца XX - начала XXI века.
1 Так, сам автор называет «Красное Колесо» «исторической эпопей», при этом он от-
вергает определение его жанра как «роман» («я не называю его романом - а эпопея, цикл Узлов»).
Цель диссертационной работы заключается в раскрытии жанрового своеобразия многотомной книги Солженицына на основе типологических и генетических связей с аналогичными по тематике и жанровой структуре произведениями русской и западноевропейской литературы XIX-XX вв.
Данная цель определила следующие основные задачи:
установить генетические и типологические связи между эпопеей Солженицына и романами-эпопеями или циклами романов в русской и западноевропейской литературе XIX-XX вв.;
определить важнейшие факторы, оказавшие влияние на становление жанра «Красного колеса»;
показать переход от цикла к «узлу» (термин А.И. Солженицына), от художественных и публицистических аспектов повествования к их синтезу на материале десятитомной исторической эпопеи «Красное Колесо» и произведений русской литературы XIX-XX вв;
представить кольцевую композицию эпопеи в раскрытии авторских творческих позиций, мировоззренческих установок.
Объектом исследования является десятитомная историческая эпопея А.И. Солженицына «Красное Колесо» (1937, 1969-1990) в контексте традиций эпической литературы XIX-XX вв., в которых проявилась установка на создание эпоса нового времени. К анализу привлекаются и другие произведения А.И. Солженицына: неоконченная повесть «Люби революцию», роман «В круге первом», «опыт художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ», пьеса «Свет, который в тебе (Свеча на ветру)», а также публицистические работы писателя, литературно-критические эссе («Литературная коллекция»).
Предмет исследования - жанровая специфика «Красного колеса» в контексте традиций романа-эпопеи в русской и западноевропейской литературе XIX-XX вв.
Гипотеза исследования. Совершенно очевидно, что многотомная книга А.И. Солженицына «Красное колесо» примыкает к устойчивой в русской литературе эпической традиции, широко представленной в XIX веке синтезирующими роман и эпос жанрами, получившими в отечественном литературоведении определение «роман-эпопея». Классическими их образцами являются «Война и мир» Л.Н. Толстого,
«Былое и думы» А.И. Герцена, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, «Тихий Дон» М.А. Шолохова и др. В западноевропейской традиции такие эпические замыслы, напротив, чаще всего воплощались в цикле романов: «Человеческая комедия» О. Бальзака, «Ругон-Маккары» Э. Золя. Есть все основания предположить, что многотомный эпический замысел А.И. Солженицына творчески реализовался в органической опоре на русскую и частично западноевропейскую традицию. Исследовать генетические и типологические связи с ним как раз и призвана наша работа, поскольку именно эти связи позволят отчетливо прояснить жанровое своеобразие «Красного колеса», а также природу его художественной целостности.
Методология исследования основана на сочетании историко-генетического, сравнительно-типологического и герменевтического методов. Историко-генетический метод позволяет проследить связь произведения со всем богатством художественных, научных и идеологических исканий в русской литературе и общественной мысли XIX-XX вв. Использование сравнительно-типологического метода помогает выявить специфику осмысления А.И. Солженицыным исторической тематики в контексте истории русской и западноевропейской литератур. Герменевтический метод даёт возможность выявить природу художественной целостности книги, прояснить её жанровое своеобразие.
Методологической и теоретической базой диссертации послужили теорети
ческие труды литературоведов, посвященные проблемам эпоса нового времени:
В.В. Агеносова, М.М. Бахтина, А.И. Белецкого, Л.А. Колобаевой, Б.О. Кормана,
П.Л. Лейдермана, Ю.М. Лотмана, Н.Д. Тамарченко, Б.В. Томашевского,
В.Е. Хализева, Л.В. Чернец; работы отечественных и зарубежных философов, в которых исследуется личностное начало и его роль в искусстве: Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилёва, B.C. Соловьёва, X. Ортеги-и-Гассета, И. Хёйзинги; труды биографов А.И. Солженицына, позволяющие корректировать наблюдения и выводы: Л.И. Сараскиной, В.А. Чалмаева; работы ведущих исследователей творчества А.И. Солженицына, в которых затрагиваются вопросы жанровой специфики: Ж. Нива, М.М. Голубкова, Т.В. Клеофастовой, П.Е. Спиваковского, А.В. Урманова, Н.М. Щедриной; монографии исследователей жанра романа-эпопеи в русской и мировой литературе: С.Г. Бочарова, Г.Д. Гачева, Л.Я. Гинзбург, В.В. Кожинова,
Т.Л. Мотылёвой, Г.Н. Поспелова, А. А. Сабурова, Б.Л. Сучкова, Р. Фокса, А.В. Чичерина, Л.К. Чуковской и др.; работы исследователей художественных циклов: Л.Н. Долгополова, М.Н. Дарвина, Ю.В. Лебедева, Л.Е. Ляпиной, В.А. Сапогова.
Степень научной разработанности проблемы. Литературоведческий анализ самого крупного, самого важного и, в определённом смысле, итогового произведения художника - исторической эпопеи «Красное Колесо» - далёк от желаемой полноты. Одной из малоисследованных сторон произведения является его жанровая специфика, анализ которой позволит выявить мировоззренческие и эстетические позиции одной из ключевых фигур отечественной литературы XX столетия. Несмотря на то что всё большее число исследователей обращается к системному изучению как всего творче-ства Солженицына , так и «Красного Колеса» .
Научная новизна работы заключается в том, что впервые десятитомная историческая эпопея «Красное Колесо» подвергается комплексному анализу в аспекте её генетических и типологических связей с русской и западноевропейской эпическими традициями ХІХ-ХХ вв.
Дается определение жанра «Красного колеса» Солженицына как исторической «эпопеи-предостережения», представлен анализ художественных «сцеплений», соединяющих это многотомное произведение в единое художественное полотно. Мы показываем в работе, что в отличие от «Войны и мира» Л.Н. Толстого, «Былое и дум» А.И. Герцена, «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского в произведении Солженицына изображается не становление, а неуклонный распад эпического состояния мира, идёт процесс перерождения народа в толпу, а народного героя - в вождя-индивидуалиста, кумира толпы. Именно такое состояние мира чаще всего отражается в эпических произведениях западноевропейских романистов («Человеческая коме-
1 Нива Ж. Слово и взгляд у Солженицына // Континент. - Мюнхен, 1978; Урманов А.В. Поэтика
прозы Александра Солженицына. - М.: Прометей, 2000; Чалмаев В.А. А.Солженицын: Жизнь и творчество. - М.: Просвещение, 1994.
В.В. Гуськов. Система персонажей исторической эпопеи А.И. Солженицына "Красное колесо" как форма воплощения эстетических принципов и мировоззренческих позиций автора: автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуськов Вячеслав Владимирович. - М., 2006; Н.Е. Спиваковский. Символика Вавилонской башни и мирового колодца в эпопее А.И. Солженицына «Красное Колесо» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. 2000; А.В. Урманов. Особенности повествовательной модели эпопеи А. Солженицына «Красное Колесо» // Проблемы художественного миромоделирования в русской литературе: сборник научных трудов / под ред. А.В. Урманова. - Благовещенск, 2004; Н.М. Щедрина. Концепция истории в романе А. Солженицына «Красное Колесо» // Русская литература конца XX века (80-90-е годы). Пути развития прозы и драматургии. - Уфа, 1995.
дия» О. Бальзака, «Ругон-Маккары» Э. Золя, «Ярмарка тщеславия» У.М. Теккерея, «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси и др.).
Проведенный автором диссертации филогический анализ книги «Красное колесо» свидетельствует, что Солженицын творчески осваивает не только опыт русского романа-эпопеи, но и западноевропейские эпопейные замыслы, в центре которых оказывается не объединённый любовью и верой народный мир, а разгулявшаяся на весь мир «ярмарка тщеславия».
Выявлены основания для дифференциации представленного в эпопее Солженицына многостороннего образа толпы и определно его функционально-семантическое содержание: масса - наши - толпа - колонна - группа - кучка - разгул черни - банда - шайка - стадо - бесы.
Теоретическая значимость работы заключается в системном исследовании многотомного произведения А.И. Солженицына «Красное колесо», основанного на циклизации ключевых «узлов» (термин А.И. Солженицына) исторического потока с помощью лейтмотивных образов, пронизывающих всю эпопею и связывающих все «узлы» её в единый круг, что позволяет нам определить жанр «Красного колеса» как «исторической эпопеи-предостережения». В результате возникает художественный синтез, объединяющий традиции западноевропейского цикла романов с традицией русского романа-эпопеи.
Практическая значимость полученных в ходе исследования данных связана с уточнением жанровой природы эпического произведения.
Практическая значимость проведенного в работе исследования определяется возможностью экстраполяции полученных результатов для исследования литературных текстов XX - XXI вв.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы диссертации могут быть использованы в курсе изучения современной отечественной литературы в разделе «О национальном своеобразии русских эпических произведений», в различных спецкурсах и спецсеминарах, посвященных творчеству А.И. Солженицына, в разделах курса «Теория литературы»: «Исторические эпопеи», «Жанровое своеобразие романа-эпопеи А.И. Солженицына «Красное колесо», а также
в дальнейшем исследовании как исторической эпопеи Солженицына, так и всего творчества писателя.
Личный вклад заключается в комплексном анализе всей десятитомной книги «Красное колесо» в ее генетических и типологических связях с русской и западноевропейской эпической традицией XIX-XX веков, в определении жанра «Красного колеса» А. Солженицына как исторической эпопеи-предостережения, а также в анализе художественных «сцеплений», соединяющих это многотомное произведение в единое художественное полотно.
Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается фундаментальным характером поставленной проблемы и разносторонностью ее разрешения; определением исходных теоретико-методологических позиций; комплексностью методологии, адекватной задачам работы; системным подходом; апробацией полученных результатов.
Положения, выносимые на защиту:
В исторической эпопеи А.И. Солженицына синтезируются художественные открытия Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.И. Герцена с традициями западноевропейских эпических замыслов, фиксирующих распад «эпического состояния мира» и организованных в многотомные циклы романов.
В «Красном колесе» А.И. Солженицын развивает традиции романа-эпопеи в русской литературе XIX-XX веков, включая в систему персонажей исторической эпопеи природный мир, семейные «гнёзда», широко используя «диалектику души», показывая кровавую сущность войны. Но первая мировая война не даёт А.И. Солженицыну возможности показать гуманистическую её сторону, как это делает Л.Н. Толстой, сохраняющий в изображении Отечественной войны 1812 года верность истине русских воинских повестей - «не в силе Бог, а в правде».
В эпопее «Красное колесо» подчеркнуто велика роль личности в истории. Именно через активную личность находит у А.И. Солженицына свое выражение историческая необходимость. Здесь писатель опирается не столько на русскую, сколько на западноевропейскую художественную и историософскую традицию,
а также на близкую ей философию истории А.И. Герцена в романе-эпопее «Былое и думы». 4. Произведение Солженицына - эпопея-предостережение, имеющая кольцевую (колесную) композицию, воспроизводит замкнутость исторических фактов, являющихся радиусом большого круга Истории.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждались на аспирантских семинарах и заседаниях кафедры литературы Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. Отдельные положения исследования были представлены в виде докладов на Романовских чтениях (Кострома, март 2008 г., март 2009 г., апрель 2010 г.), на двух Международных научных конференциях «Духовно-нравственные основы русской литературы» (2007 и 2009 гг.) в Костромском государственной университете им. Н. А. Некрасова. Содержание диссертационного исследования отражено в пяти статьях (три из них опубликованы в изданиях, рецензируемых ВАК РФ).
Структура и объем работы определяется поставленными целью и задачами, а также спецификой исследуемой проблемы: диссертация изложена на 208 страницах и состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка, включающего 148 наименований.
Традиции жанра «романа-эпопеи» в произведении А.И. Солженицына «Красное колесо»
Ю.В. Лебедев отмечает, что эпопея в представлении Гегеля, Шеллинга, Белинского «возникает лишь при эпическом состоянии мира, которое характеризуется единством личного и общественного на основе субстанционально значимого общего действия (события)» [86, 30]. (Гегель писал о возможности создания эпопеи в том случае, когда народ проснулся уже от тяжелого сна, а дух окреп в себе самом настолько, чтобы производить свой особый мир и чувствовать себя в нем как «под родным кровом».)
Действительно, эпопейные начала в русской литературе закономерно вызваны самим историческим состоянием жизни России, национальное самосознание которой получило творческий толчок в ходе Отечественной войны 1812 года. Но состояние русской исторической прозы в 20-е годы XIX века было ещё плачевным: писатель пытался заманить в далекий мир прошлого, но сам был плохим экскурсоводом по лабиринтам предрассудков, традиций, нравов («Вальтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей. Но как все они далеки от шотландского чародея! подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старины, не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости» [51, 46]).
Таковы первые русские исторические романы М.Н. Загоскина и И.И. Лажечникова. Именно время потребовало их рождения: «Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании» [101, 68]. Романы М.Н. Загоскина стали первым опытом в художественном осмыслении истории. (СТ. Аксаков в своей статье о романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» говорил: «...наконец словесность наша обогатилась первым историческим романом, первым творением в этом роде, которое имеет народную физиономию: характеры, обычаи, нравы, костюм, язык... Это небывалое явление на горизонте нашей словесности...» [20, 4] Да, опыты исторической прозы в русской литературе 1820-х годов предпринимались («Борис Годунов», «Арап Петра Великого» Пушкина, «Думы» К.Ф. Рылеева, «История Государства Российского» Карамзина), но исторического романа среди них не было.) Множество сцен из народной жизни, образы простых мужиков-ополченцев, под натиском которых поляки были вынуждены покинуть сожженную и разграбленную ими Москву. М.Н. Загоскин выбрал Смутное время (и В.Скотт испытывал интерес к кризисным эпохам европейской истории), когда само существование Российского государства оказалось под угрозой, — эта тема была близка людям, в чьей памяти все еще жила война с Наполеоном. В предисловии к «Рославлеву» М.Н. Загоскин определил исторический роман как выдумку, основанную на историческом происшествии. Исторические персонажи и события оказываются не просто на периферии сюжета (как у В.Скотта), но вне художественного поля романа. (В.Г.Белинский отмечал, что произведения М.Н. Загоскина не имеют художественной полноты и целости, а ведь именно целостность станет неотъемлемым качеством эпопеи, «не отношение целого и части, а такое отношение, в котором разворачиваются первоначальное единство, саморазвивающееся обособление и глубинная неделимость многих разных целых» [7, I, 19]. Например, как революция в произведении Солженицына — спица, соединяющая все «колесики»-узлы, так история одной семьи в эпопее Э. Золя служит сюжетным целям, помогая связывать разрозненные части в единое целое.) «Деятели» истории проявляются лишь в те моменты, когда этого требуют интересы главного героя. Произведения М.Н. Загоскина можно отнести к светской, салонной литературе: от его трудов ждут в первую очередь занимательности, удовольствия — и автор идет навстречу вкусам публики.
Новацией же И.И. Лажечникова являлось то, что главными героями его романов избраны реальные исторические персонажи и в фабуле невыдуманный конфликт. Романы И.И. Лажечникова воспринимались двояко — и как художественные произведения, и как историческое повествование, сообщающее определенную информацию об эпохе, правда, в немного сказочной форме. Здесь и «принц» Артемий Петрович Волынский, спасающий Россию-матушку из жестоких оков «злого колдуна» Бирона, «шагавшего по трупам своих жертв» [25, 61], живущего в Летнем дворце, куда и зверь-то хаживать боится. Есть у него и тень - нечто, его глаза и уши, его злое сердце, - шут Кульковский. Здесь и красавица-девица молдавская княжна Мариорица Лелемико, с загадочным прошлым, наполненным приключениями в доме хотинского паше. И старушка-лекарка в избушке, а вокруг ни кола ни двора, будто добрая фея, изгоняющая бесов молитвами, приговорами и крестом («от горбатенькой старушки так и сияло святынею добра» [25, 119]). Герои его живут на Руси поэтической, волшебной. «Духи и гении, налетевшие толпами из Индии и глубокого Севера и сроднившиеся с нашими богатырями и дурочками, царицы, принцы, рыцари Запада, принесенные к нам в котомках итальянских художников: все это населяло тогда домы, леса, воды и воздух» [24, 67]. В такой-то атмосфере и жило семейство Образца, а долгие лета славил ее Афанасий Никитин.
И.И. Лажечников честно признает в своем произведении изобилие анахронизмов, ибо историческому романисту должно «следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее. Его дело не быть рабом чисел: он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которых взялся изобразить. ... Миссия исторического романиста выбрать из них (звеньев цепи эпохи) самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа» [24, 11].
Эпопейный герой, равномасштабный событиям
Истинный патриотизм, по Солженицыну, в понимании происходящих событий: «наступившая война могла стать или началом великого русского развития или концом всякой России» [32, I, 118]. Именно они читали германских генералов, восхищались их силой, умом, патриотическим чувством, дисциплиной.
Если перенестись на поле боя, то путем сопоставления нетрудно выявить, кто есть кто — граница здесь четкая. Кто служит для почестей личных, для имени, для власти, дабы орденами увешаться, а кто - для могущества России.
Себялюбие - любовь к себе или во имя себя; оно заставляет людей поклоняться самим себе и, если фортуна тому способствует, тиранить окружающих; помимо себя, оно ни в чем не имеет успокоения, «припадая к вещам посторонним, как пчела к цветам», лишь затем, чтобы извлечь из них то, что ему потребно. Нет ничего неистовей его желаний, потаенней его намерений, сноровистей его образа действий; его гибкость невообразима, способность к превращениям затмевает любые метаморфозы. «Глубину его бездн не измерить, их мрак не пронзить. Там оно укрыто даже от самых проницательных глаз, незаметно обращаясь то в одну, то в другую сторону» [26, 113]. Там оно нередко самому себе неприметно; там оно зачинает, вскармливает и взращивает, само того не ведая, целый рой привязанностей и неприязней, «иные из которых столь чудовищны, что, когда они являются на свет, оно само не может или не решается их признать. Из тьмы, его скрывающей, образуются его нелепые представления о себе; от нее проистекают все его ошибочные, невежественные, тупые и вздорные взгляды на собственный счет; из-за нее оно полагает, что его чувства умерли, когда они всего лишь дремлют, или, решив отдохнуть, воображает, что более не пошевелится, или, пресытившись, внушает себе, что утратило вкус к желаниям. Но эта непроницаемая мгла, которая скрывает его от самого себя, не мешает ему видеть то, что находится за ее пределами; этим оно схоже с оком, которое способно видеть все вокруг, а к себе слепо» [26, 115]. В касающихся его существенных интересах и важных делах, которым оно отдается целиком, всей неистовой силой желаний, оно все видит, чувствует, слышит, воображает, подозревает, во все проникает и все угадывает; так что невольно начинаешь думать, что каждая из его страстей наделена собственной магической способностью. Нет ничего глубже и сильней его привязанностей, и ему не удалось бы с ними расстаться, даже если бы ему угрожали самые ужасные несчастья. «Но порой оно быстро и почти без усилий совершает то, чего не могло от себя добиться на протяжении многих лет; правдоподобно будет предположить, что оно само разжигает свои желания куда больше, нежели красота или достоинства того, чем оно жаждет обладать; что ценность и притягательность желаемому придает его собственный вкус; что оно гоняется лишь за собой и, преследуя то, что ему по нраву, следует лишь собственной прихоти» [26, 116]. Все в нем противоречиво: оно разом покорно и властно, искренне и притворно, милосердно и жестоко, отважно и робко. Его склонности столь же многообразны, как многообразен его нрав, заставляющий его стремиться то к славе, то к богатству, то к наслаждениям; эти склонности меняются вместе с летами, положением и опытом; однако много их или мало — ему все равно, ибо при желании и по необходимости оно может делить себя между несколькими или всецело предаваться одной. Оно непостоянно: помимо перемен, вызванных посторонними причинами, их бесконечный рой подспудно плодится в нем самом; «ему свойственно непостоянство непостоянства, легкомыслия, любви, моды, утомления и отвращения; оно прихотливо: порой с невероятным пылом и усердием добивается того, что ему не пойдет впрок, а иногда и того, что для него - прямой вред, лишь бы удовлетворить свой каприз. Оно имеет свои странности: прилежно предается пустейшим занятиям, находит удовольствие в зауряднейших делах и не умеряет гордыни даже в самых постыдных» [26, 116]. Оно присуще всем возрастам и сословиям; оно живет повсюду, питаясь всем и ничем; приноравливаясь к тому, что есть, и к тому, чего нет; оно проникает даже в ряды тех, кто ведет с ним бой, и исполняется их намерениями; что поразительно, с ними оно испытывает к себе ненависть, желает себе погибели и даже трудится над собственным уничтожением. Иными словами, у него одна забота — быть, а быть оно готово хоть собственным врагом. Поэтому не следует удивляться, что временами оно содружествует с самой суровой строгостью и так отважно с ней объединяется во имя собственного изничтожения, «ибо развоплощаясь в одном месте, оно утверждается в другом; может показаться, что оно отреклось от желаний, на самом же деле -временно их ограничило или просто поменяло; и даже когда оно повержено и вроде бы побеждено, оно торжествует в собственном поражении» [26, 118]. Таков портрет себялюбия, чье существование являет собой одно огромное и длительное треволнение; «море — вот верный его образ, постоянные приливы и отливы волн - вот точная картина бурной неразберихи мыслей и вечных порывов себялюбия» [26, 118].
Толстой мастерски нарисовал портрет порока из пороков, придав лику все возможные маски к переодеванию. Василь Курагин — отец троих детей, но все его мечты сводятся к одному: пристроить их повыгоднее, сбыть с рук. Позор сватовства все Курагины переносят легко. Анатоль, нечаянно встретившийся в день сватовства Марье, держит в объятиях Бурьен. Элен спокойно и с застывшей улыбкой красавицы снисходительно относилась к затее родных и близких выдать ее замуж за Пьера. Анатоль лишь слегка раздосадован неудачной попыткой увезти Наташу. Только единожды изменит им их «выдержка»: Элен закричит от страха быть убитой Пьером, а ее брат заплачет, как женщина, потеряв ногу. Их спокойствие - от равнодушия ко всем, кроме себя: у Анатоля «была драгоценная для света способность спокойствия и ничем не изменяемая уверенность» [42, I, 277]. Их душевную черствость, подлость заклеймит честнейший и деликатнейший Пьер, поэтому и прозвучит обвинение из его уст, как выстрел: «Где вы, там разврат, зло» [42, I, 742]. Они чужды толстовской этике. Эгоисты замкнуты только на себе. Пустоцветы. От них ничего не родится, ибо в семье надо уметь отдавать другим тепло души и заботу. Они же умеют только брать: «Я не дура, чтобы желать иметь детей» (Элен) [42,1, 397].
Сбылась мечта Друбецкого, Берга: они женились удачно. В их домах все так же, как во всех богатых домах. Все, как и должно быть: комильфо. Но перерождение героев не происходит. Чувств нет. Душа молчит.
Себялюбие нарасхват. В эпопее Солженицына лестница орденов, званий, погон растет и растет: над двумя дивизиями - корпус, в дивизии - две бригады — густовато начальников и штабов. Скопище самолюбов, чинолюбов, любителей жить как живется, ради своего живота и плеча, «среди них слова о монархии принято звучно произносить, а быть ей истинно преданным — неприлично. Чем выше, тем сплошней они оказались не патриотическим пламенем охвачены» [32, II, 39] - их толпа, кто понимает армию как начищенную лестницу. Завидно здесь работает сила плеча: нельзя допустить, чтобы лестница упала, поэтому «ступенька» и бережет «ступеньку», за которую крепится, благодаря которой и держится. Переступают по ступенькам все больше послушные, исполнительные, умеющие понравиться высшим. «Если ты действовал строго по уставам, директивам, приказаниям - и потерпел неудачу, поражение, отступил, разбит, бежал, - никто тебя не обвинит! и тебе не надо ломать голову, отчего произошло поражение. Но горе тебе, если ты от приказаний отступил, если ты действовал по собственному уму, по смелости, - тут тебе, пожалуй, и удачи не простят, а при неудаче сгрызут совсем» [32, I, 116]. Постовский с папками аккуратно сложенных бумаг, Филимонов с бесплодной энергией для себя одного, Артамонов, отсидевший две академии, неподражаемо умеющий стоять как в магазине на витрине, ждать окончания войны и раздачи призов, генеральских чинов, орденов первой степени («Его стихия была — уезжать, находиться в пути, приезжать, переезжать, - но не воевать, потому что война включала не только движение, но и возможный ущерб чиноповышению при неудачных обстоятельствах» [32, I, 239]); Кондратович, генерал-дезертир, радостно собирающий по тылам корпус или снимающий с боя несколько рот для собственной охраны, «трус известный»; штабисты, сопровождавшие Самсонова, заботящиеся не о смертельно уставшем генерале, не об армии, а о себе (никто не хотел идти с главнокомандующем назад, в пекло сражения, а выйти без него для них служебно невозможно) — образцовые примеры восхождения по лестнице тщеславия, с выражением на лицах своей озабоченности, но не общего дела. И даже тому, чьими навыками, храбростью, стараниями держится линия фронта, нельзя влезть в общую очередь за наградой, а тем более уж перепрыгнуть через ступеньку.
Вожаки Истории
Лишь в таком мире может найти успокоение душа человека, обремененного навязанной ему властью и непомерным долгом перед подданными, только при условии, что рядом есть и будет единственный преданный друг. Алике —женщина, которой не чужды заботы о нуждающихся в добром слове, человеческое единение в молитве («благодарность раненых целительно укрепляла государыню» [32, IV, 524]), которая жаждет верить в чудо, в необъяснимое (отсюда дружба, поклонение Распутину), которая мнительна и к странным знамениям в виде креста на небе (обладая душой созерцательной и мистически-чуткой, не имела «непроницаемой преграды между миром тем и этим» [32, V, 278]), и к таинственным снам, будто у нее ампутируют правую руку (вещий метафорический сон), которая считает себя и дочерью солдата и женой солдата (и гордится этим).
Александра Федоровна, в видении Солженицына, помимо коронованной супруги, - мать от природы. Своим четким диктатом в воспитании детей она добилась бережливого отношения к вещам (ведь наряды будут донашивать младшие), скромности, мастерства рук (Татьяна шила блузы себе и сестрам, вышивала, вязала). С детских лет прививала она любовь к настоящему, народному, так как, по ее убеждению, сила трона — в народе, а через «развитие народных искусств удастся ближе узнать страну, крестьян, губернии и быть в действительном единении со всеми» [32, IV, 392]. Каждым своим действием она доказывала, что в женщине царственна не голова, а материнское сердце (стойко переносила вынужденное лежание подолгу во время беременностей, сама купала сына, знала каждый его ушиб, каждую новую неудачу).
Своим собственным примером она показывала детям, что на первом месте в отношениях между людьми — всегда любовь к человеку. И это чувство не зависимо от социальных ступеней, материального ранга. (Медсестра-царица подавала инструменты при операциях в госпитале, не боясь крови, гноя, рвоты, а главное — не боясь утратить царственного ореола. Обладала сама при этом, казалось, всеми возможными недугами простого смертного, «список их за жизнь составил бы несколько десятков, - все боли мигреневые, невралгические, кардиальные, поясничные, адские головные боли периодами, головокружения, задышка, сердцебиения, расширение сердца, сдвиги сердца, синеющие руки, камни в почках, опухание лица от перемены погоды, воспаление тройничного нерва, ослабление зрения, боль в глазу, как от воткнутого карандаша, боли в челюсти, воспаления надкостницы, одеревенение всего тела, боли в спине, простуды, кашли, ушибы от падений... и регулярно, три-четыре раза в год, полный упадок всех сил» [32, IV, 412].)
Не забывала она и о том, что является помощником-плечом первому лицу государства, да просто Ники для нее, отсюда готовность к решительным действиям, потребность срочно писать, куда-то гнать, не дожидаясь ответа, не откладывая ехать, кого-то убеждать. Окрыленная любовью (она -государев глаз, ухо и крепкая стена в тылу, матерь России), находила в себе «и мужество, и мужскую волю, и мужской разум», прекрасно осознавая, что на троне нужны «и туже поводья, нужно и железо» [32, IV, 534], поэтому и ежедневно внушала мужу быть твердым, рождать в сердцах страх («Хвати кулаком об стол! Будь хозяином! Правит царь, а не Дума! Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом — и раздави их всех под собой! Будь львом против малой кучки негодяев республиканцев!» [32, IV, 534]). Находила в себе и силы ответить на жестокий вопрос: «почему ее так ненавидят?» - да потому что она скала, опора, а это для многих невыносимо. (И при всей своей мощи, как это ни парадоксально, Александра Федоровна беззащитна, ранима, даже одинока. Царственный супруг и тот промолчал, когда Ставка, Николаша, офицеры хотели ее, «нераскоронованную императрицу», запереть «под замок, как вещь, как зверя» [32, IV, 540].)
Обречена на дворцовую крепость, на царственное одиночество и старшая дочь Ольга, из-за чего лишена сердечной открытости даже с матерью. Она упряма да к тому же с «переменным неуловимым настроением» [32, IV, 390]. Взяла от матушки право иметь свое мнение и более того — может его отстоять; от батюшки — осанку, рост и гордость быть шефом с шестнадцати лет одного из гусарских полков.
В их ближайшей узкой семье была и другая Ольга. Но все та же порода, отличающаяся от иных роскошью своей позиции, борющаяся за свою любовь, живущая с лозунгом: «Каждый человек должен быть в этом мире счастлив» — а не в династическом плене вечным заложником. (Оттого и умоляет брата-Государя о разводе с Петром Ольденбургским и о венчании с его адъютантом.)
Простота и доброта - лучшие заповеди домостроя, сама правда жизни, основа семейного дома Благодаревых, хранителей и почитателей патриархального мира. Здесь вы открыты друг другу, подлинны в своей привязанности, искренни в помыслах. К идеальному состоянию в семье может привести только истинная любовь, дарующая детей, озаряющая своим светом, теплом - не только царей, но и крестьян.
Неоднозначность образа Ленина в эпопее Солженицына
И масса сдвинулась! И не удержать боле эту глыбу. Пошла толпа повсюду, разрушая налаженный быт. Петербургская улица в «Марте Семнадцатого» заполняется зловещей толпой-карикатурой на Думу. В лице старшего унтер-офицера Тимофея Кирпичникова с «неразвитым лицом, короткой шеей, ушами плоскими, прижатыми» [32, V, 79]. Его высокомерие, жажда личной власти командования, хотя бы своего пяточка. (Метил сам в школу прапорщиков. Не послали. Обидели. А таких опасно обижать — во сто крат отольется.) И в лице офицера, приказ которого сами солдаты считают глупым. В лицах полицейских надзирателей с переломанной шашкой да в приставе дальнего Пороховского участка, убегая купившего лохмотья у швейцара (не поскупился за свою шкуру и трехсот рублей отвалить). В рыхлом белотелом полковнике Висковском («из тех, кто и долгую службу пройдя, как-то минует испытания железом, а лишь удобно возвышается в чинах. Прежде - в прелестной Варшаве, теперь в Петрограде» [32, V, 344]), с позором бежавшем, бросив своих растерянных офицеров. И в лице соседа-генерала, с седыми усами и дрожащими руками, вытаскивающему папироску из портсигара, прятавшегося за выступом стены на Литейном. И в искривленной гримасе истерически рыдающего капитана Кексгольмского батальона.
Всякая толпа для Солженицына - страшная слепая массовка в чужом спектакле, но именно с ее помощью осуществляется желанный финал теневого режиссера. Толпа-кучка с виду небольшая, но дерзкая, наглая, оттого и верх берет, угрожая. В толпе страшны даже овцы: зеваки, зрители, простаки, готовые подпевать, подлаживаться.
Толпа умна: видит, что власти нет. А значит, вот уже появилась толпа-подстрекатель, швыряющая в окна камни с побудительными призывами: «Эй, бросай работать, отсталые!» [32, V, 68], толпа—задира, вызывающая огонь ранениями драгунов.
Подошло время и для рождения толпы-стада с пастухом-поводырем во главе, указывающим, направляющим бездумную, покорно идущую в любое стойло по одному восклику: «Вооружайтесь кто чем может, болтами, гайками, камнями, выходите из завода, крушите лавочки с руки!» [32, V, 68] И рванут — бить, где что попадется, грабить кухни, выкалывать штыками глаза всем императорам (пусть и портретным).
Толпа - единая, однородная масса, неслоеное тесто. От толпяной силы оторваться — страшно, да просто, кажется, невозможно. И поднялось поставленное тесто. до пирога жуткого, до толпы-вызова. «Девушки в пуховых косынках идут длинными изгибистыми рядами, все сцепясь под локти. Рабочие парни, в пиджаках на вате, смотрят сурово» [32, V, 72]. Расступись, народ, от греха подальше! Прижмись, люд, к стенам домов! Да Нева, напрягись - по льду твоему пошли гуськом вереницы людей...
Толпа берет напором, нахрапом, какой-нибудь гадостью, сделанной исподтишка. Выскочка кинет в городового сколотого острого льда кусок, тот же схватится за рану, кровью залитый. А как запах крови почуяла толпа-зверь, так уж не остановить ее, пока не насытится она, пока не насладится охотой сполна, пока не выплеснет все накопившееся в разрушение (пострадала и хлебопекарня на Лахтинской, и хлебная лавка Ерофеева по Гесслеровскому, и мясная лавка Уткина, и мелочная Колчина, и фруктовые магазины). Сколько бед приносит каждая такая случайно образовавшаяся толпа вырвавшихся из рамок, провозглашающих безнормативное поведение, рекламирующих безнаказанные преступления собственным примером: бросая в лицо поленья, раня двумя кусками льда пристава в ухо, отнимая у городового шашку (ею же, крестя до крови, зубы выбили), сметая полицейских на своем пути, громя повсюду полицейские участки, стреляя по городовым «с полдюжины револьверных выстрелов» («одного ранили в живот, другого в голову, тех ушибли бутылками» [32, V, 166]), под рев толпы выпуская арестованных, выводя камнями из строя трансформатор (и теперь вся площадь в полной тьме).
Толпа-зверь признает лишь тех, кто с опаской глядит в затылок. А остальных клеймит печатью позора, как Павловский полк, из-за Вадима Андрусова, не пожелавшему в затылок, в затылок... Толпа-зверь не щадит героев-одиночек, раздражаясь от их смелого прямого взгляда в глаза, твердой речи в лицо. Она отвечает стаскиванием с лошади, ударами лежачего сапогами, палкой, железным крюком для перевода рельсовых стрелок, дроблением переносицы, рассечением седой головы, переломом руки (ответ полковнику Шалфееву); ревом ликующих и под их улюлюканье добиванием дворницкой лопатой, каблуками (ответ ротмистру Крылову, выехавшему чуть вперед. «Лежал, убитый. Глаза закрыты. Из виска, из носа, по шее кровь. Все подходили, смотрели» [32, V, 168] на бывшего офицера гвардейского полка); револьверным выстрелом в шею (ответ 4-ой роты лейб-гвардии Павловского запасного батальона полковнику Экстену, прибывшему уговаривать бунтовщиков); поднятием в несколько штыков и проколом насквозь (ответ интендантскому полковнику, не дававшему патронов, и генералу, перегородившему путь на Орудийный завод); отделением от своих, приставлением к груди винтовки без штыка, а к голове револьвера (ответ капитану Нелидову); толканием в спину «как огромным бревном - и огненный всплеск из головы полыхнул на небо» [32, V, 407] (ответ Георгию Шабунину, искренне любившему заниматься с солдатами, видящего себя -прапорщика — на нужном кому-то месте); метким бросанием в голову крупной гайки, разбиванием в кровь виска (ответ поручику Нагурскому); уколом кортика в спину (ответ студенту Самокатного запасного батальона Елчину); бросанием голого, уже мертвого тела, в чулан (ответ дежурному офицеру Измайловского батальона); кромсанием в мясо, чем подвернется, сапогами в ухо, поплясыванием на костях (ответ полицейскому); игранием пулями в догонялки (ответ полковнику Балкашину); топлением подо льдами Обводного канала (ответ генерал-майору Дубницкому); надеванием на лицо кровавой маски да он еще смеет не шататься от толчков, щипков, плевков -во двор и выстрел (ответ городовому, капитану Дуброву); сожжением вместе с усадьбой (ответ председателю земской управы Корвин-Литвицкому); катанием по городу на грузовике, показывая народу, бросанием об пол автомобильной платформы (ответ командиру лейб-гвардии Московского батальона полковнику Михайличенко); вторжением в квартиру, обыском, униженным издевательством на улице, убийством (ответ генералу графу Штакельбергу).
Предсмертные вопли — вот последнее слово толпе-зверю. Движется-движется голодное чудище с открытой пастью, напоминающее Лернеискую гидру с девятью головами, страшно шипящих раздвоенным жалом и ищущих смертоносными зубами по Петербургу-панцирю, стараясь найти обнаженное тело. Дикий рев извергало животное, громкий злой гомон голосов из всех голов одновременно. А рядом с ней скачет толпа, с нечеловеческой мордой, с пяточком вместо носа и маленькими рожками на голове. Толпу-зверя надо насытить. И она насыщалась вполне: погромами, смертью, красной свободой.