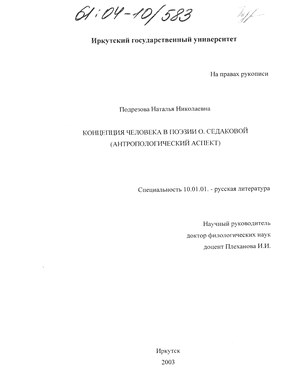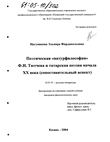Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Человек как часть социума 21
1.1. Образ социальной катастрофы в "Элегии, переходящей в реквием". Система лирических субъектов произведения 23
1.2. Принципы изображения общественного бытия. Типы социальных позиций 43
Глава 2. Человек в кругу природного мира 50
2.1 . Принципы изображения природного мира 51
2.2. Модель мироздания 73
2.3. Назначение человека в кругу природного мира 86
Глава 3. Проблемы личностного бытия человека
3.1. Проявление внутреннего человека. Образ сердца 106
3.2.Система личностных ценностей 119
3.3. Парадокс религиозного сознания. Идея неторного пути к Богу 142
3.4. Самосознание поэта. Формула желания 157
Заключение 174
Библиографические ссылки к тексту диссертации 179
Список литературы 190
- Образ социальной катастрофы в "Элегии, переходящей в реквием". Система лирических субъектов произведения
- Принципы изображения общественного бытия. Типы социальных позиций
- Принципы изображения природного мира
- Проявление внутреннего человека. Образ сердца
Введение к работе
Ольга Седакова - поэт, чье имя связано с поэтическим поколением семидесятых XX века, исключенным из официальной словесности более чем на десятилетие в годы брежневского застоя, когда "слог высокий, сознательно освобожденный от разговорности, от примет повседневного быта, ориентированный на предельно авторитетную духовную традицию, третировался как "вторичный" и "книжный" (Эпштейн М., 46, 159-160). Изучение творчества О. Седаковой находится в самом начале, так как рецензии на выход ее книг, публикующихся в нашей стране с 1990 года, и впечатления от ее поэзии составляют подавляющее большинство написанного об этом авторе.
М. Эпштейн одним из первых наметил тенденцию осмысления творчества О. Седаковой, соотнося авторскую манеру с явлением метареализма в отечественной словесности - "стилевого течения, противоположного концептуализму и устремленного не к опрощению и примитивизации, а к предельному усложнению поэтического языка" (Эпштейн М., 47, 51). Понимая мета-реализм как расширение самого понятия реальности, которая "не сводится в плоскость физического и психологического правдоподобия, но включает и высшую, метафизическую реальность", критик увидел "самый последовательный и крайний метареализм" именно в поэзии О. Седаковой (Эпштейн М, 46, 171) и с этого имени начал выстраивать общий ряд московских и ленинградских поэтов-метареалистов (Е. Шварц, И. Жданов, В. Кривулин, Д. Щедровицкий, В. Аристов, А. Драгомощенко).
Но в критике сегодняшнего дня термин "метареализм" потерял классификационное значение, внеся путаницу в умы читателей. Так, И. С. Ско-ропанова ставит знак тождества между явлением метаметафоризма, описанного К. Кедровым на примере творчества таких поэтов, как А. Парщиков, А. Еременко, И. Жданов (Кедров К., 16, 244-266), и метареализмом, видя в последнем лишь инвариант термина (Скоропанова И.С., 36, 222). Возможность этого хода оправдана тем, что выделенные в качестве определяющих черт стилевого направления сгущенная образность и выстраивание многомерной реальности легко позволяют перегруппировать ряд поэтов, исключив из ме-тареалистов О. Седакову и Е. Шварц и дополнив его именами А. Парщикова и А. Еременко. Закрепило указанную тенденцию перегруппировки ряда ме-тареалистов отдельное издание книги "Поэты-метареалисты: Александр Еременко, Иван Жданов, Алексей Парщиков" (32). Таким образом, термин "метареализм", объединяя разнородные художественные системы (например, Седаковой и А. Еременко), теряет свою значимость, становясь "безразмерным".
Не прояснила место поэзии О. Седаковой в современной литературном процессе и авторитетная работа Н.Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого "Современная русская литература" (Лейдерман Н.Л., Липовецкий М. Н., 26), изданная в качестве учебника. Авторы, описывая поэтические направления новейшей русской литературы, объединили в "поэзию необарокко" творчество И. Жданова, Е. Шварц, А. Еременко, А. Парщикова, оставив художественную систему О. Седаковой за границами предложенной классификации. Хотя имя поэта упоминается в книге дважды, но в связи с его мнением о творчестве И. Бродского (Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., 26, Кн.З, 134, 146).
Проблемным оказывается и соотнесенность художественных принципов О. Седаковой с такими глобальными культурными системами, как модернизм и постмодернизм. Е.А. Князева, рассматривая вслед за М. Эпштей-ном творчество Седаковой как образчик метареализма, открывает статью о поэте утверждением, что/возникнув как постмодернистстское течение в начале 70-х гг., метареализм в 90-е уже отходит от многих постмодернистских установок и оказывается маргинальным явлением" (Князева Е.А., 17, 67). Выводом исследователя становится заключение о том, что метареализм, рассмотренный на примере цикла Седаковой "Китайское путешествие", преодолевает как модернистский, так и постмодернистский способы мировосприятия (там же, 72). Кроме того, исключение О. Седаковой из рядов постмодернистов часто представляется недоказательным, опирающимся на косвенные характеристики, например,такие, как критическое отношение самого поэта к явлению постмодернизма (Жажоян М, 14).Таким образом, творчество Ольги Седаковой, оказавшись выведенным из постмодернизма и преодолевшим, по Князевой, модернизм, оказывается внеположным крупным эстетическим явлениям современности.
В рецензиях на выход книг Седаковой и в откликах на знакомство с ее творчеством литераторы часто обращают внимание на непривычное отношение к слову в стихах поэта, выражая это в самом выборе заглавий своих статей, например, "Чужое слово Седаковой" (Голубович К., 11), "Тени слов" (Жажоян М, 14), "В силках слова" (Скидан А.., 35) и др. И если В. В. Иванов в стихах Седаковой увидел преодоление автоматизма нашего восприятия слова и его смысла (Иванов В.В.,15), то для В. Славецкого непонятность, раздражающая "косноязычием", которое "создает ощущение, что стихи написаны как бы уже не автором, который мог бы выправить их" (Славецкий В., 37, 236), относится к досадным недостаткам поэтики Седаковой, не отменяющим достижения поэта. При этом опыт Н. Славянского показывает, что качество поэтического слова О. Седаковой может быть непреодолимым барьером на пути постижения этой поэзии, так как кроме "невнятицы", задача которой "устроить читателю темную среди бела дня", автор ничего не увидел в стихах поэта (Славянский Н., 38, 229).
На этом фоне попытка С. Аверинцева найти слову Седаковой типологически близкие явления в анналах мировой литературы представляется особенно значимой. Известный литературовед определяет характерность поэзии Седаковой понятием "метафизичность", включая поэта на основании этой особенности в круг таких авторов, как Баратынский, Тютчев, Рильке, где "никаких горячих или тепловатых шероховатостей, работа именно с прозрачностью охлажденного слова, и вместо богатства словаря - очень жесткий отбор лексики, до того универсально-всеобщей, что как бы уже ничьей, "Божьей" (Аверинцев С. 2,10). Обращение к понятию "метафизическая поэзия" побудило автора статьи к пространным пояснениям "во избежание недоразуме ний": во-первых, термин употреблен "с некоторой оглядкой издали на английских Metaphysical Poets XVII столетия", а во-вторых, слово "метафизика" предпочтительнее "философии" только потому, что жанровое понятие "философской поэзии" чересчур уж узко, а понятие присутствия "философии вообще" в поэзии, напротив, слишком неопределенно" (там же, с. 10).
Показательно, что Сергей Аверинцев, говоря о метафизичности поэзии Седаковои, характеризует качество ее поэтического слова. Если в английской литературе понятие метафизической поэзии появилось благодаря новому прочтению Т. Элиотом метафизических поэтов XVII века, то в русском литературоведении это выражение стало широко употребляться благодаря изучению творчества И. Бродского, в чьей поэтической практике увидели традицию английской метафизической поэзии. Так, Михаил Крепе, изучая поэтику Бродского, констатировал в начале восьмидесятых годов прошлого столетия, что «поэт-метафизик воспринимается по-русски как синоним выражению поэт-философ» (Крепе М., 23, 28). Но, желая разграничить эти понятия, исследователь закрепляет за первым значение «поэтического направления», объединяющее поэтов, живших в разное время, но близких специфическими чертами своего творчества. Отличительную черту поэтов-метафизиков литературовед видит в интеллектуальной основе их творчества, где «игре ума», которой порождена необычная образность, отводится основная роль. Это не исключало «чувственного» в их поэзии, уточняет М. Крепе, но выражало эту человеческую сферу «через рациональное, а не эмоциональное освоение темы» (там же, с.30). Именно такое понимание поэтической метафизики наметил и сам Иосиф Бродский, противопоставив метафизику как языковую напряженность стиха лиричности как избытку эмоций, считает И. Шайтанов (Шайтанов И., 42).
Другим признаком поэтов-метафизиков М. Крепе называет христианскую религиозную философию, лежавшую в основе их мировоззрения, посылки которой, уточняет исследователь, в большинстве случаев привлекались «лишь для анализа своих умственных состояний» (Крепе М., 23, 28).
В современной критике объем понятия «метафизическая поэзия» имеет однозначную тенденцию к сужению своего содержательного потенциала до стилевого признака, принадлежащего поэтам разных времен и культур. Так, Г. Кружков, соглашаясь с мнением И. Шайтанова, что «метафизическая поэзия по происхождению понятия и по своей сути - явление языковое, стилистическое» (Шайтанов И., 42), определяет последнюю как сложную речь, порожденную не только «инстинктом украшения», но и тягой к сложности как таковой», исконно присущей человеку (Кружков Г., 24, 22). Основу метафизичности Джона Донна (первого из поэтов, к кому приложил Д. Драйден выражение «метафизическая поэзия») современный его переводчик видит в необыкновенной способности «использовать эрудицию и ум для сопряжения далеких идей, для создания удивительных сравнений, для парадоксальных рассуждений и выводов» (там же, с. 22).
С таким пониманием метафизичности поэзии Д. Донна соглашается и В. Дымшиц, автор предисловия первого двуязычного сборника поэта в нашей стране, считая главным достижением Д. Донна совершенство самого искусства говорения (Дымшиц В., 13, 7). При этом автор статьи эпатажно заостряет мысль о языковой природе метафизичности Донна, утверждая, что «Донн - поэт, которому нечего сказать», «он не мыслитель, а ритор и софист», чей вкус привержен сложным синтаксическим фигурам, силлогизмам, ассоциациям, парадоксам, сближениям далеких предметов (там же, с. 7-8). Не соглашаясь с однозначной оценкой системы идей, воплощенной в стихах Д. Донна, мы можем констатировать, что термин метафизическая поэзия в употреблении русской современной критики характеризует лишь формальный уровень поэтического явления. И Григорий Кружков, задаваясь вопросом: «Метафизична ли метафизическая поэзия?», находит простой ответ на него: «Это - как понимать метафизику, то есть «за-природное» (греч.). Если «за природой» - непознаваемое и невыразимое (Бог), то всякая настоящая поэзия (даже не метафизическая) метафизична, потому что, в конечном счете, познает и выражает именно это» (Кружков Г., 24, 22).
Расширенное понимание метафизичности поэзии мы встречаем в работе И. И. Плехановой, посвященной изучению творчества И. Бродского. Опираясь на философскую категорию метафизики, исследователь соотносит метафизичность поэзии с ее стремлением воплотить онтологический образ мира, «в одухотворенных отношениях с которым человек определяет свое призвание» (Плеханова И.И., 31, 3). Видя в поэзии Бродского стремление к освоению бесконечности через языковой диалог с неведомым, автор осознает стилистические особенности его поэтики (ритмическая, синтаксическая и образная изощренность, парадоксальное сопряжение далеких предметов, преобладание интеллектуального над эмоциональным и т.д.) видимым следствием этого диалога в слове. Кроме того, из содержания всей работы можно сделать заключение, что помимо воплощения целостной картины мира, вписывающей человека в мироздание, и обращенности к неведомому, предельно напрягающей языковые потенции, понятие метафизической поэзии также формирует «самобытный поиск истины», отталкивающийся от готового «миропонимания и человекознания», предлагаемых устоявшимися социальными, религиозными, философскими системами (Плеханова И.И., 31, 281).
Между узким и широким пониманием метафизической поэзии нет кардинальных противоречий, так как их расхождение намечено не наличием противоречащих друг другу признаков, а выделением конституального признака из ряда других. То, что поэзия Ольги Седаковой укладывается в рамки языкового понимания метафизической поэзии, ни у кого не вызывает споров: "без Седаковой разговор о современной поэтической метафизике не мог бы состояться", - замечает И.Шайтанов в статье "Метафизики и лирики", находя особое место поэту "среди многих образованных, далеко не всегда бездарных культуртрегеров и культур диггеров" (Шайтанов И., 42). Вопрос же о метафизике философского толка стихов Седаковой вызывает наибольшие разногласия критиков, так как не имеет наглядности, присущей языковой форме, и остается частным мнением исследователей. Так, с одной стороны, утверждается, что Ольга Седакова - поэт нового содержания (Бибихин В.В., 4, 104), глубокой философской мысли1 (Шевченко А., 43, 110;), создатель "онтологической физики" (Бавильский Д., 2, 110), а с другой, в лице поэта признается лишь виртуозный стилизатор. Именно способность Седаковой менять "стилистические регистры" (античные эпитафии, пейзажная китайская лирика, манера А. Поупа и др.) настораживает И. Шайтанова, видящего место поэта среди культуртрегеров и возводящего его творческую родословную к "школе Спенсера" - "первого великого стилизатора в английской поэзии, владевшего мастерством любой подсветки - и пасторальной, и куртуазно-христианской" (Шайтанов И., 42).
Вопрос же о том, что мешает самому поэту назвать стилизацией такие циклы стихов, как "Китайское путешествие" или "Стелы и надписи" (Седако-ва О. 33, 5), на основании какой внутренней идеи возможно их сосуществование в едином поэтическом мире, остается неразрешенным не только потому, что о форме судить "честнее", "а то ведь того и гляди соскользнешь в фарисейство" (Славецкий В., 37, 237), но и потому, что до сих пор нет целостного прочтения поэзии Седаковой, анализа художественно выраженных онтологических и антропологических категорий в их системном единстве.
Основная тенденция восприятия содержания лирики О. Седаковой связана с осознанием религиозной доминанты ее творчества. Впервые в широкой печати о поэзии Седаковой как феномене современного религиозного сознания высказался в 1993 году С. Стратановский в статье, посвященной религиозным мотивам в современной русской поэзии. Взяв для рассмотрения творчество О. Седаковой, Е. Шварц и В. Блаженных, он приходит к выводу об особом, проблемном, характере религиозной мысли этих поэтов, предполагая, что человеку, "ищущему в религии только утешение", эта поэзия чужда, в то время как "не боящийся задавать "неудобные вопросы" найдет резонанс своим переживаниям в ней (Стратановский С, 39,161).
С. Аверинцев в послесловии к вышедшей в 1994 году книге хвалит поэзию Седаковой за то, что в век, когда "все авгуры окончательно согласились, что творчества, ориентированного на то, что в старину называли сферой неподвижных звезд, как и самой упомянутой сферы, не может быть, потому что быть не может", она соблюдает запрет апостола Павла, не велящего сообразовываться веку сему (Рим 12, 2). С. Аверинцев не возводит напрямую генезис поэзии Седаковой к религиозному опыту, но находит множество причин обращения к христианским реалиям в разговоре о ней (Аверинцев С, 1,359).
Реакцией на высказанную похвалу был не только упрек Н. Славянского в том, что Аверинцев "подсовывает Седаковой костыли, сколоченные из риторических восхвалений" (Славянский Н., 38, 224), но и возможность усомниться в самой природе ее поэтического таланта. Так, А. Пурин в диалоге с А. Машевским, размышляя о "повышенном мистицизме", свойственном стихам О.Николаевой, С.Кековой, Е. Шварц, высказывает сомнение, что для понимания искусства важно знать, "положительный" или "отрицательный" ответ дает художник на "последние вопросы", и категорично решает: "Пусть с этим делом разбираются в Ватикане или Даниловом монастыре; там Хомяков всегда будет "правильней" Пушкина. Сегодня самые "положительные" ответы дает, должно быть, высоко за это ценимая Сергеем Аверинцевым Ольга Седакова. Что же с того?" (Машевский А., Пурин А., 30, 204).
О тенденции восприятия поэзии Седаковой как морализаторской свидетельствует, например, статья Валерия Шубинского о поэзии Елены Шварц, где, характеризуя поэтику последней, автор по контрасту обращается к творчеству Ольги Седаковой: "Образ (у Е. Шварц - П.Н.) не иллюстрирует сюжет стихотворения или поэтическую мысль: он и есть сюжет, он и есть мысль. Это принципиально отличает Шварц от Седаковой, которая, дистанцируясь по отношению к мандельштамовской традиции, подчеркивала значение морали - четкой авторской мысли, "идеологической и этической" составляющей (эссе "Похвала поэзии", 1982). Шварц как раз - не моралист или такой мора лист, которого лучше не слушать" (Шубинский В., 45, 207). В этом суждении удивительно то, что при сопоставлении особенностей поэтических образов двух поэтов автор апеллирует не к стихам, а к высказыванию Седаковой в прозе, не делая поправок на это.
Уникальность критической ситуации по отношению к поэзии Седаковой заключается в том, что, ставя под сомнение ее ценность, исторические эпохи-антиподы сходятся в одной точке неприятия - религиозной составляющей ее стихов. Но если в советское время эта реакция была предопределена существовавшим табу на религиозную тему, то в контексте сегодняшнего дня эта особенность поэзии Седаковой воспринимается как сковывающая нормативность, вносящая пресную "правильность" в творчество поэта.
Таким образом, подводя итог сказанному, мы можем сформулировать основные проблемы изучения творчества Ольги Седаковой, стоящие на первом этапе его научного освоения. Во-первых, проблема поиска художественной целостности, позволяющей осмыслить сосуществование различных стилевых манер в единстве поэтического мира Седаковой. Во-вторых, вопрос о значимости и характере религиозной составляющей стихов Седаковой: является ли она иллюстрацией ортодоксальной нормы или свидетельством современной духовной жизни человека? В-третьих, проблема соотнесенности лирического сознания поэта с известными эстетическими системами современности.
В представляемой диссертационной работе мы обращаемся к содержательному аспекту "сложной " лирики на основе рассмотрения концепции человека в поэтическом мире Ольги Седаковой.
Выбор темы нашего исследования определен обращением к той категории поэтического текста, которая открывает целостное видение художественной системы автора. Мысль о человеке как абсолютном ценностном центре, по отношению к которому не только наделяется определенностью время и пространство художественного текста, но и вообще происходит "упорядочение смысла" архитектонического целого, высказана М. Бахтиным в программной работе "Автор и герой в эстетической деятельности" (Бахтин М., 4). Л. Гинзбург видела специфику лирики в том, что человек в ней присутствует как объект изображения и как субъект, "включенный в эстетическую структуру произведения в качестве действенного ее элемента", указывала на глубокую зависимость поэтической системы от "понимания человека" (Гинзбург Л., 10; 10). Обращаясь к концепции человека как определяющей категории лирики Седаковой, мы получаем возможность разрешения первоочередных вопросов в изучении творчества современного поэта.
Концепция человека, воплощенная в творчестве художника, отражает антропологические представления автора, которые, эстетически реализуясь, инициируют структуру любых человеческих образов (как субъектов речи, так и персонажей) и его отношение к ним в художественной практике. В этом определении есть два момента, которые требуют уточнения.
Первый момент касается понятия автора. Речь идет не об эмпирическом авторе, существующем во внехудожественной реальности, а об авторе, имманентном произведению, авторе как "совокупности творческих принципов, долженствующих быть осуществленными, единстве трансгредиентных моментов видения,1 активно относимых к герою и его миру" (Бахтин М., 4, 226). Принципиально различая автора и героя как "участников события произведения", Бахтин делает существенные замечания об особой авторитетности автора в лирическом высказывании: "...может показаться, что в лирике нет двух единств, а только одно единство; круги автора и героя слились, и центры их совпали" (Бахтин М., 4, 188), - которое объясняет тенденцию отождествления сознания лирического субъекта с сознанием автора. Но дифференциация типов лирического субъекта, проведенная прежде всего Б. Корманом (Корман Б.О., 20, 21, 22), позволила выделить степень слияния сознаний субъекта (героя) и автора в лирике, которая должна учитываться при моделировании последнего исследователем. Так, степень слияния авторского поля предельно увеличивается в менее выраженной структуре субъек та, например, автора-повествователя, и предельно уменьшается в наиболее очерченном (и этим отчужденном) субъекте - герое ролевой лирики. Между этими крайностями располагаются все другие субъектные формы лирики: собственно автор, лирическое «я», лирический герой. Данный ряд лирических субъектов, корректируя и дополняя классификацию Б.Кормана, предлагает выделять современный исследователь субъектной структуры лирики С.Н. Бройтман в своих работах (Бройтман С.Н., 6; 7; 8). Мы остановились на его классификации потому, что в ней есть четкая привязанность к грамматическим показателям лица, включение в ряд субъектов лирического «я» - того недостающего звена у Б. Кормана, которое предшествует по своей степени выраженности лирическому герою. Кроме того, именно классификация последнего, изложенная в получившем широкое распространение учебном пособии для высшей школы, приобрела статус нормативности (Бройтман С.Н., 6). Предложенная классификация не представляется нам безукоризненной и вызывает ряд вопросов (например, чем вызвана перестановка понятий собственно автора и повествователя, предложенная Б. Корманом, с точностью до наоборот), но наше обращение к субъектным формам лирики не носит критической направленности, а обусловлено принятием их в качестве рабочего инструмента, поэтому мы не стали рассматривать эволюцию этих понятий в работах разных авторов, а приняли за основу ту систему, что уже вошла в словарь отечественных литературоведов.
Приведем перечень основных признаков форм лирического субъекта, описанных С.Н. Бройтманом (Бройтман С.Н., 6, 144-148). Автор-повествователь является лишь голосом, высказывание принадлежит третьему лицу, субъект речи грамматически не выражен. Собственно автор выражен грамматически личным местоимением первого лица единственного или множественного числа («я», «мы»), но не становится объектом для себя, помещая на первом плане событие, обстоятельство, явление и т.д. Лирическое «я» отличается от собственно автора большей степенью акцентированное™ и активностью прямо оценочной точки зрения, то есть носитель речи становит ся субъектом-в-себе. Лирический герой становится не только субъектом-в-себе, но и субъектом-для-себя, оказываясь своей собственной темой. Он часто наделен как психологической определенностью, так и биографической, возникающей в контексте всего творчества поэта, книге стихов или цикла. Герой ролевой лирики «открыто» выступает в качестве «другого», близок по своей природе драматическому герою.
Алгоритм нахождения автора как целостности, организующей произведение в лирике, где героем является субъект высказывания, можно представить в два этапа: во-первых, выяснение отношения субъекта высказывания к предмету, о котором он ведет речь (люди, события, явления, собственные переживания), т.е. то, что Бахтин назовет "эмоционально-волевой установкой героя", и, во-вторых, обнаружение реакции автора на реакцию героя через такие компоненты текста, в которых мы находим его непосредственное присутствие. Речь идет о рамочных компонентах текста (заглавие, эпиграф, посвящение и т.д.) и выражениях авторских интенций в таких "трансгредиент-ных" сфере героя явлениях, как композиция, ритм, акустика произведения и др., которые должны быть прочитаны в соответствии с художественным заданием произведения.
Второй момент, требующий пояснения в определении концепции человека, касается способа бытования антропологических представлений в художественном тексте. Антропологические представления могут быть представлены, во-первых, самым наглядным образом в качестве предмета высказывания лирического субъекта, например, в стихотворении О. Седаковой "Пруд говорит...": " Люди, знаешь, жадны и всегда болеют / и рвут чужую одежду / себе на повязки" (Седакова, 33, 280); во-вторых, косвенно в устойчивых чертах образа субъекта высказывания, который определяется как человек через свое человеческое отношение к предмету высказывания (даже если он передоверяет свой голос природному объекту, например, пруду в приведенной ранее цитате); и, в-третьих, в реакции автора на своего героя (субъекта высказывания), ценностная позиция которого может отвергаться, как, напри мер, в стихотворении "Неверная жена" (Седакова О., 33, 144) или, наоборот, утверждаться, приниматься автором, например, через такой выбор формы лирического субъекта, которая оставляет наименьший зазор между автором и субъектом высказывания.
Из этих трех типов бытования антропологических представлений в тексте, безусловно, самым компетентным референтом для нас является последний, но самым наглядным - первый, поэтому, начиная наш анализ с представлений о человеке самого субъекта высказывания, мы, в поиске искомого (положений авторской антропологии, воплощенных в его художественном мире), корректируем их анализом авторского отношения к самому субъекту высказывания. Теоретически четко разделяя эти моменты, мы не всегда подробно останавливаемся на рассмотрении каждого из них в ходе работы (несмотря на то, что они учитываются при прочтении каждого произведения), так как дифференцирование их - не самоцель нашего исследования, а методологический принцип, позволяющий корректно прочитывать авторскую интенцию в художественном тексте.
Помимо указанных моментов понимания концепции человека, существует проблема продуктивной систематизации материала реконструируемой антропологической модели. Интеграция разных уровней (персонаж, субъект, автор) в единую концепцию осуществима в единстве трех аспектов рассмотрения человека: социальном, природном и личностном (проблема внутреннего самоопределения). Отсюда вытекает трехчастная структура основной части представленной диссертационной работы: 1 часть - "Человек как часть социума", 2 часть - "Человек в кругу природного мира", 3 часть - "Проблемы личностного бытия".
В первой части ("Человек как часть социума") мы подробно рассматриваем те немногие стихотворения, что отражают реалии социальной жизни в поэзии О. Седаковой ("Элегия, переходящая в реквием", "Из песни Данте", "Безымянным оставшийся мученик" и др.), пытаясь понять причины слабой проявленности человека в этой сфере бытия. Эта установочная часть работы, ее задача - исследовать значащее умолчание, помогая наметить основные принципы существования человека О.Седаковой, которые в иных областях его реализации раскрываются полнее.
Участию человека в социуме противопоставлено участие в мире природы, где человек выражается через свое отношение к тварному миру. Вторая часть данной работы ("Человек в кругу природного мира") является важной для понимания не только концепции человека, но и назначения поэтического творчества, так как искусство наделяется актуальностью для автора через свою обращенность к природному миру. Акцентирование в поэте прежде всего его человеческой природы позволяет рассматривать образ последнего в системе антропологических представлений.
Если первая и вторая части исследования показывают человека в отношении к внешнему миру, фокусируя внимание на проблеме его (как представителя рода) соучастия в судьбе мироздания, то третья часть ("Человек как личность") раскрывает человека в отношении к собственному "я", поднимая вопрос о назначении его как единицы (лица). Эта часть работы посвящена непосредственно выявлению концепции личности, которая составляет ядро концепции человека, но не заполняет всего объема этого понятТЩелы© данного исследования является реконструкция антропологических представлений, воплощенных в лирике О. Седаковой в их системном единстве, обусловливающих структуру персонажей, лирических субъектов, а также особенности мировидения в художественной практике поэта.
Задачи работы.
1. Проанализировать формы репрезентации человека в лирике Седаковой в аспекте его социального, природного и личностного бытия. Определить общую тенденцию его художественного воплощения и причины превалирования одного аспекта изображения человеческого бытия над другим.
2.Охарактеризовать типы ценностных установок героев внутри каждой из выделенных сфер человеческого существования (социальной, природной, личностной).
3.Раскрыть смысловой объем ключевых концептов художественной антропологии Седаковой (вещество, боль, сердце, судьба, любовь и др.).
4.Определить специфику формирования концепции творческого человека (поэта), ее новаторство и традиционные черты.
5. Проследить содержательную мотивировку выбора форм лирических субъектов внутри каждого из трех выделенных аспектов бытия человека, выявляя доминирующий принцип субъектной организации лирики Седаковой.
6. Конкретизировать типологию поэзии Седаковой, опираясь на авторские антропологические установки, воплощенные в художественной практике; определить место и роль поэзии Седаковой в современном литературном процессе.
Материалом исследования является весь корпус поэтической лирики О. Седаковой, вошедшей в отечественные издания ее поэтических сборников и подборки стихов в периодической печати. Избирательно привлекаются материалы эссеистики поэта, его интервью, теоретических изысканий.
Научная новизна работы определяется тем, что впервые будет предложено целостное рассмотрение поэзии О.Седаковой в свете концепции человека, воплощенной в ее лирике. Впервые прослежена соотнесенность субъектной организации лирической системы с концепцией человека как ключевым фактором содержания. Понимание человека в поэзии Седаковой рассмотрено на фоне поэтических традиций прошлого и современных литературных тенденций, позволяя конкретизировать типологию художественной системы автора.
Методологической основой исследования являются труды тех, кто наметил пути изучения концепции человека в отечественном литературоведении: Д.С. Лихачев (Лихачев Д.С., 27), Л. Я Гинзбург (Гинзбург Л.Я., 10), Л. А. Колобаева (Колобаева Л., 18) и др. При целостном рассмотрении лирической системы и образа автора мы опираемся на работы Б.О.Кормана, разработавшего системно-субъектный метод анализа, позволяющий "охарактеризовать творчество писателя вне эволюции - в его внутренних синхронных связях" (Корман Б.О., 20; 21; 22), и С.Н.Бройтмана, предложившего стройную классификационную систему лирических субъектов (Бройтман С.Н., 6; 7; 8). В монографическом рассмотрении поэтических произведений мы следуем методу В. И. Тюпы, сопрягающему в "семиоэстетическом анализе" такие стороны художественной реальности, как семиотическую и эстетическую на разных уровнях организации произведения (Тюпа В. И.., 41). Учитывая смысловой изоморфизм семиотически разнородных уровней художественной реальности (фокализации, сюжета, мифотектоники, ритмотектони-ки, композиции, глоссализации), мы в каждом отдельном случае обращаемся к какому-то одному или нескольким указанным уровням анализа, исходя из степени их насыщенности факторами художественного впечатления.
Основные положения, выносимые на защиту:
Онтологизация человеческого существования - генеральная стратегия изображения человека в поэзии Седаковой, влекущая за собой снятие проблем социального характера и актуализирующая сферу отношений человека с Абсолютом, мирозданием, поиском сущности человеческого "я".
В основе целостности художественной системы О. Седаковой лежит теоцентрическая идея, формирующая основные признаки антропологической картины: тварность человеческой природы, замысленность (по образу Бога), бессмертие души и др., которые согласуются с христианским учением о человеке, но лишены антропоцентрической перспективы, так как природный мир также причастен духовной жизни, самоопределяясь по отношению к Творцу (христианизация природных образов).
Концепция личности состоит в признании человека свободным субъектом воления, отвечающим за осуществление божественного замысла о себе (того глубинного "я", которое связано с Творцом). Тайн ственная диалектика сердечного воления - основная проблема личностного бытия.
Поиск пути к "сокровенному сердца человеку" определяется доверием к таким личностным ценностям, как судьба, страдание, любовь-жертва, покаяние, каждое из которых в свете авторской идеи являет свою парадоксальную сущность, намечая неторные пути к достижению цели.
Христианскую мысль о человеке отличает заострение парадоксов религиозного сознания, свобода чувствования Бога и поиск "узких" путей спасения, вписывающие творчество О. Седаковой в широкий контекст метафизической поэзии.
Парадокс в художественной системе Седаковой представляет чудо -центральную категорию поэтической антропологии, которая разрешает такие противоречия, как причастность веществу и зерно абсолютного бытия в человеке, ограниченность разума и творческие прозрения, отчаянье в спасении и возможность спасения.
Доминанта личностного чувствования Бога - образ страдающего и нуждающегося Бога, он открывает парадоксальную нужду Абсолюта в человеке - поиск взаимности на явленную любовь. Не по праву сильного, а по праву любящего Бог ждет ответа, страдающий в неразделенной любви.
В границах антропологии решается вопрос о сущности поэта. Поэт предстает человеком в своем лучшем проявлении, выделенным из всех высоким строем своих чувств и переживаний (восхищение, виновность, внимательная участливость), вне акцентирования функции творца или темы мастерства.
Лирическое самоотрешение - основной принцип субъектной организации лирики Седаковой, позволяющий в сфере лирического "я" представить голос, говорящий от лица всех людей и каждого как представителя человеческого рода.
Стройность антропологической системы, в центре которой лежит признание тайны человеческого "я" как свободной и творчески самоопределяющейся личности, соотнесенность ее с трансцендентальным, включенность человека Седаковой в порядок мироздания соотносится с модернистким типом художественного мышления. Апробация диссертационной работы.
Основные положения диссертации изложены в двух статьях: "Попытка эксплицирования отдельных элементов гносеологической системы в поэзии О.Седаковой" (Иркутск, 1995), "Поиск человека социального в поэзии Ольги Седаковой" (Иркутск, 2001) и опубликованных тезисах, а также в выступлениях на межвузовских научных конференциях в Иркутске и Томске. Результаты исследования легли в основу спецкурса «Современная русская лирика», читаемого для студентов-филологов в ИГУ.
Практическая ценность: результаты исследования могут быть использованы в курсах и спецкурсах по истории новейшей литературы, в исследовательских разработках по изучению субъектной структуры современной лирики.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав (1."Человек как часть социума"; 2."Человек в кругу природного мира"; 3."Проблемы личностного бытия"), заключения, библиографических ссылок к тексту диссертации и списка литературы.
Образ социальной катастрофы в "Элегии, переходящей в реквием". Система лирических субъектов произведения
История создания реквиема такова, что, написанный сразу после смерти Л.И. Брежнева, он был уничтожен ввиду разных причин;1 второй вариант (не совпадающий с первым) был начат после известия о смерти Ю.В. Андропова и закончен, когда участь следующего за ним преемника была очевидна. Уже из этой преамбулы можно заключить, что смерть политического лица была скорее поводом, чем внутренней причиной, побуждающей к написанию и завершению реквиема.
Для восприятия реквиема необязательно знать, кому именно он посвящен: " Я, как Бертран де Борн, / хочу оплакать гибель властелина, / и даже двух" (1, 252) - объем образа героя события полностью исчерпывается определением его социального статуса (властитель) и, не имея тенденции к индивидуализации, не меняет своего содержания. Этот момент стирает конкретность события, позволяя "оплакать гибель" сразу двух или даже трех правителей. Но образ говорящего (субъекта речи и сознания) представляется основополагающим фактором смыслопорождения, чья логика высказывания, динамика эмоции и дистанцированности по отношению к предмету речи особенно значимы для адекватного прочтения этого произведения.
Состоя из восьми неравных частей без названий, реквием открывается портретом времени, выписанным с жесточайшим сарказмом: "Подлец ворует хлопок. На неделе / постановили, что тискам и дрели / пора учить грядущее страны, / то есть детей. Мы не хотим войны. / Так не хотим, что задрожат поджилки / кой у кого" и т.д. Субъект речи, высказываясь от лица «мы», в пределах первой части оказывается не выделен из всех, о ком повествует ни в пространственной, ни во временной (исторической) перспективе. Но индивидуальной характеристикой его наделяет та эмоция, которой окрашено его высказывание. Ирония, дискредитируя описанные явления, соседствует в этой части произведения с чувством горького разочарования, которое порождает элегическую медитативность стихотворения: «Мы по уши в бесчисленном сырце. / Есть мусульманский рай или нирвана / в обильном хлопке; где-нибудь в конце / есть будущее счастье миллиардов:/ последний враг на шаре улетит - / и тишина, как в окнах Леонардо, / куда позирующий не глядит»(1, 251). Эти две составляющие эмоционального тона субъекта речи - жесткая ирония и медитативное начало, задают горизонт читательскому ожиданию, настраивая на лермонтовский лад восприятия социальной проблематики. Лермонтовская «Дума», которую Л. Фризман определяет как элегию-инвективу и видит ее как «значительный результат эволюции элегического жанра» (Фризман Л., 22, 38-39), отзывается в первой части произведения, на жанр которой указывает само название («Элегия, переходящая в реквием»), также стихотворным размером - ямбом и, что намного важнее, включенностью высказывающегося «я» в общее «мы».
Не изменяется эмоциональный тон и тогда, когда речь идет о «безвестных героях», что покидают «отечества таинственные»: «...кто на шаре, / кто по волнам бежит, кто переполз / по проволоке с током, по клоаке - / один как перст, с младенцем на горбе» (1, 251). Позиция этих героев не осознается альтернативой общественному бытию упомянутого «мы» - то же подчеркивание несуразности, противоестественности поступка, которыми отмечена жизнь в отечестве. Таким образом, социально-политические антагонисты (те, кто остался в своем отечестве, и те, кто его покинул) оказываются в едином ряду для осознающего их субъекта, ракурс видения которого стирает их различия как несущественные. Интересно, что и здесь можно увидеть параллель с «Думой» Лермонтова, в которой /тотальность негативной оценки» снимает проблему противостояния двух поколений: детей («мы») и их «промотавшихся» отцов. Таким образом, сознанию субъекта, выраженного формой собственно автора, присуща ирония над ненормальностью социальной жизни, которая предстает самоиронией, так как последний осознает собственную принадлежность описываемому явлению. Его речь насыщенна языковыми клише советской идеологии («грядущее страны», «безумство храбрых», будущее счастье миллиардов» и др.), свидетельствуя о детерминированности сознания ее носителя.
Если в первой части лирический субъект нераздельно сливается с «мы», определяясь принадлежностью к советской действительности, то во второй части появляется лирическое «я», видящее себя со стороны как «другого» («ты»): «Но ты, поэт! Классическая туба / не даст соврать; неслышимо, но грубо / военный горн, неодолимый горн / велит через заставы карантина: подъем, вставать! / Я, как Бертран де Борн, / хочу оплакать гибель властелина, / и даже двух» (1, 252). Лирическое «я» оказывается выделенным из всех статусом поэта, который наделяет говорящего исключительным качеством -правдивостью. Сарказм уступает место патетической торжественности, которая самим строем и стихотворным размером отсылает к известному пушкинскому сонету, открывающемуся обращением «Поэт! Не дорожи любовию народной», и представляет по своей форме наказ: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда влечет тебя свободный ум, / Усовершенствуя плоды любимых дум, / Не требуя наград за подвиг благородный» (Пушкин А.С, 20, Т.1, 474). Тема «благородного подвига» откликается у Седаковой в мотиве гражданской скорби, которая мыслится как дерзкий поступок, нарушающий общепринятое табу.
Принципы изображения общественного бытия. Типы социальных позиций
Актуальность выводов, сделанных в ходе анализа «Элегии, переходящей в реквием» как самого крупного стихотворного произведения, посвященного проблеме человеческого общежития, поддерживается рядом других стихотворений, обращенных к социальной тематике. Избегая детального анализа этих произведений, мы остановимся лишь на значимых положениях, которые конститутивно формируют концепцию общественного бытия в творчестве Седаковой.
Основание этой концепции определяет видение социальной истории как дурной бесконечности общественных катаклизмов. Мотив повторяемости социальных бедствий является сквозным в кругу рассматриваемых произведений. И если в «Восьми восьмистишиях», как и в реквиеме, он открыто завладевает нашим вниманием (образ колеса допотопного зла (1, 52), то в таких стихах, как «Из песни Данте», «В духе Леопарди», «Лицинию» этот мотив реализуется на уровне узнаваемой формы. В них отсылка к источнику (узнаваемая форма и соответствующее ей содержание), востребованному сегодня, порождает эффект универсальности описанных явлений, их соотносимости с любым историческим временем. И если в "Из песни Данте", помещая "соловьев казенных" в глубины ада, Седакова упоминает "ширь славянства" и такие ключевые понятия из недавнего прошлого нашего отечества, как "враги страны" и "народное искусство", уточняя контекст восприятия произведения, то "Лицинию" и "В духе Леопарди" не имеют таких пространственных и временных точек опоры. Они актуальны в силу бесчисленной повторяемости самих ситуаций: "На корабле государства мы едем сдыхать от позора. / Ибо кому же охота железо лизать на морозе? / Ибо не небо - земля, ибо и завтра -не скоро, / а сегодня шумит. А сегодня - как старец Тиресий" (1, 201), - где образы Тиресия или Савонаролы («В духе Леопарди», 1, 55) теряют свою историческую определенность, расширяясь до объема притчевых образов.
Унификация социальных бедствий предполагает универсальную причину их порождения. Последняя видится в самом способе бытования людского сообщества, причастного абсурду по природе своей. Например, признаваясь в одном из своих интервью, что "с самого начала меня больше привлекал нечеловеческий мир, точнее - не социально-человеческий", поэт определяет общество как " место, где мы заполняем всевозможные анкеты, где все хотят друг друга очень быстро и окончательно понять, при помощи простых вопросов" (Седакова, 9, 318). И негативный оттенок это определение получает за счет того, что ответы, которые может дать человек на эти вопросы, по мысли автора, "несущественны, не окончательно существенны, а принимаются они за какую-то последнюю правду: "Ах, вот оно что! Теперь все ясно..." (там же). Таким образом, общество видится неспособным поставить человека в позицию онтологической значимости в границах своей системы. Семантика обмана, доминирующая в образах мира как мышеловки и волшебной красильни, торгующей красками надежды, или мотиве ненасыщаемости человеческой власти («Элегия, переходящей в реквием») так же отражает несамодостаточность мира социума.
Вид на онтологически значимое существование открывается в присутствии Бога. Образ некой первичной силы, будь то небо («Безымянным оставшийся мученик») или Тот, кто имеет волю о человеке («Восемь восьмисти-ший»), и чьим символом становится Tuba mirum ("Элегия, переходящая в реквием"), ставится в положение задающей системы координат, в пределах которой социум обретает свои характеристики. Абсурд жизни социума порожден попыткой человеческой общности самоопределиться вне соотношения с первичной реальностью. Так, размышляя над словами Иисуса на Тайной вечере: "Мир оставляю вам, мир мой даю вам: не якоже мир дает, Аз даю вам" - Ольга Седакова делает упор на намеченную в них апофатическую характеристику мира: "Как он, этот мир, берет, как отказывает, как насильству ет - это ладно. Но и когда дает, он не дает. В этом ужас. Он дает в долг или в отплату (мера за меру), дает, оговаривая употребление даруемого (так, а не иначе), дает на срок, дает нехотя, не забывая себя, требуя в лучшем случае признательности (но его признательность похожа на подчинение). Он не дает, а меняет - и меняет на свободу того, кому дает. И это потому, что ему, в сущности, нечего дать: он убудет, если даст, а не прибудет; дарование, щедрость - не его природа" (Седакова, 9, 340). Отметим, что идеал, с высоты которого судится мир, изначально с ним не сравним. Перед нами сравнение не с другим миром, подобным осуждаемому как единоприродный (уравненный в потенции), а верха и низа, как диаметрально противоположных начал. Исток подобного подхода закреплен Библией, где мир (земное сообщество людей) составляет оппозицию как грядущему небесному царству, так и его вестнику: не познал Бога (Ин. 17,25), лежит во зле (1 Ин. 5, 19), ненавидит Христа за то, что свидетельствует о нем, что дела его злы (Ин. 7, 7), живет по воле князя (Сатаны), по плотским похотям (Еф. 2, 2-3) и т.д. Также Иисус определяет себя через противоположение миру: "Я не от сего мира" (Ин.8, 23) и предстает тем, кто победил его, давая верным новый мир в себе (Ин. 16,23). Так же библейский прообраз мировидения позволяет автору вписать историю конкретного социума в универсальную эсхатологическую перспективу, снимая вопрос о векторе движения отдельной страны, народа, государства.
Принципы изображения природного мира
Присутствие природы в лирике Седаковой редко предстает в форме пейзажа - описания «незамкнутого пространства внешнего мира» (Щемелева Л.М., 50, 272). Негативное отношение к жанру пейзажа открыто декларируется автором в его знаменитом эссе о поэзии: "...ничего скучнее пейзажа в любом виде искусства нет. С аллегориями или без, в романе или в изобразительной музыке, в лирике, в натуралистической живописи все эти пейзажи состоят, в сущности, из эпитетов и мучат меня как доказательство человеческой бездарности" (Седакова, 4, 147) . На фоне приведенного высказывания собственный опыт обращения поэта к отвергаемому жанру представляется особенно значимым, так как осознанность жанровой инерции предполагает не только ответственность поэтического высказывания, но и альтернативное решение проблемы воплощения природного мира в слове.
Стихотворный цикл «Азаровка», представленный в первой книге стихов «Дикий шиповник», имеет подзаголовок: «сюита пейзажей». В его состав входят двенадцать стихотворений, в названии которых отражены физические реалии представляемого пространства: "Родник", "Высокий луг", "Поляна", "Холмы" и т.д. Названный ряд предметов, призванный воссоздать пространственную картину в читательском воображении, не выходит за рамкй общепринятых, намечая горизонт их восприятия. Но, прочитав " сюиту пейзажей", читатель остаётся в недоумении от принципиальной неописательности этих пейзажей, отсутствия их наглядности. Они не призваны вызывать в воображении зримую картину местности: индивидуальные особенности пространственного расположения, цветовой гаммы, пластики, структуры - всё потеряно для глаза, да и вообще слабо апеллирует к памяти чувственного восприятия мира ("Сад", "В кустах", "Высокий луг" и др.).
В ослаблении наглядности пейзажей есть сознательное отталкивание от традиционного вида этого жанра, конститутивным признаком которого является описательность изображаемого предмета. При этом ослабление внешней наглядности природных образов происходит не столько благодаря исключению из поля зрения внешних примет, сколько за счет их перевода из чувственной плоскости восприятия в плоскость духовных категорий. Так, например, в стихотворении "Ивы" образ этих деревьев ("серебряных, белых, зелёных, седых") живёт не новостью эпитетов, каждый из которых глубоко традиционен, а кристаллизацией архетипического значения ивы: "Другим и велят темноту приподнять, / но их никогда не попросят об этом - / всегдашних хранительниц хмурого дня, / кормилиц ненастного сильного света" (1, 77). В фокусе изображения оказывается духовная организации предмета: ива являет собой беззаветную преданность страданию, боли, трагедии - тем вещам, что составляют скорбную сторону жизни.
Кроме того, можно отметить интерес не к единичным, неповторимым реалиям, а нацеленность на передачу некой типичности даже в индивидуальных образах, например, в стихотворении «Ивы» это сказывается в обобщенной форме передачи бытийного принципа: он представлен в перифрастическом наименовании ивы, не разворачиваясь в картину частного случая. Вы ходя за пределы цикла «Азаровка», эту особенность изображения природных образов можно наблюдать в стихотворении «Элегия липе», где в образе липы акцентируются те особенности, что присущи всем деревьям без исключения: "Последний слух и тронуть и унять // как хорошо, когда, подруга-липа, / ты бы явилась. Ваше равнодушье - / конечно, невнимательная ложь. / Кто знает мысли, движимые в листьях? / Глаза ствола кто подстерег? те, ваши / глаза движенья? - равенство и дрожь // и все равно, и притяженье света, / особенное вечером ненастным... " («Элегия липе», 1, 264, курсив автора). Липа в этом контексте откровенно заменима, ее образ трижды перекрывается даже не образом дерева, а деревьев, подчеркивая ее равенство со всеми другими деревьями, например: "К деревьям тоже можно привязаться, / как к человеку и еще сердечней; / их, может, не придется хоронить - / уж справедливее тогда остаться / тебе (липе - П. Н.), не мне: вы проще, долговечней..." При этом образ деревьев, поглощая полностью образ липы, теряя индивидуальные атрибуты проявленности, очерчивается за счет соотнесенности с определенным кругом духовных ценностей, которые утверждаются самим способом бытия деревьев.
Так, в «Элегии липе» акцентирован момент добровольной жертвенности, отказа от себя: "...Дым благоприятный, / рассеиваясь по пути, до неба / доносит только то, что нет его" (1, 264), - который и оказывается смысловым центром образа липы и деревьев вообще: «Не так ли, липа? цветовые пятна, / все эти ветки, листья и движенья... / Исчезновенье - наше существо». Обращает внимание, что образы конкретных деревьев, например, ивы и липы в контексте поэзии О. Седаковой предстают инвариантами обобщенного образа деревьев, который появляется в таких стихотворениях, как «Падая, не падают...» или "Деревья, сильный ветер".
Проявление внутреннего человека. Образ сердца
Проявление внутреннего человека. Образ сердца Рождение личности есть следствие самосознания человека, вбирающее в себя область отношений индивидуума к собственному "я". Нацеливаясь в данной главе на рассмотрение особенностей личностного сознания, мы обращаемся к образам, которыми лирическое "я" или "я" персонажных героев проявляет себя как человек внутренний.
Чаще всего "я" в стихах самоопределяется образом сердца: " О как сердце скучает, какая беда!" ("Путешествие волхвов", 1, 69), "Не только беда и жалость - / сердцу моему узда, / но то, что улыбалась / чудесная вода" ("Похвалим нашу землю...", 1, 286) или "...Зачем несправедливость / мне сердце обвивает, как питон?" ("В винном отделе", 1, 200) и т.д. И, обратившись к одному из самых традиционных образов для раскрытия внутреннего человека, "общему для всех стилей - от народных песен, лирических, эпических и шутливых, до таких жанров классицизма, как элегия и ода, и до романтических или символистических стихов" (Эткинд Е., 38, 307), Ольга Седакова не позволяет ему расплыться в шаблонный поэтизм, наделяя определенностью значения в собственной поэтической системе.
О преодолении автоматизма восприятия образа сердца как привычной поэтической метафоры внутреннего человека свидетельствует необыкновенная частотность его употребления. Появляется представление об его незаменимости, иерархической нетождественности по отношению ко всем другим образам, представляющим область внутренней жизни лица (душа, дух, ум). У Седаковой именно в сердце человек страдает ("Дикий шиповник", "В духе Леопарди", "Женская доля - это прялка" и др.), надеется ("Сельское кладбище"), стыдится ("Легенда седьмая"), страшится ("Сказка, в которой почти ничего не происходит"), им благоговеет ("Варлаам и Иоасаф"), ликует ("Три зеркала. Пророк") и познает ("Слово", "Легенда седьмая"). В поэзии Седаковой образ сердца не исчерпывается привычным противопоставлением рассудку, вбирая в область своих проявлений весь спектр человеческих чувств (как светлых, так и темных): "О, разум, как сердце болит", - так осознается их единство через страдание в стихе "Мельница шумит" из книги "Тристан и Изольда". Постоянство глубокой боли, присущее человеку безраздельно, не акцентирует внимание на антиномии впечатлительного сердца и холодного разума - смыслообразующей, например, в художественном творчестве Ф.М. Достоевского, но выдает иерархию отношений между ними уже тем, что характерный признак одного (мерило - сердце) вбирает в себя особость другого, позволяя через себя определиться.
Сердцу у Седаковой ничто последовательно не противопотавлено, и за всеми проявлениями человека стоит его волеизъявление: "Но сердце странно. Ничего другого / я не могу сказать. Какое слово / изобразит его прискорбный рай? - / что ни решай, чего ни замышляй, / а настигает состраданья мгла, / как бабочку сачок, потом игла" ("Элегия, переходящая в реквием", 1, 252). Первичность сердечной воли ведет к пониманию сердца как верховной инстанции личности, инициирующей ее отношение к себе и миру: "Разве мало я живу на свете? / Страшно и выговорить, сколько. / А все себя сердце не любит. / Ходит, как узник по темнице, / - а в окне чего только не видно!" ( "Спор", 1, 139). В поэзии Седаковой именно через него личность соприкасается с тайной собственного существования, с необъяснимыми явлениями собственного "я", такими, как милосердие ("Элегия, переходящая в реквием"), знание в обход осознанному пониманию ("Слово"), чувство памяти "ни о чём" ("Сельское кладбище"). И частота обращения к образу сердца в поэзии Седаковой, и широта охвата присущих ему чувствований заставляет вспомнить библейскую традицию употребления данного образа.
Сергей Аверинцев в своей монографии "Поэтика ранневизантийской литературы" приводит факт, что только на протяжении книг Ветхого Завета сердце как центральный символ библейского представления о человеке упомянуто 851 раз (Аверинцев С.С, 7, с. 65). О причине выделенности сердца размышляли многие умы святых отцов и религиозных философов. Так, святитель Феофан Затворник в своем труде "Что есть жизнь духовная и как на нее настроиться?", определяя образом сердца "сторону чувств" внутреннего человека, видит его в непрерывном волнении и тревоге, "подобно барометру перед бурею", потому что в нем "осаждается все, что входит в душу со вне и что вырабатывается ея мыслительною и деятельною стороною; через сердце же проходит и то все, что обнаруживается душею во вне. Потому оно и называется центром жизни. Дело сердца - чувствовать все, касающееся нашего лица" (Феофан, 36, 26). Близкую мысль мы находим и в рассуждениях русского религиозного философа рубежа 19 -20 веков П. Д. Юркевича, который наделял сердце человека целокупностью восприятия, представляя его органом, где формируются представления, которые "посылает" и слух, и зрение, и разум (Юркевич П.Д., 39).