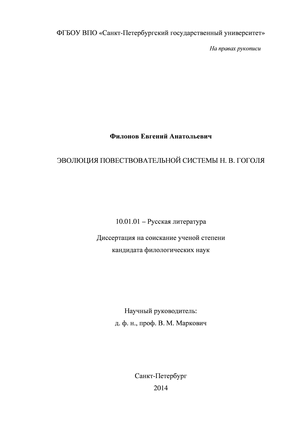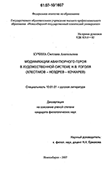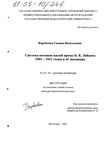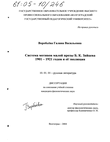Содержание к диссертации
Введение
1. Нарратология и литературоведение 4
2. Нарратив Гоголя и теория повествования XX-XXI веков 9
Глава I. Эволюция повествовательных структур как проблема нарратологии и исторической поэтики 25
1. Категория события в современной теории повествования 25
1.1. Событие как герменевтическая категория 25
1.2. Проблема субъекта и контекста событийности: современные подходы 30
2. Диахронические подходы в современной нарратологии 39
3. Категории исторической поэтики и проблема контекста в исследовании повествования 43
3.1. Понятие литературной эпохи 43
3.2. Литературная конвенция и коммуникативная установка литературного повествования 46
4. Проблема эволюции повествовательных структур в рамках индивидуальной художественной системы 50
4.1. Понятие коммуникативных стратегий нарратива 50
4.2. Повествование Гоголя в движении литературной эпохи 52
Глава II. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 57
1. Романтическое повествование как проблема переходной эпохи 57
2. «Вечера» и традиция романтического новеллистического цикла 64
3. Событийная организация цикла 75
4. Повествование «Вечеров» и первые читатели цикла 102
Глава III. «Миргород» 105
1. «Старосветские помещики»: читатель и повествователь 105
2. «Тарас Бульба», «Вий»: читатель и герой 118
3. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: читатель и мир 131
Глава IV. От «Арабесок» к «петербургским повестям» 140
1. «Арабески»: стратегии эстетического воздействия 142
2. Комедия «Ревизор» и проблема литературной конвенции (1836 год)... 156
3. «Петербургские повести» 165
Заключение 183
Библиография 1
- Нарратив Гоголя и теория повествования XX-XXI веков
- Проблема субъекта и контекста событийности: современные подходы
- Повествование Гоголя в движении литературной эпохи
- «Вечера» и традиция романтического новеллистического цикла
Нарратив Гоголя и теория повествования XX-XXI веков
Теоретическое значение книги Г. А. Гуковского определяется двумя моментами. Во-первых, разрабатывая вслед за В. В. Виноградовым проблему субъектной организации повествования, Г. А. Гуковский подходит к описанию нарративных уровней и их взаимодействия; во-вторых, как один из аспектов изучения повествования здесь начинает оформляться проблема читателя.
Рассматривая модель, при которой рассказчик одновременно изображает и изображается, оценивает и оценивается (в «Вечерах», «Повести о том…», «Записках сумасшедшего»), Г. А. Гуковский описывает два уровня повествовательной организации — план рассказчика и его слушателя и план «автора» и «читателя» (ср. в современной нарратологии категории абстрактного автора и имплицитного читателя). Именно на уровне «автора», например, возникает сатирическая установка в повестях, где рассказчик-«пошляк» с восторгом описывает «пошлую» действительность.28
Новую «эпоху» в гоголеведении открывает «Поэтика Гоголя» Ю. В. Манна (1978 год).29 Не предлагая целостной концепции гоголевского повествования, эта книга, однако, подготавливает постановку данной проблемы на принципиально новых теоретических основаниях. Это можно проиллюстрировать двумя примерами.
Первый из них связан с понятием нефантастической фантастики. Ю. В. Манн определяет его следующим образом: в нефантастических текстах Гоголя присутствуют два ряда элементов, адекватных фантастическим, но лишенных ореола чудесного. Это, во-первых, «странно-необычное в плане изображения» (как, например, странности в расположении частей произведения, нарушение автономии действия, алогизм в речи повествователя и др.); во-вторых, «странно-необычное в плане изображаемого» (сюда относятся такие особенности, как необычное в поведении вещей, во внешнем виде предметов, дорожная путаница и неразбериха, неожиданное вмешательство в действие животного и т. д. и т. п.). Притом элементы второй группы могут влиять на развитие сюжета произведения (так, например, кража свиньей Ивана Ивановича прошения Ивана Никифоровича из канцелярии суда усугубляет ссору героев и инициирует новый виток в развитии действия).30
Вполне очевидно, что понятие сюжет Ю. В. Манн соотносит не только с мотивикой и «символикой», как В.В.Виноградов, но и с событийностью — таким образом, нефантастическая фантастика «в плане изображаемого» влияет на выстраивание события текста. Следующим шагом могла бы стать попытка проследить, как воздействуют на событийную организацию элементы нефантастической фантастики «в плане изображения», то есть повествовательные приемы. Ю. В. Манн, правда, этого шага еще не совершает, однако вплотную приближается к постановке проблемы взаимодействия событийно-сюжетного уровня и уровня повествования.31
Еще отчетливее это можно увидеть в замечаниях Ю. В. Манна о принципах повествования в гоголевской поэме. Для повествователя «Мертвых душ» характерны две позиции в отношении к изображаемому миру: положение свидетеля, при котором он не может оказывать влияние на -ход описываемых событий, и статус творца, в соотвествии с которым он сам является источником законов, организующих повествуемый мир. Противоречие, созданное совмещением этих позиций, осложняет семантическую структуру произведения.32 Таким образом, Ю. В. Манн снова подходит к вопросу о значении повествовательной динамики в общей смысловой организации текста — и снова останавливается, только обозначив это направление исследования.
Сдвиг литературоведческой парадигмы (в определенной степени отразившийся в книге Ю.В.Манна) позволил переосмыслить вопрос о композиционных функциях стилистических приемов и сформулировать его как проблему сюжетных функций приемов повествования. Такой подход стал возможен в рамках «структуралистского» понимания нарративности33 и был применен к изучению гоголевского творчества В. М. Марковичем в работе о «петербургских повестях».34
В.М.Маркович рассматривает отмеченный В.В.Виноградовым, Ю. В. Манном и другими исследователями прием гоголевского повествования — неоднородность. В петербургских повестях она выражена, во-первых, чередованием установок на книжно-письменную и на устно-разговорную речь, а во-вторых, постоянным изменением дистанции межу повествователем и изображаемым миром, повествователем и читателем. Сюжетные функции этих приемов прослеживаются В. М. Марковичем в их влиянии на выстраивание события текста — в повествуемом мире и в повествовании, (то есть на уровне коммуникации [абстрактного] автора и [имплицитного] читателя).
Неустойчивость позиции повествователя приводит здесь к проблематизации событийности в изображаемом мире: статус любого происшествия в Петербурге гоголевских новелл оказывается зыбким, так как рассказчик то и дело снимает с себя ответственность за рассказываемое. В результате возникает образ апокалиптически-хаотичного мира, в котором деформируются естественные законы природы. На коммуникативном уровне благодаря этому приему выстраивается стратегия, направленная на то, чтобы «втянуть» читателя в мир текста. Заявляя то и дело о своей некомпетентности, отказываясь от объяснения мира, который сам же выстраивает в повествовании, рассказчик провоцирует читателя подключить к интерпретации текста собственный жизненный опыт. В определенный момент читатель должен отождествить художественную действительность с пространством собственного бытия (чему способствует также мощная «иллюзия реальности» в петербургских повестях). Приняв это отождествление, читатель через призму гоголевского Петербурга должен увидеть внелитературную реальность собственной жизни как хаотичный апокалиптический мир. Эта реакция читателя и окажется событием коммуникативного уровня.
Подход В. М. Марковича к изучению гоголевского повествования обусловлен задачей описания событийной организации текста, определяемой взаимодействием сюжетного и повествовательного уровней. Таким образом, в нем отразился важнейший этап становления современной теории повествования, связанный с оформлением в 1970-е - 1980-е годы ключевого для нее представления о событии как категории, двояко реализуемой в художественном повествовании — в плане рассказываемого (изображаемого) и в плане рассказа (изображения).
Проблема субъекта и контекста событийности: современные подходы
Существующие в нарратологии подходы к вопросу о контексте событийности (в соответствии с общей установкой структуральной теории повествования) потенциально ориентированы на рассмотрение всей совокупности повествовательных текстов как единого поля явлений.84 Это вполне объяснимо, ведь в рамках синхронического подхода провести четкую границу между литературой и не-литературой не представляется возможным (что было продемонстрировано Цв. Тодоровым);85 с другой стороны, такая граница и формируемая при ее установлении литературная система, как показал Ю. М. Лотман, может быть реконструирована и описана в пределах определенной эпохи.86 Поэтому вопрос о контексте при анализе литературного повествования приобретает особую значимость, т. к. имеет непосредственное отношение собственно к определению его литературной природы. Исходя из этого, исторически разрабатываемое понятие контекста в литературоведческом нарратологическом исследовании, как представляется, не может быть напрямую отождествлено с семиотическими категориями «тип культуры» и «картина мира» или с пространством социальной реальности, но в первую очередь должно предполагать обращение к литературной системе, которой принадлежит рассматриваемый текст. В перспективе исторической поэтики вопрос о контексте может быть соотнесен с представлением о литературной эпохе.
Понятие литературной эпохи разрабатывалось А. В. Михайловым — в рамках его концепции исторической типологии культуры, основанием которой стала парадигма онтологической герменевтики.87 История литературы понимается А.В.Михайловым как открытый — живой и непрерывный процесс, который не может быть абстрагирован и замкнут в неподвижности. Соответственно, категории теории литературы, предназначенные для описания литературного процесса, не могут и не должны быть ориентированы на исчерпывающую классификацию и формально-логическую определенность. Поэтому, рассматривая литературную эпоху как феномен и как понятие теории литературы, А.В.Михайлов называет ее сущностными свойствами динамику и диалектичностъ88
Подходя к определению эпохи с точки зрения исторической поэтики, необходимо совместить два условия: во-первых, взгляд на литературу как на живой, непрерывно развивающийся, незавершенный процесс; во-вторых, взгляд на эпоху как на часть целого литературного процесса.89 Таким образом, формируется представление о литературе как о «системе динамической определенности»90 (в отличие от замкнутого поля феноменов, имеющих однозначную качественную определенность и закрепленные границы).91
Возможность соотнести понятие контекста в нарратологическом исследовании с так понимаемой литературной эпохой подсказывает сам путь становления теории повествования. Вполне очевидно, например, что классическая концепция событийности с перечисленными В. Шмидом критериями разработана на материале литературы реалистической и постреалистической эпох. Поэтому адекватность применения ее к тому или иному тексту зависит от того, в какой мере этот текст приближен к эпохе реализма или удален от нее по времени своего создания и в какой мере он отвечает характерным для нее эстетическим принципам.92
Подобный подход, отмечает А.В.Михайлов, для теоретических исследований в целом закономерен: для них «реалистическая постреалистическая литература — как ее деформация и разрушение; переходная эпоха рубежа XVIII и XIX веков — как процесс ее формирования; литература риторической эпохи — как система, которая -«одновременно и противостоит реализму XIX века ... , и готовит его исподволь и издавна».94литература XIX века в некотором отношении и на деле оказывается логическим фокусом, центром истории всей литературы».93 Именно с точки зрения реалистической «нормы» традиционно описываются все остальные литературные эпохи:
Таким образом, теория повествования, рассматривая всю литературу через призму «реалистической нормы», движется по пути традиционному в целом для литературной теории XX века. Однако на настоящем этапе развития нарратологии, связанном с активной разработкой прагматического и исторического аспектов в изучении повествования, эта ее «фокусировка» с необходимостью должна быть отрефлексирована: то есть разработанные на материале реалистической литературы категории нарратологии должны быть рассмотрены в контексте всего литературного процесса и конкретной обусловившей их эпохи.95
Повествование Гоголя в движении литературной эпохи
Сборник «Миргород», ставший, согласно авторскому указанию, «продолжением Вечеров на хуторе близь Диканьки» (II, 7), в плане жанрово-композиционной организации имеет мало общего с первым гоголевским циклом. Специфика сборника как циклизованной формы состоит в отсутствии рамки187 — если в «Вечерах» базовый путь читательского восприятия новелл определялся на уровне издательских предисловий, то в «Миргороде», где рамочное повествование исчезает, усложняется, соответственно, повествовательная организация (и образ адресата) входящих в сборник повестей.
Открывающая «Миргород» повесть «Старосветские помещики» содержит в своей структуре рудимент рамочной конструкции. В повествовательном пространстве текста прочерчена граница, разделяющая его на две сферы: большой мир столицы, в котором находится рассказчик в момент повествования, и малый мир поместья, о котором он повествует как о факте прошлого. Две эти сферы действительности абсолютно автономны: те законы, которым подчинена человеческая жизнь в столице, перестают действовать в мире поместья и наоборот — то, что в мире Товстогубов совершается в естественном порядке вещей, в столице кажется совершенно невероятным (ср.: «Я любил бывать у них и хотя объедался страшным образом, как и все, гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь [то есть в столице — Е. Ф.] вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели, очутился бы лежащим на столе» — II, 27).
Можно сравнить эту повествовательную ситуацию с той, что устанавливается в предисловии к первой части «Вечеров», однако ближе она окажется к модели традиционного диалогического цикла. Действительность, в которой помещен рассказчик, уподоблена здесь внелитературной реальности читателя: фиктивный адресат повествования (с которым должен отождествиться читатель) — это образованный житель столицы, человек, обладающий тем же опытом, что и рассказчик. Мир же повествуемой истории принципиально несоотносим с жизненным пространством читателя, это мир «экзотичный», гротескный и даже фантастичный (в смысле нефантастической фантастики):188 невероятным представляется в этом мире его неиссякающее изобилие, фантастичны гиперболизированные гротескные образы еды, обжорства; фантастичны заполняющие пространство поместья вещи, живущие своей особенной жизнью; даже смерть обоих героев сопровождается мистическими происшествиями.189 Таким образом, здесь, как и в «Вечерах», за читателем закреплена внешняя по отношению к изображаемому миру позиция, однако в отличие от ситуации Диканьского цикла, эта внешняя точка зрения в «Старосветских помещиках» сообщена и рассказчику — и тем самым введена в повествовательную ткань текста: рядом с «фантастическим» миром появляется мир «реальности», и всё сюжетное движение повести сосредоточено вокруг пролегающей между ними границы.
Гибель старосветской идиллии— центральное событие повести на уровне изображаемого — начинается в тот момент, когда в повествуемом 188 О нефантастической фантастике см.: Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. С. 88-107. 189 Ср.: Карпов А. А. «Афанасий и Пульхерия» — повесть о любви и смерти// Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, Москва — Санкт-Петербург, 5–10 октября 2009 года. СПб., 2011. С. 151-165. - 107 -пространстве текста происходит снятие хронотопической границы. Малый мир героев организован циклическим «мифологическим» временем, большой мир столицы подчинен линейно текущему времени истории. Ни в мире поместья, ни в мире столицы смерть сама по себе не воспринимается как событие (оба мира в принципе бессобытийны: происшествия в поместье не отличаются единичностью и непредсказуемостью, происшествия в столице не консекутивны). Герои традиционной идиллии смертны, но они не знают об этом (как Филемон и Бавкида, умирающие в один день);190 в пространстве цивилизации смерть бессобытийна потому, что не несет никаких значимых для него последствий (ср. вставной рассказ повествователя о молодом человеке, потерявшем возлюбленную). Событийным же оказывается именно размыкание временного цикла идиллии в линейном потоке исторического времени — смерть одного героя раньше другого.
Событию устранения «хронотопической» границы на уровне повествуемого мира соответствует также событийно значимое осознание неустранимости смысловой границы на уровне повествования. Погибая в пространстве «реальности», мир старосветских помещиков, не исчезает, но переходит в инобытие, возникая вновь как воспоминание рассказчика. Так, в нарративной структуре повести мир столицы и мир деревни соотносятся как две сферы повествуемой действительности — уподобленная внелитературному миру реальность рассказчика и «фантастичная» реальность его рассказа. Отдаваясь воспоминанию об исчезнувшем идиллическом бытии героев, повествователь как бы переносится в совершенно иную реальность, отличную от его жизненной действительности и забывает привычные ему жизненные законы: «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик … . Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа,
Речь, однако, не идет здесь о героях гоголевской повести. возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галлереею из маленьких почернелых деревянных столбиков … , воз с дынями, стоящий возле амбара, отпряженный вол, лениво лежащий возле него, — всё это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило всё то, с чем мы в разлуке. … Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя по крайней мере на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь» (II, 13-14). При этом жизненная действительность повествователя и мир его воспоминания — две абсолютно автономные сферы. Оканчивая рассказ, отвлекаясь от своих «мечтаний», рассказчик должен вновь вернуться в пространство «реальности».
«Вечера» и традиция романтического новеллистического цикла
Три повести, входившие в «Арабески», в этом контексте, очевидно, должны были прочитываться так же — в смысле предельного заострения принципов романтической эстетики. В «Портрете», «Невском проспекте» и «Клочках из записок сумасшедшего» изображается мир, в основе которого лежит неразрешимое и необъяснимое в рамках текста противоречие; требуя от читателя этической оценки повествуемого, текст, однако, обнаруживает перед ним фиктивную природу изображаемого мира, побуждая читателя по завершении чтения увидеть пространство собственного бытия как неисправимо противоречивое.
Так, в повести «Портрет» (в редакции «Арабесок») устанавливаются два ряда мотивировок трагедии Черткова — один связан с социальными противоречиями (падение таланта в мире, подчиненном законам материальной выгоды), другой с мистическими (гибель человека, оказавшегося во власти потусторонних сил зла). Первый ряд мотивировок включает момент осуществляемого героем нравственного выбора, его борьбу с самим собой (ср. эпизод, в котором Чертков решается, следуя желанию заказчицы, превратить эскиз Психеи в портрет ее дочери, — то есть впервые предпочитает материальную выгоду правде искусства: «Пук ассигнаций и ласковая улыбка благодарности были ему наградою. Но художник стоял, как прикованный к одному месту. Его грызла совесть; им овладела та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящим в душе благородство таланта, которая заставляет если не истреблять, то по крайней мере скрывать от света те произведения, в которых он сам видит несовершенство, которая заставляет скорее вытерпеть презрение всей толпы, нежели презрение истинного ценителя. Ему казалось, что уже стоит перед его картиною грозный судия и, -качая головою, укоряет его в бесстыдстве и бездарности. Чего бы он не дал, чтоб возвратить только ее назад. Уже он хотел бежать вслед за дамою, вырвать портрет из рук ее, разорвать и растоптать его ногами, но как это сделать? Куда идти? Он не знал даже фамилии его посетительницы»).260
Наличие подобных мотивировок провоцирует читателя к проявлению некоторой этической реакции, которая может быть выражена, например, сочувствием судьбе героя, связанным с осуждением его жизненного выбора. Таким образом, отождествляясь в определенные моменты с героем, читатель стремится в какой-то степени отождествить и мир повести с миром действительности (чему способствует отказ в ней от экзотического колорита).261 При таком восприятии конфликт, оказывающийся неразрешимым в рамках текста, мог бы быть разрешен читателем за рамками чтения с опорой на свой жизненный опыт: понимая сюжет повести как историю художника, в погоне за быстрым успехом и материальным благополучием погубившего свой талант, читатель должен был бы сформулировать некое собственное отношение к изображаемому, как если бы оно касалось его собственной жизни (то есть внелитературной реальности).
Однако текст сопротивляется интерпретации подобного типа: отчетливо встраиваемые в систему сюжетных мотивировок фантастические события (а в редакции «Арабесок» еще нет т.н. «завуалированной» фантастики)262 требуют от читателя иной логики восприятия повествуемого мира — как автономной эстетической реальности. Вторая часть повести, построенная как рассказ в рассказе (в ней сын написавшего портрет художника излагает его историю), в финале имеет резкую
- 150 -«сигнализирующую» отсылку к романтической повествовательной «конвенции». Здесь — подобно тому, как в «Ночном поезде» М. Н. Загоскина — фантастические события вставного рассказа вторгаются в реальность «рамочного уровня»: на аукционе случайным образом выполняется мистическое условие, в результате которого с портрета может быть снято проклятие (ср.: «“…Сверхъестественное существование этого демона в портрете будет не вечно, … если кто торжественно объявит его историю по истечении пятидесяти лет в первое новолуние, то сила его погаснет и рассеется яко прах … . Сегодня без всякой цели зашел я на аукцион и в первый раз рассказал историю этого необыкновенного портрета — так что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуние, о котором говорил отец мой, потому что действительно с того времени прошло уже 20 лет”. Тут рассказывавший остановился и слушатели, внимавшие ему с неразвлекаемым участием, невольно обратили глаза свои к странному портрету и, к удивлению своему, заметили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая так поразила их сначала. Удивление еще более увеличилось, когда черты странного изображения почти нечувствительно начали исчезать, как исчезает дыхание с чистой стали. Что-то мутное осталось на полотне»).263 Такой финал заставляет читателя — в соответствии с конвенциональной установкой романтического повествования — по завершении чтения дистанцироваться от изображаемого мира.
Очевидно, что коммуникативная организация повествования в первой редакции «Портрета» предполагает (как и в повестях «Миргорода») актуализацию одновременно двух взаимоисключающих моделей читательского восприятия, столкновение противоположно направленных этического и эстетического импульсов читательской реакции, в результате которого читатель должен был бы остро переживать противоречия автономной художественной реальности.