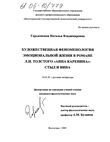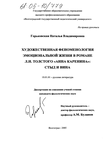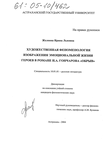Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Ирония как модус художественности в «Театральном романе» 28-73
1. Иронический подтекст в романе 28-45
2. Ироническая игра (автор - читатель; композиция) 45-58
3. Иронический «зазор»: автор, повествователь, герой 5 8 - 73
ГЛАВА II. Ирония в художественной структуре «романизованной биографии»Мольера 74- 129
1. Образ рассказчика и его функции в романе 74-84
2. Ирония как форма выражения авторской мысли 84- 100
3. Иронический подтекст автобиографических аллюзий 100 — 114
4. Ирония, ее разновидности и функции в художественной
структуре «романизованной биографии» Мольера 114-129
ГЛАВА III. Ирония как основа художественной целостности романа «Мастер и Маргарита» 130-203
1. Реализация иронической модальности в формосодержательном единстве романа 130-141
2. Иронический модус как системообразующий фактор в романе (герой трагической иронии, знаковые мотивы) 141 — 156
3. Роль авторской иронии в интерпретации библейских образов романа 156 — 177
4. Ирония и способы ее выражения в романе 177-203
Заключение 204-209
Примечание 210- 235
Литература 236-252
- Иронический подтекст в романе
- Ироническая игра (автор - читатель; композиция)
- Образ рассказчика и его функции в романе
- Реализация иронической модальности в формосодержательном единстве романа
Введение к работе
Актуальность исследования. На рубеже и в начале XX века в эпоху социальных потрясений и «дегуманизации» человеческого общества ирония получает широкое распространение. Вполне понятна актуализация иронии в переломные моменты истории, когда она становится и позицией, позволяющей дистанцироваться от деструктивной действительности, и острым разящим оружием, и средством самозащиты, и инструментом постижения истины. Отражая острый конфликт человека с действительностью и определяя «дизъюнктивизм» /разобщение/ (В .И. Тюпа) сознания субъекта, ирония выступает как призма его мировосприятия, позиция мироотношения и скрытый вид смеха, проявляющийся также и «в жестоких ситуациях, которые исключают любого рода комизм внешних положений» (Зверев 2000, с. 22).
Заметное выдвижение на передний план в общественном сознании феномена иронии подтверждается повышенным интересом к этой проблеме современной литературоведческой науки1. Однако, невзирая на то, что и в современной эстетике предпринимаются попытки систематизировать накопленные со времен Платона знания в области иронии, «теоретики литературы отмечают, что концепция иронии еще не сложилась, она находится в процессе разработки» (Болдина 1981, с. 4).
Обращение именно сегодня к иронии М.А. Булгакова, творчество которого уже несколько десятилетий приковывает к себе внимание литературоведов, также актуально, поскольку обусловлено собственной динамикой развития булгаковедения: публикацией дневников и писем, мемуарной литературы, выходом в свет неизданного наследия, т.е. возникновением того широкого контекста, отсутствие которого делало изучение феномена иронии весьма затруднительным и малообоснованным3. Этому же способствует появление в последнее время работ обобщающего характера, посвященных исследованию структуры художественного мира писателя и рассмотрение его поэтики как эстетического явления (Е. Лблоков, В. Немцев4 и др.). Тем не менее, построение целостной картины, на наш взгляд, остается все же неполным без выяснения значения иронии в мировосприятии М.А. Булгакова и его художественном мышлении5. Однако в булгаковедении ирония остается малоизученным феноменом, а системных исследований этой проблемы нет. Литературоведы обращаются к достаточно важным областям поэтики М.А. Булгакова: аллюзии, иносказанию, тайнописи, поэтике скрытых мотивов, комическому, сатире, гротеску и т.д. , в основном, не касаясь проблемы иронии.
Актуальность ее исследования отмечена СВ. Никольским. Указывая на то, что «М.А. Булгаков... склонен к эластичному ассоциативному письму», он отмечает пробел в этой области булгаковедения: «интересной темой исследования могло бы быть своеобразие иронии...» (Никольский 1992, с. 62). И хотя в последнее время делается «попытка восстановить утраченное звено в исследовании традиции булгаковского "комического"» (Пенкина 2001, с. 19), ирония М.А. Булгакова - явление, на наш взгляд, гораздо более масштабное и как феномен иного уровня7 требует специального изучения.
Степень изученности проблемы. Большинство исследователей, в той или иной степени отмечающих иронию в произведениях писателя, но занимающихся иными проблемами, говорят о ней как о само собой разумеющемся факте, как бы подтверждая то, что «ироничность М.А. Булгакова не вызывает сомнения» (Пенкина 2001, с. 21). Впервые на философскую иронию автора «Мастера и Маргариты» и ее доминирующий характер в романе указал A.I7. Казарки?*. В булгаковедении эта работа, пожалуй, до сих пор остается единственной и наиболее существенной по данной проблеме. Несмотря на то, что ученый рассматривает «теоретические и историко-литературные вопросы интерпретации и оценки литературных произведений» в аспекте культурологии, его идеи относительно философской иронии М.А. Булгакова близки нашему пониманию. Роман «Мастер и Маргарита», привлекаемый в качестве примера наиболее сложного и трудного для анализа материала, осмыслен как сочинение, «где господствует муза философской иронии», которая представляет собою как бы «особый ключ к истолкованию» и определяет «цельность произведения» (Казаркин 1988, с. 2, 5, 18,21).
Обращая внимание на то, что нельзя оставлять «в стороне такие важные вопросы, как позиция автора, его философские идеи, его идеал» (Казаркин 1988, с. 20), А.П. Казаркин совершенно справедливо указывает на различное понимание иронии А.А. Блоком и М.А. Булгаковым. А.А. Блок, считая иронию «пороком перезрелой, усталой культуры», видел в ней, по мысли автора работы, неадекватное трагической эпохе самосознание интеллигенции, «и тем интереснее нам понимать, что Булгаков создал новейший образец трагической иронии. Там, где Блок увидел симптомы кризиса старых ценностей, Булгаков рассмотрел их трагическую проверку и моральное торжество творца» (Казаркин 1988, с. 30-31). Ученый утверждает, что в романе М.А, Булгакова нет «всеразъедающей», по определению А.А. Блока, иронии, т.к. она «не самоцельна», а «служит средством утверждения гуманистической истины» (Казаркин 1988, с. 52).
А.П. Казаркин полагает, что «эпоха Булгакова мало понимала иронию, вообще смех приветствовался только сатирический», поскольку «к философской иронии склонен ... человек зрелой культуры» (Казаркин 1988, с. 35). Поэтому, хотя «сатира в романе есть, и это сатира высокого класса», «толкование романа как только сатиры обедняет содержание...: тогда "лишними" кажутся евангельские... сцены, тогда не улавливается философский пафос» (Казаркин 1988, с. 40). Но именно «через философскую иронию...», по мнению автора работы, «роман Булгакова схватывает единство мира» (Казаркин 1988, с. 32). Очень важны высказывания ученого об интеллектуальной, философской нагрузке булгаковского смеха. В частности, о том, что понимание иронии и оттенков авторского смеха доступны читателю / исследователю «в той степени, насколько близка ему моральная позиция автора» (Казаркин 1988, с. 35), претворяющаяся иронией и как позиция «философско-художественная» (Казаркин 1988, с. 51).
Ирония понимается ученым «как всеобъемлющий художественно-философский принцип, которому подчинены сатира и гротеск». Он «предполагает постоянное опровержение взглядов и дел героев, а главное — остранение привычного мировосприятия: доказательство его односторонности, недостаточности или ненормальности» (Казаркин 1988, с. 51). А.П. Казаркин указывает на определяющее место философской иронии в поисках жанрово-стилевой доминанты романа, а также в широком интерпретирующем контексте его литературных, исторических и культурных связей. Таким образом, концептуальное значение взглядов ученого бесспорно.
Из других работ следует отметить статьи B.I7. Крючкова (1995, 1998)9, которому «мысль А.П. Казаркина о ведущем характере философской иронии в романе» «представляется очень плодотворной» (Крючков 1995, с.228). Исходя из нее, автор рассматривает игровое начало /сак часть философской иронии. Анализируя эпилог «Мастера и Маргариты» и полемизируя с И. Бэлзой, исследователь видит его философскую концепцию не в том, что она восходит «к зашифрованной доктрине "Божественной комедии", а в том, что дантовская модель мира и ее финал являются предметом эстетической игры М.А. Булгакова» (Крючков 1995, с.228). Однако в другой статье В.П. Крючков почти не касается проблемы иронии, оставаясь на уровне констатации того, что «талант М. Булгакова - это талант по преимуществу сатирический, иронический, "земной"», а в «Мастере и Маргарите» «чувствуется ирония по отношению к главному герою» и «грустная усмешка» (Крючков 1998, с. 58, 59).
В работах СВ. Никольского внимание к иронии является как бы «побочным продуктом» его основного интереса к поэтике скрытых мотивов и аллюзий в творчестве М. Булгакова и К. Чапека. Поэтому в статье «Научная фантастика и искусство иносказания» (материалом исследования служат романы К. Чапека «Кракатит» и «Война с саламандрами» и повести М.А. Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье сердце») сам автор не пользуется термином «ирония» и говорит «о взаимодействии научно-фантастической поэтики с иносказанием, с эзоповым языком, с тайнописью» (Никольский 1992, с. 57). Однако употребляемые выражения: «двойные краски», «двусмысленные характеристики», «двойные значения», «подтекст», «иносказание», а также цитируемые слова В.Я. Лакшина «месть бытия» прямо адресуют нас к феномену иронии (именно здесь и высказано пожелание автора видеть иронию в качестве темы исследования). По мысли СВ. Никольского, «потаенный подтекст», будучи «искусством интеллектуальной игры» М.А. Булгакова, создает «вокруг» научно-фантастического действия, «так сказать, аллюзионно-ассоциативные наплывы» (Никольский 1992, с. 61-71). Они интересуют автора статьи как возможность увидеть «вторичный, скрытый смысл». Заключенный «в символике красного луча», он дает повод говорить о «послереволюционной советской действительности и о ведущих деятелях того времени - Ленине, Троцком, Сталине, Каменеве» (Никольский 1992, с. 63).
В другой работе «В зеркале иронии и сатиры (скрытые мотивы и аллюзии в прозе М. Булгакова)», СВ. Никольский продолжает рассматривать «иносказательные мотивы» и «иронические аллюзии на реальных лиц и конкретные события, связанные с репрессиями против церкви и духовенства в 20-е годы». Здесь также преобладает аспект рассмотрения иронии в качестве своеобразного эзопова языка, скрывающего предполагаемых прототипов (Никольский 1995, с. 51). Не отрицая подобную функцию иронии, мы считаем ее лишь как одну из достаточно большого числа возможных.
В статье «На грани метафор и аллюзий (о некоторых зашифрованных мотивах в антиутопиях Булгакова)» СВ. Никольский, практически, отказывается от обращения к феномену иронии, лишь однажды упомянув «легкую иронию», которую «можно заподозрить» по отношению к «ночной активности героя» «Мастера и Маргариты» Желдыбина, сама фамилия которого допускает «иронические коннотации» (Никольский 1999, с. 13).
В монографии «Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (Поэтика скрытых мотивов)» ученый обобщает свои исследования. Здесь феномену иронии уделяется значительно большее внимание. Некоторые же положения работы являются фактическим признанием иронии этих писателей как формы миропостижения и принципа художественного мышления. «В романе ... Чапек продолжает создание иронических моделей жизни и политики» (Никольский 2001, с. 21), или: «люмпен-алкоголик» Маркизов («Адам и Ева» М. Булгакова) «с полусожженной, и разорванной (т.е. поруганной) Библией в руках... это целый законченный философско-иронический ... актуально-злободневный символ» (Никольский 2001, с. 99).
КО. Ленкина11, рассматривая мифопоэтику и структуру художественного текста в философских произведениях М.А. Булгакова и уделяя иронии один из разделов третьей главы, замечает, «что ирония М.Булгакова не романтическая, а трагическая - экзистенциальная» (Пенкина 2001, с. 19). Полемическая направленность адресована, видимо, выводам МА. Новиковой11, чья работа посвящена романтической традиции Э.Т.А. Гофмана в творчестве М.А. Булгакова. Романтическая ирония определяется автором «как стилевая доминанта творчества» обоих писателей (Новикова 1999, с. 1, 133). Но наряду с ценными наблюдениями о том, что у Э.Т.А. Гофмана и М.А. Булгакова «используется ирония положения, ситуационная ирония», исследователь высказывает, на наш взгляд, спорную мысль о ее вторичности в творчестве М.А. Булгакова. Эта идея содержится в выводах, в которых подчеркивается приоритет гофмановской иронии, иронии же М.А. Булгакова отводится роль стилизации: «Ирония как одна из определяющих черт немецкого романтика существенно обогатила особенности булгаковского повествования. Выступая в форме стилизации, она способствует усилению романтической окрашенности образа, его укрупнения. И вместе с тем гофмановская ирония становится мощным творческим импульсом художественного развития актуальных для русского автора проблем, символов и образов, расширяя тем самым границы булгаковского реализма» (Новикова 1999, с Л 33).
Работы других исследователей содержат разрозненные высказывания об иронии М.А. Булгакова. Несмотря на свою фрагментарность, они имеют определенную ценность, т. к. даже в такой лаконичной форме выражают новые идеи и открывают потенциальные аспекты изучения. Так, в них речь идет о преемственность традиций: «Булгаков унаследовал от Гоголя ироническую интонацию» (Титкова 2000, с. 165), о том, что, изучая иронию, не следует ограничиваться позицией автора: «Булгаков не скрывает своего иронического отношения к Людовику» (Титкова 2000, с. 145), но необходимо учитывать и степень совпадения позиций автора и рассказчика:, «сатирические главы открывают нам иронического рассказчика» (Гапоненков 1995, с. 88). Здесь же возникает вопрос о различии или соотнесении сатиры и иронии13.
Некоторые наблюдения заключают в себе нераскрытые возможности характеристики феномена иронии и его функциональной роли в художественном тексте: «Авторское вмешательство как бы регулирует виды и оттенки иронии, направленные, в сущности, двум адресатам - герою и читателю» (Козлов 1987, с. 69). Другие достаточно глубоки и перспективны, поскольку, несмотря на свою краткость, предлагают новые проблемы исследования: «...ирония автора... укрыта за простодушием рассказчика...» (Чудакова 1985, с. 383), или: «Впервые в произведении Булгакова, посвященном современности, (речь о «Театральном романе» - С. Ж.) лиризм тесно взаимодействует с иронией: причем ирония скрепляет различные проявления подтекста...» (Немцев 1991, с. 95), а также: «Рассказчик... не менее искусно ведет юмористическую и лирическую партии, но главная его роль -роль иронического посредника, который, копируя, пародируя, передразнивая героев или сочувствуя им, одновременно апеллируя к читателю, ... создает игровое поле, на котором и разыгрывается «блистательное шоу» (А. Шиндель) современных глав» (Ребель 1995, с. 13).
Как видим, в изучении феномена иронии в творчестве М.А. Булгакова много неясного: находится ли ирония лишь «в сфере комического» или же выходит за его пределы - «не романтическая, а трагическая» (Пенкина 2001, с. 19), поскольку «у Булгакова нельзя не заметить трагического отзвука в самой иронии» (Казаркин 1988, с. 52); если это «философская ирония», то присуща ли она художественному мышлению писателя, или же она вторична и является лишь «стилизацией»? Как соотносятся между собою «романтическая ирония», «экзистенциальная» и другие вышеназванные типы и виды иронии в его произведениях, и в чем это проявляется? Таким образом, значимость и актуальность исследования иронии М.А. Булгакова для проникновения в глубины авторской концепции очевидна: ведь «полный и истинный смысл многих мест» произведения может быть «недоступен читателю, либо критику, не способному в должной мере оценить иронический смысл» (Соколянский 1999, с. 34).
Несмотря на то, что большинство работ посвящено роману «Мастер и Маргарита», проблема иронии и здесь оказалась наименее изученной. Не выяснены ее функции и в структуре художественного текста. На материале других романов она до сих пор не рассматривалась. Таким образом, пристальное внимание к творчеству М.А Булгакова и круг нерешенных вопросов, связанных с его иронией, определил тему диссертационного исследования: «Ирония в романах М.А. Булгакова («Театральный роман», «Жизнь господина де Мольера», «Мастер и Маргарита»)».
Основная цель диссертации заключается в рассмотрении феномена иронии М.А. Булгакова в романном творчестве.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1) выяснить сущность булгаковской иронии и ее предпосылки; выявить специфику иронии в многообразии ее проявлений в «Театральном романе» («Записках покойника), «Жизни господина де Мольера», «Мастере и Маргарите»; рассмотреть способы реализации иронии в художественных текстах М.А. Булгакова;
4) определить функции иронии в художественной структуре романов. Объектом исследования является творчество М.А. Булгакова. Предмет исследования - ирония в романах М.А. Булгакова, связанных его «больной темой» (В .Я. Лакшин) - темой творчества. В самом плодотворном и трагическом десятилетии (1929/30 - 1940 гг.) различные ее аспекты - поэт и время, художник и общество, творчество и власть, свобода художника, «ценность творящей личности», «самоутверждение автора» (Чудакова 1985, с. 387, 388), связанные с темой гибели художника, начинают звучать открыто. И хотя все они нашли отражение в большинстве произведений этого периода: повести «Тайному другу» (1929), пьесах - «Кабала святош» («Мольер») (1929 -1936), «Последние дни» («Пушкин») (1934 - 1935), романах - «Жизнь господина де Мольера» (1932 - 1933), «Театральный роман» («Записки покойника») (1929, 1936 - 1937), «Мастер и Маргарита» (1929 - 1940), - все же ярче всего и полнее она проявилась в романах.
Материалом изучения служит проза писателя, в частности, такие романы, как «Театральный роман» («Записки покойника»), «Жизнь господина де Мольера», «Мастер и Маргарита», а также сатирические повести, мемуарная повесть «Тайному другу», рассказ «Необыкновенные приключения доктора». При необходимости мы также обращаемся к письмам и дневникам М.А. Булгакова, воспоминаниям о нем, а в отдельных случаях и к пьесам.
Необходимым условием достижения поставленной в работе цели является использование научных методов исследования, сочетающих принципы историко-типологического, функционального и системного подходов.
Теоретической базой диссертации послужили труды многих зарубежных и отечественных ученых: М.М. Бахтина, Ю.Б. Борева, Г.В.Ф. Гегеля, Б. Дземидока, В .М. Жирмунского, К.В.Ф. Зольгера, С. Кьеркегора, А.Ф. Лосева, Новалиса, И. Паси, В.Я. Проппа, О.М. Фрейденберг, Ф. Шлегеля.
В теоретической литературе ирония характеризуется с разных позиций, постулирующих интересы тех наук, которые обращаются к ее исследованию. Поэтому как достаточно сложное явление, которое выражает себя в разных сферах общественного сознания, существующее в художественной форме и вне ее, ирония может рассматриваться как явление речи и мышления, стилистики и риторики, философии и эстетики, социологии, психологии и литературоведения. В свою очередь, это обусловливает многозначность феномена иронии, его многоуровневость и многофункциональность.
Разные подходы к иронии порождают разноголосицу в самом определении этого феномена14. Однако в наиболее общем виде ирония определяется как скрытое насмешливое отношение к явлению, в котором несоответствие выраженного и подразумеваемого, видимости и сути, будучи притворством, имеет совей целью дискредитацию этого явления. Объективная сложность, многосоставность, разноуровневость и полифункциональность иронии приводит к тому, что некоторые ученые и исследователи, рассматривая ее с какой-то одной точки зрения или стороны, игнорируют остальные и определяют всю категорию лишь по ней. Другие, руководствуясь желанием избегнуть «необоснованного» расширения понятия, пытаются «втиснуть» иронию «в рамки», тем самым обедняют содержание и унифицируют сложность, возникшую в результате развития этого феномена, и оставляют «за рамками» многие бытующие в литературе формы и виды15.
В лингвостилистическом аспекте рассматривает иронию А. А. Лотебня. Однако это не помешало ученому отметить ее неоднозначность, текучую неуловимость и формальную незакрепленность. С одной стороны, ирония «может вовсе обходиться без образа», «без тропов» (Потебня 1990, с. 271, 275), а с другой, она их не исключает и может выражаться антономасией, метафорой, аллегорией, аллюзией, пародией. Указывая «на сродство иронии и смешного», ученый справедливо отмечает, что оно «не простирается до тождества» (Потебня 1990, с. 271). Как особый род иронии А. Потебня выделяет случай «противоположности между высоким слогом словесной оболочки и пошлостью или низостью мысли» (Потебня 1990, с. 275).
В.Я. Лропп, Ю.В. Борее, В. Дземидок, ЛЖ Болдина определяют иронию как вид комического. В.Я. Лропп связывает иронию лишь с насмешливым смехом, который «стабильно связан со сферой комического» и этим определяется «комизм» иронии (Пропп 1999, с. 121). Ю. Борее, оставляя иронию в рамках комического, видит в ней не только «один из оттенков комедийного смеха», «комический парадокс», но и одну «из форм особой эмоциональной критики, при которой за положительной оценкой скрыта острая насмешка» (Борев 1970, с. 98). Ученый, различая сатирическую и комическую иронию, указывает, что первая из них, «мнимо утверждая предмет, осмеивает и отрицает его сущность», а вторая, «мнимо утверждая все в предмете, вышучивает и подвергает критике отдельные его стороны» (Борев 1970, с. 98 -99). Лишь в сарказме Ю. Борев отмечает трагедийный накаЛ^, определяя его как сатирическую по направленности, особо едкую и язвительную иронию. Б. Дземидок рассматривает иронию как определенную технику комического, однако мрачность сарказма (как едкой формы иронии) «выводит его за пределы» этой сферы (Дземидок 1974, с. 80).
Как эстетическую категорию в ее историческом развитии, а также с точки зрения соотношения в ней субъективного / объективного и разграничения феномена иронии с другими категориями и понятиями рассматривают иронию А.Ф. Лосев, Б.І7. Шестаков,К Ласи.
Иронию исследуют и как явление мировоззренческой природы: во-первых, как модус художественности - Л. Фрайг(Фрай 1987), ВЖ Тюпа (Тюпа 2001); во-вторых, как одну из фундаментальных категорий художественного мышления - В.КЗфулев (Хрулев 1989) и художественного мира - КК Иванова (Иванова 1999).
В отечественном литературоведении большая заслуга в изучении генезиса феномена иронии принадлежит О.М. Фрейденберг, объяснившей, как «единый комплекс образов», неких масок-типажей17 лег основой «литературной маски» Сократа, «в которой сливались связи мистерии, философии и мима» (Фрейденберг 1978, с. 241). Именно в мимах, восходящих к мимезису (т.е. разыгрыванию мнимого под видом настоящего) соединялись пародия, глумление и передразнивание. Во времена же Сократа ирония актуализировалась в связи с его манерой размышлять и вести беседу18. Поэтому и «Сократ еще близок фокуснику: его вопросы напоминают загадку, потому что он заранее знает свой умысел и тщательно маскирует его, заставляя разгадчика идти за собой, плутать и обманываться...» (Фрейденберг 1978, с. 277). Он стал олицетворением обманчивого вида и скрытой сути. В его фигуре воплотилось гармоничное единство комического и трагического (Фрейденберг 1978, с. 242).
А.Ф. Лосев исследовал историю возникновения и развития термина «ирония», а также изменчивость его содержания с античных времен до романтизма. Так, Платон, впервые употребивший термин в связи с описанием личности и философии Сократа, к примеру, подразделял сократовскую иронию на остроумие (asteismos), насмешку (mysterismos), издевательство (sarcasmos) и шутливую насмешку (chleyasmos) (Лосев 1994, с. 445). В своем описании сократовской иронии, «в которой отождествляется трагическое и комическое», Платон наполняет это понятие «положительным и глубоким» содержанием (Лосев 1994, с. 445). Тем не менее, «у Платона мы встречаем термин "ирония" в смысле отрицательном» (Лосев 1994, с. 443): подражая видимости, ироник способен лицемерить, «актерствовать». Аристотель же очень высоко ставил иронию: по его мнению, она свойственна тем, кто обладает величием души.
Труды О.М. Фрейденберг и А.Ф. Лосева показывают, что уже в античное время бытование иронии осуществляется в синкретической форме, сочетающей пародированное мистериальное таинство (объединявшее высокое и низкое, трагическое и комическое), философское провоцирование, насмешливое притворство и подразумеваемую глубокую суть, связанную с этическим идеалом.
Дальнейшее осмысление категория иронии получает в эстетике романтизма. Важное место в теоретическом обосновании иронии занимают взгляды идеолога ранних романтиков Ф. Шлегеля. В их основе лежит субъективно-идеалистическая система ИГ. Фихте с ее центральным понятием трансцендентального «Я», создающего из самого себя окружающий мир «Не — Я». Поэтому творения бесконечно свободного демиурга, вольного как созидать, так и разрушать по желанию свой созданный мир (т.е. играть им и возвышаться над ним), «проникнуты божественным дыханием иронии», в них «живет подлинно трансцендентальная буффонада» (Шлегель 1983, с. 283). Соединяя в себе «понимание искусства жизни и научный дух», а также «чувство неразрешимого противоречия между безусловным и обусловленным» (Шлегель 1983, с. 287), ирония предстает в своей завершенности как «абсолютный синтез абсолютных антитез», как «постоянно воспроизводящая себя смена двух борющихся мыслей» (Шлегель 1983, с. 296). Подчеркивая мировоззренческое значение иронии в творчестве романтиков, Ф. Шлегель указывает, что философия - «это подлинная родина иронии» (Шлегель 1983, с. 282), «самой свободной из всех вольностей» (Шлегель 1983, с. 287).
По мнению Новалиса, в таком субъективном и идеалистическом мироощущении «сокровенного» возрастает роль мистического, и, как следствие этого, поэту «близко чувство пророчества и религиозное ... провидение» (Новалис 1980, с. 94,95).
Так, в романтической иронии принципиально соединяются интеллектуальное'и эмоциональное начала, с художественной свободой тъоща-демиурга, прозревающего в своей фантазии мистическое. Воспаряющий над несовершенным миром, он волен его уничтожить собственным смехом, но тогда к этому смеху примешивается горечь осознания собственного одиночества.
Столь же теоретически значимыми стали размышления об иронии КВ. Ф. Зольгера, Г.В. Ф. Гегеля, С. Кьеркегора^ рассматривающих ее с позиций объективного идеализма как присущий самой действительности момент отрицания. Она фокусируется в понятиях: «мировая ирония» (Гегель), «бесконечная абсолютная отрицательность», осуществляющаяся через «поколения людей» (Кьеркегор), «момент перехода» (Зольгер). Все они считали, что ирония имманентно присуща определенному моменту действительности и является законом мирового развития.
У Зольгера ирония, непосредственно связанная с фантазией, становится в «момент перехода», т.е. «погружения в ничтожество» воплощенной художественным разумом Идеи, олицетворением преходящего: «безмерная печаль охватывает нас, когда мы наблюдаем, как великолепие превращается в ничто ... И этот над всем царящий, все разрушающий взгляд мы называем ирония» (Зольгер 1978, с. 380-382).
Крайний субъективизм Ф. Шлегеля и И.Г. Фихте дал основание Г.В.Ф. Гегелю оценивать романтическую иронию негативно, поскольку она, по мысли философа, демонстрировала произвол художника19. Гегель обосновывал свое понятие «мировой иронии» проявлением мирового духа и потому признавал иронию как один из моментов мирового развития объективного мира (отрицание).
По Кьеркегору, это развитие происходит через столкновение новой исторической действительности как осуществленной Идеи через поколение и отдельных индивидов со старой действительностью, также реализующейся в поколении и составляющих ее индивидах. Но, несмотря на то, что развитие происходит эволюционным путем, т.е. ежемоментно, «в этом столкновении заключен глубокий трагизм мировой истории» (Кьеркегор 1993, с. 176-198). По его мысли, мировая ирония и глубокий трагизм истории взаимообусловлены.
Таким образом, в сознании этих философов ирония приобрела глобальные, имманентные черты мирового развития и стала осознаваться как некая неподвластная человеку уничтожающая, отрицающая, разрушающая сила.
Трагическая ирония обретает «экзистенциальный статус» (Иванова 1999, с. 4) накануне Первой мировой войны и Октябрьской революции, благодаря возникшей в этот период философии экзистенциализма, наследующей взгляды поздних романтиков, С. Кьеркегора и Ф. Ницше. Ей свойственны ориентирование не на сущность мира, а на пребывание в нем человеческой экзистенции, сознание ее конечности и трансцендентности. Стремление экзистенции к НИЧТО определяет все модусы существования (заботу, страх, совесть) через смерть, т.к. они суть различные способы соприкосновения с НИЧТО, движения к нему, убегания от него.
Философия экзистенциализма проникнута трагическим, эсхатологическим ощущением мироустройства. Она дает иное понимание личности человека и, вследствие этого, иную концепцию иронии. Художник, оказавшись перед лицом мировой трагедии и будучи не в силах ее преодолеть, защищает себя «броней» иронии и, дистанцируясь от «безумного» мира, наблюдает «человеческую комедию» как бы со стороны. Ирония, в которой отрицанию подвергается и мир, и человек, является нигилистической и переходит в трагифарс. Суть ее противоречия образуют комическое и трагическое, которые постоянно меняются местами в связи со скользящей точкой зрения. «Это не просто синтез ... - трагикомическое, но игра под маской ... с целью провоцирования обстоятельств». Ироник «отчасти неуязвим в игре с миром», но «в то же время утрата рационального смысла» делает его «трагической фигурой» (Пигулевский 1992, с. 15 - 16). Ощущая «сто» отпущенных ему лет как время непреодолимого своего одиночества, отчужденности от общества, природы, от всего миропорядка, он все время находится в состоянии выбора. Однако потеря Бога - «Бог умер», «небеса пусты» (Ф. Ницше) и одновременное осознание невозможности жизни без Бога, ставит человека в рамки бессмысленного существования. В этой ситуации единственным средством спасения он видит иронию как ясное осознание абсурдности своего существования. Именно это ясное осознание и должно дать ему силы и мужество для «сизифова труда» жить (А. Камю). И лишь творчество способно сублимировать все «страхи жизни» (3. Фрейд) человеческой экзистенции.
Парадоксально, что отвергая Бога и усматривая иронию своего существования в неизбежности трагической развязки, ироник-экзистенциалист невольно большее значение придает иронии и как игре случая.
Современные же исследователи исходят из того, что «основой иронии является рефлектирующее сознание личности» (Болдина 1981, с. 69) . «В вещах и в природе иронии нет и не может быть ... Ирония - проявление субъективно-конструирующей способности сознания, игра, порыв* взрыв субъективности» (Паси 1980, с. 64), «ирония - точка зрения» (Болдина 1981, с. 59). Ее нет в природе , она лишь отношение, привносимое человеком в суждение, его интеллектуально-эмоциональная, аксиологическая реакция на то или иное явление. Поэтому он может субъективно расценивать происходящие события как чью-то насмешку: некий «рок» может быть интерпретирован как «ирония обстоятельств», «ирония судьбы», «ирония истории». Кроме того, человек, пребывая в неведении относительно своего положения, не сразу может распознать, что «судьба» «играет» им, «подменяя» результаты его усилий на прямо противоположные поставленным целям или ожиданиям .
В связи с этим, следует уточнить получившее в науке широкое распространение деление иронии на «объективную» и «субъективную» . Эта классификация строится на основании субъектно-объектных отношений (где объектом считается действительность, история, «судьба», обстоятельства, а субъектом — человек) и учитывает их направленность. «Объективная» ирония расценивается как ирония действительности по отношению к человеку. «Субъективная» - это ирония, исходящая от человека. Ирония субъекта может быть направлена как вовне, так и на себя (самоирония).
Следовательно, «ирония судьбы», «ирония истории», «ирония обстоятельств», несмотря на свою направленность от объекта к субъекту и названные в силу этого ((объективной иронией», означают лишь субъективную идейно-эмоциональную оценку ироником явлений, обстоятельств или ситуаций. При этом как бы выносится за рамки (хотя может служить и дополнительной информацией), является ли это в сознании ироника метафорой или же он верит в судьбу на самом деле. Эти устойчивые словосочетания трактуются в самом общем виде как контраст между намерениями личности и результатами его действий; как препятствия, словно нарочно возникающие на пути реализации личностью своих планов; как события, создающие «парадоксальный поворот в судьбе от расцвета до полной гибели», как контраст судьбы отдельной личности и целого государства (Кононенко 1987, с. 106). В этом кроется причина иронического взгляда на человеческую личность как на «игрушку в руках судьбы». И этот взгляд также может быть окрашен как в комические, так и в трагические torq..
Методологическую основу диссертационного исследования составили идеи ведущих отечественных и зарубежных ученых: М.М. Бахтина, А. Бочарова В.М. Жирмунского, В.И. Тюпы, Н. Фрая и других.
В одной из своих ранних статей В.М Жирмунский, развивая идею Н.А. Добролюбова, указывал, что «для отдельного поэта» «характерно» «не систематическое, философски продуманное мировоззрение». «Важно отыскать... настроение мировоззрения, то первоначальное отношение к миру души человеческой..., которое предопределяет всю дальнейшую форму», поскольку «эстетическая форма является... как бы отстоявшимся продуктом кристаллизации душевного переживания» (Жирмунский 1981, с. 62). Можно сказать, используя положения В.М. Жирмунского, в которых отражаются идеи Ф. Шлегеля, что ироническое миросозерцание как «форма переживания жизни» действительно находится «на грани чувства и систематической мысли» (Жирмунский 1981, с. 62).
Героика, трагизм, ирония, сентиментальность и ряд смежных им феноменов, - так называемые «сплавы» обобщений и эмоций» или «определенные типы освещения жизни» (В.Е. Хализев), не имеют однозначного теоретического статуса, хотя широко используются не только в литературоведении. Так, в зависимости от своих методологических позиций современные ученые называют их «эстетическими категориями (большинство отечественных философов), либо категориями метафизическими (Р. Ингарден), либо видами пафоса (Т.Н. Поспелов), либо модусами художественности, воплощающими авторскую концепцию личности и характеризующими произведение как целое (В.И. Тюпа). Воспользовавшись термином научной психологии, эти феномены человеческого сознания и бытия можно назвать мировоззренческими (или миросозерцательно значимыми) эмоциями, которые присутствуют в искусстве в качестве "достояния" либо авторов, либо персонажей (изображаемых лиц)» (Хализев 1999, с. 68, курсив автора).
Из многих идей ММ Вахтина для нас особенно важны мысли о противопоставленности карнавального народного смеха как позиции коллектива ироническому редуцированному смеху индивидуума, «смеху для себя». В народном смехе смеющийся является частью этого коллектива, частью целого мира и потому выражает его точку зрения (Бахтин 1990), в то время, как в ироническом смехе индивид противостоит коллективу. Поэтому, раскрывая художественную суть произведения, исследователю важно «добраться, углубиться до творческого ядра личности» его создателя (Бахтин 1979, с. 371).
Ирония, выдвинувшаяся на передний план в художественной практике романтиков, отводивших ей существенную роль в своем творчестве, со временем оформилась как самостоятельный модус. Однако в его становлении принимали участие не только романтики, открывшие «возможность чисто иронической художественности» (Тюпа 2001, с. 167), но и «затяжная антиромантическая революция», указавшая «путь иронической поэтике» (Фрай 1987, с. 259).
Абсолютизированное поздними романтиками противостояние личности и внешнего мира приобрело окраску иронического неприятия его. Этот конфликт рассматривался в ценностной шкале ироника с его позиции -возвышенной, но в то же время отмеченной одиночеством. На протяжении всей своей истории человеческое общество неоднократно подтверждало свое несовершенство войнами и революциями, усугублявшими его деградацию, а бессилие идей гуманизма в борьбе со злом проявлялось в несовпадении благородных целей и результатов, оборачивающихся тем же злом, что демонстрировало их превратность. В контексте исторической эпохи, в литературе все более начинает проявлять себя философская ирония, выражающая свое отношение к вопросам бытия человека и общества, их нравственным ориентирам, как концептуальная мировоззренческая установка автора.
Ж Фрай, впервые рассмотревший иронию именно в этом «несколько специфическом смысле» и отметивший, что «ирония по своей природе -изощренный модус» (Фрай 1987, с. 289), справедливо указывает на сложность ее выявления: «Когда мы попытаемся выделить ироническое как таковое, мы находим, что оно попросту сводится к позиции поэта..., это отказ от любых открытых моральных оценок..., умение спрятать глубокий смысл за непритязательным художественным фасадом» (Фрай 1987, с. 289). Тем не менее, оперируя четырьмя «этическими элементами» произведения - герой, его окружение, автор и его читатели, исследователь конкретизирует свое понимание не только самого иронического модуса, но и видов иронии: «трагической» и «комической». Он раскрывает специфику «иронического героя» и «иронической ситуации» через «принципиальное различие» существования героя, свойственное этим видам, или, по терминологии ученого, этим двум «основным тенденциям»: изолирован герой от общества, или «он включен в него». Так, «комическая ирония» связана с интеграцией героя в обществе, а «трагическая» предполагает его изоляцию. Сами тенденции, как пишет Н. Фрай, «относятся к особенностям сюжетов вообще» (Фрай 1987, с. 235).
В «ситуации трагической изоляции» героя ученый отмечает несоразмерность постигшей героя кары с его поступком; все, что происходит с героем - это игра случая, его жребий. Он - типичная жертва, «козел отпущения». «Он невинен и виновен одновременно: он невинен в том смысле, что его наказание намного превосходит его вину. А его вина обусловлена тем, что он член пораженного пороком общества или хотя бы тем, что в окружающем его мире подобные несправедливости составляют неотъемлемую черту существования» (Фрай 1987, с. 240). Н. Фрай обосновывает «основной принцип трагической иронии», который «заключается в том, что любые незаурядные события, происходящие с героем, должны быть представлены вне причинно-следственной связи с особенностями его характера ... Ирония подчеркивает в трагической ситуации ощущение произвольности выбора именно данного героя, его невезучесть» (Фрай 1987, с. 240)24.
Кроме того, в связи с тем, что «козел отпущения невинен и виновен одновременно», но «оба эти факта, как правило, остаются иронически разъединенными», исследователь отмечает в трагической иронии наличие двух ее полюсов: «неизбежного» и «случайного». «Объединенные в трагедию», они «расщепляются на противоположные полюсы иронии» (Фрай 1987, с. 240)., и каждый из них имеет свой архетип героя. Один полюс - это «неизбежная ирония человеческого существования». Ее «архетипом... предстает Адам» как «воплощение человеческой природы, приговоренной к смерти». Другой полюс воплощает «случайная» иронии человеческой жизни» (т.е. ирония обстоятельств, не подвластных человеку). «Архетипом этой иронии является Христос - совершенно невинная жертва, отвергнутая людьми» (Фрай 1987, с. 241). Характеризуя ироническое авторское сознание, Н. Фрай отмечает, что возникновение теорий цикличности истории как идеи вечного возвращения на «круги своя», или рассмотрение нашего времени «в качестве несостоявшегося апокалипсиса» - «типичнейший феномен иронического модуса» (Фрай 1987, с. 258). Возникнув «от низкого мимесиса», ирония «начинается с появления реализма и бесстрастного наблюдения. Но постепенно она сближается с мифом, и в ней опять начинают проступать следы жертвенных ритуалов и черты умирающих божеств» (Фрай 1987, с. 241). Она создает «собственную философию рока и философию провидения» (Фрай 1987, с. 260), проявляясь в формах наивной или рафинированной иронии. Но если наивный автор-ироник «афиширует свою ироничность», то «рафинированная ирония оставляет читателю возможность», взяв за основу «иронический принцип несовпадения между высказыванием и его значением» (Фрай 1987, с. 258), «как бы самому привнести ее в повествование» (Фрай 1987, с. 289). В этом случае автор словно «приглашает поиронизировать и читателя, ибо предполагает существование общих нравственных норм для себя и читающей публики» (Фрай 1987, с. 247),
В комической иронии важен мотив изгнания «козла отпущения» из общества. «Требование финального возмездия для преступника, каким бы негодяем он не был, ведет к обнаружению виновности самого общества, большей, чем вина героя» (Фрай 1987, с. 243). В иронической литературе «банальнейшие явления повседневной жизни превращаются в мистическое и роковое» (Фрай 1987, с. 244), способное с помощью иронии выявить их собственную абсурдность.
ВЖ Тюпа, взявший из теории модусов Н. Фрая принцип «всеобъемлющей характеристики художественного целого», а именно: «соответствующий тип героя и ситуаций, авторской позиции и читательской рецептивности», а также «внутренне единую систему ценностей и соответствующую ей поэтику», ссылаясь также на М.М. Бахтина, разъясняет свое понимание «стратегии оцельнения» как развития отношений в «диаде» личность («я») и противостоящий ей внешний мир («мир»), которые составляют суть полюсов человеческого бытия. Реализацией этой «диады» как способа присутствия человека в мире («я - в - мире»), по мнению В.И. Тюпы, и обоснована эстетическая позиция автора. В иронической модальности важным и определяющим является момент размежевания «я - для - себя» от «я - для — другого», «в чем, собственно, и состоит притворство». «Я - для - другого» в варианте «не - я» является как бы превратным отражением «я». Такое «не - я» может оказаться маской самоутверждения (Тюпа 2001, с. 168).
Представляя одну «из стратегий оцельнения художественного мира», «модус художественности, овладевший творческим сознанием» автора, «сам требует для себя не только соответствующей организации текста, но и соответствующего предметно-смыслового содержания и адекватного эстетического "нададресата"». Именно он определяет собою поэтику, тематику, проблематику, т.е. «так называемое "идейное содержание"» (Тюпа 2001, с. 169). Следуя за мыслью В .И. Тюпы, можно сказать, что модус, обусловливающий произведение в целом и проявляющийся в его составляющих на разных уровнях: в поэтике, выборе героев и ситуаций, тематике, проблематике и пр., может быть выявлен: «Доказательная, научно верифицируемая идентификация смысловой индивидуальности того или иного произведения как принадлежащего к определенному типу целостности возможна только путем квалифицированного анализа его текста» (Тюпа 2001, с. 169, курсив автора). Как пишет исследователь, «всеобъемлющая характеристика художественного целого», некая «стратегия оцельнения, предполагающая не только соответствующий тип героя и ситуации, авторской позиции и читательской рецептивности, но и внутренне единую систему ценностей и соответствующую ей поэтику» — это и есть «модус художественности» (Тюпа 2001, с.154). J. Вочаров, говоря о «сообщительности» иронического смеха отнюдь не вступает в противоречие с вышеизложенным, поскольку он имеет в виду необходимое условие взаимоотношений автора и читателя: «не ради высокомерия, не ради самолюбования, а ради сообщительности возникает подлинная ирония», объединяющая понимающих людей (Бочаров 1980, с. 81).
В современном отечественном литературоведении все более утверждается принцип изучения иронии как «одной из фундаментальных категорий художественного мышления» и «одной из конституирующих категорий художественного мира» автора (Иванова 1999, с. 3), как «способа диалектического мышления» и «выражения взыскательной ... тревожной мысли художника» (Хрулев 1989, с. ПО). Нам близки позиции тех исследователей, которые видят в иронии явление не только языковой, а философской, мировоззренческой природы. На наш взгляд, В.И. Хрулев дал точное определение не только художественного мышления, но и его принципов: «Художественное мышление - целостное самостоятельное понятие, образуемое из двух равноправных частей, но обладающее качественно новым смыслом по отношению к каждой из них. Оно означает прежде всего способ претворения миропонимания писателя в художественную реальность. Принципы художественного мышления - это пути перевода художественного мира писателя в мир произведения, пути реконструкции духовной жизни писателя в жизнь его героев». Кроме того, «как целостное видение мира» художественное мышление «включает в себя в преображенной форме основные компоненты творческой индивидуальности от мировоззрения и философско-эстетических принципов до поэтики» (Хрулев 1993, с. 70).
Интегрируя и развивая наиболее значимые положения современных исследователей, мы пришли к следующим обобщениям.
Во-первых, в процессе исторического развития формируются различные грани самого феномена иронии: она соединяет в себе не только притворство, насмешку, но и скрытость сути, двойственность, игру, отрицание, майевтику, дистанцированность субъекта.
Во-вторых, ирония - это мировоззренческая категория. Как художественное мышление, превращая миропонимание в «поэтическое слово», образует «связующее звено между мировоззренческим, уровнем художника и поэтикой» (Хрулев 1993, с. 6), так и ирония, аккумулируя в себе пути перевода, способна создать свой собственный модус художественности.
В-третьих, мировоззренческая ирония по своей сути является субъективной. Выражая свое отношение к вопросам бытия человека и общества, их нравственным ориентирам, она отражает противостояние позиций «Я» и «Мир». Поэтому лишь в оценке ироника сложившиеся обстоятельства выглядят как «происки» некой реальности или неподвластной ему силы, и именно он воспринимает (и называет) это как «объективную» иронию. Эти два вектора субъектно-объектных отношений, условно делящих иронию на «субъективную» и «объективную», в зависимости от оценки ироником своего положения в мире равно могут быть представлены как комическим, так и трагическим видами иронии. Поэтому мы считаем эти четыре параметра {«объективное» и «субъективное», «Я» и «Мир») в аспекте интеллектуально-эмоциональной оценки наиболее универсальными и обобщающими характеристиками мировоззренческой иронии, способными отразить, пожалуй, все видовоемногообразие'ее проявлений в области поэтики. Так, крайняя «субъективная» позиция неприятия ироником мира и человека получила название нигилистической иронии. Рассматривая иронию с точки зрения типологии исторического сознания, правомерно выделить следующие типы, античную, романтическую, экзистенциальную и постмодернистскую иронию.
В-четвертых, принцип несовпадения между высказыванием и его значением, лежащий в основе иронии, определяет и игровое начало в ней (прием маски, либо отсутствие всяких этических авторских оценок). Благодаря этому принципу, создается иной смысловой подтекст, который вытекает не из прямого значения, а из контекста и реализует авторскую ценностную позицию.
Научная новизна диссертации обусловлена, во-первых, неизученностью булгаковской иронии как художественного феномена. На наш взгляд, ирония М.А. Булгакова - явление гораздо более масштабное и представляет собою феномен художественного мышления. В этом качестве ирония еще не была предметом исследования. Кроме того, в булгаковедении пока еще не решен вопрос о значении иронического мировосприятия в системе художественного мышления МЛ. Булгакова, который способен, на наш взгляд, объяснить удивительный феномен его текстов: широчайшую - реальную и мнимую -интертекстуальность его произведений. Во-вторых, она определяется реализуемым в работе новым научным подходом к изучению иронии как мировоззренческой категории, исследуемой в качестве важнейшей составляющей художественного мышления и поэтики, обусловливающей целостность художественного произведения.
Теоретическая значимость работы состоит в систематизации различных взглядов на иронию, в теоретическом обосновании понятия «мировоззренческая ирония», имеющего принципиально важное значение для концепции диссертации; в предложенной методологии исследования, интегрирующей разные научные подходы в изучении этого эстетического феномена.
Практическое значение может иметь предложенная в диссертации методика исследования иронии в творчестве М. Булгакова. Материалы диссертации могут быть использованы в вузовском курсе по истории русской литературы XX века, в спецкурсах и спецсеминарах по творчеству М.А. Булгакова, теории иронии.
Апробация работы. Основные положения диссертации были отражены в выступлениях на Международной конференции (МАНПО, 2002 г.) в Москве, Всероссийских конференциях (ВолГУ, 2000; ВолГУ, 2001; ВГПУ, 2001 гг.) в Волгограде, внутривузовских университетских конференциях (2000, 2001гг.), а также в ряде научных публикаций
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Иронический подтекст в романе
Высказывание М.М. Пришвина о творческой судьбе Н.В. Гоголя -«искусство, должно быть, всегда паразитирует на развалинах «личной» жизни», и особенность подвига художника состоит в том, что именно «мираж» искусства приносит ему славу «победителя личного горя» (Рязанова 1985, с. 471) - можно с полным основанием отнести и к творческой судьбе М.А. Булгакова.
Год 1929 стал для М. Булгакова, по его словам, «годом катастрофы»: «были сняты из репертуара московских театров все пьесы», в этот период писатель не имел, за ничтожным исключением, ни одной публикации (Чудакова 1990, с. 681; Лесскис 1990, с. 607). «За семь последних лет я сделал шестнадцать вещей разного жанра, — писал М. Булгаков Б. Асафьеву в 1937 году, - и все они погибли. Такое положение невозможно» (Лакшин 1989, с. 52). И хотя мысль о самоубийстве, о безысходности писательского существования в условиях практически полного запрета его произведений посещала М. Булгакова, тем не менее, все невзгоды он побеждал, по воспоминаниям Е.С. Булгаковой, с редкостным упорством: «Слово отчаяние - к нему никак не подходит. Это человек несгибаемый. Я не встречала по силе характера никого, равного Булгакову. Его нельзя было согнуть, у него была какая-то такая стальная пружина внутри, что никакая сила не могла его согнуть, пригнуть, никогда. Он всегда пытался найти выход» (Булгакова 1988, с. 385).
В произведениях М. Булгакова автобиографический герой занимает позицию противостояния новому миру, не принимает его («Грядущие перспективы», 1919 г.), пытается не замечать его возникновения, полностью уйдя в профессиональные заботы («Записки юного врача»1, 1925-1926 гг.) или понять, что последовавший крах прежней жизни непоправим («Записки на манжетах», 1922, 1923, 1924 гг., «Белая гвардия», 1924, 1925 гг.).
Позиция, занимаемая автором, — это позиция человека, усмотревшего в произошедших «социальных экспериментах» над человеческой природой насмешку истории («Роковые яйца», 1925 г., «Собачье сердце», 1925 г.). Показ отторгающего героя общества, его различных «миров», заинтересовавших дьявола-Рудольфа/Рудольфи2 и Воланда, дан и в повести «Тайному другу» (1929), и в «Записках покойника» (1929, 1936-1937), ив «Мастере и Маргарите» (1928-1940). Судьба оке противостоящего ему художника (alter ego aemopaj, в разных вариантах, но с одинаково безнадежно печальным концом представлена в судьбе Мастера и Максудова.
Ироническое мировосприятие играло не последнюю роль в преодолении писателем ударов судьбы. Его смех «не всегда можно было назвать безобидным» и он «порой принимал, так сказать, разоблачительный характер, зачастую вырастая до философского сарказма» (Марков 1988, с. 240).
Ироническое отношение сформировалось, как указывал сам писатель, довольно рано под влиянием М.Е. Салтыкова-Щедрина: «будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией» (Булгаков 1990, с. 339). Хорошо знавшие М. Булгакова близкие люди отмечали поразительную наблюдательность, какой-то «дьявольский ум» (С. Ермолинский), склонность к розыгрышу, которые позволяли М. Булгакову видеть противоречия жизни, осмысливать и воплощать их в амбивалентном единстве иронически скрытого смеха.
Однако ирония М. Булгакова определяется не только свойствами психики и ума писателя, его природным остроумием и чувством юмора, которые отмечали многие близкие люди. Ее корни уходят в социальную, мировоззренческую почву. «Выдающийся писатель - это выдающаяся судьба: его творчество обязательно связано с судьбоносным выбором его народа, с решениями, формирующими судьбу поколений» (Казаркин 1988, с. 28). Глубокий пессимизм в отношении революции в России сформировал мировоззренческую иронию писателя. Еще в 1919 году, служа у белых и начав печататься в прессе, в своей статье «Грядущие перспективы» М. Булгаков откровенно оценивал обе революции, как «безумие мартовских дней, ... безумие дней октябрьских», за которое «нужно будет платить» «следующим поколениям» (Булгаков 1999, с. 8). Но белое движение было разгромлено, и М. Булгаков, волею судьбы был оставлен в России (в последний день отъезда за границу его свалил тиф). И несмотря на свое внешне лояльное отношение к власти, все же всем своим творчеством и независимостью взглядов, выражавших критическое отношение к переменам и «бесчисленным уродствам» уже социалистического быта, писатель предопределил свое социальное положение: «отщепенец», «не рядящийся даже в попутнические цвета» (J7J, 448) . Внутренняя оппозиционность обществу, в котором он жил, обусловила социальную грань его иронии. Пролетарская критика, не терпящая инакомыслия, своеобразия яркой творческой индивидуальности «социально чуждого элемента», почувствовав острую ядовитую насмешливость булгаковского языка, с непримиримой злобой травила писателя. Собственная внутренняя оппозиционность усиливалась внешне враждебным профессиональным окружением. И, по сути, его судьба сложилась как «трагический жизненный путь крупнейшего писателя, творчество которого было насильственно отторгнуто от общества» (Житомирская 1999, с. 219).
Ироническая игра (автор - читатель; композиция)
Исследователи творчества М. Булгакова отмечают у него сильное «игровое начало» (А.П. Казаркин, В.П. Крючков, И.З. Белобровцева, СВ. Никольский и др.), проистекающее, по мнению А.П. Казаркина, из господствующей философской иронии (в основном, на основании рассмотрения «Мастера и Маргариты»).
На наш взгляд, философская ирония вообще является способом мировидения М. Булгакова, определяя в той или иной степени художественную структуру большинства его произведений. Конкретные коллизии сочинений писателя рассматриваются им с позиций человека с искореженной, поломанной революцией судьбой, вынужденного в новых условиях не столько жить, сколько «выживать», чья жизнь, возможно, сложилась не просто более счастливо, но совершенно иначе, родись он в иное, не столь катастрофическое время. Из этого конфликта и рождается философская ирония, подспудно содержащаяся в подтексте фантастических или забавных на первый взгляд образов и фабул.
Как указывает СВ. Никольский, «двусмысленность ... , «игра» на двойных и неявных значениях, на скрытых смыслах - «игра», составляющая особенность поэтики» писателя, имеет «главный объект внимания и источник философских раздумий автора» - «российские макрособытия». Это находит отражение в художественной структуре произведений, проявляясь «скрытыми напоминаниями о недавних исторических потрясениях» и образуя «целые комплексы намеков на подлинные события». «Благодаря этому общий философский смысл произведений как бы дополнительно проецируется на современную автору действительность, а она в свою очередь оказывается в широком философском контексте» (Никольский 2001, с. 107, 147-148). Другой исследователь приходит к выводу, что «игра утверждается как одно из важнейших понятий аксиологии М. Булгакова» (Белобровцева 1997, с. 146-147)14.
К особенностям личности и характера М. Булгакова, по воспоминаниям его близких, относились такие черты, которые заставляют думать, что «ирония и есть муза Булгакова» (Казаркин 1988, с. 16)15: его «острый, как лезвие ум» «проникал за внешние покровы мысли и слов и обнаруживал тайники души. Его прозорливость была необычайна...Он хотел сделать людей лучше... и выносил приговор самым страшным оружием - смехом» (Гдешинский, 1988, с. 54). «Наискрытнейший человек» (Белозерская 1988, с. 195), он был склонен к шутке и розыгрышу, что проявлялась, отчасти, в пристрастии к шарадам - игре в загадки, литературно изложенным и разыгрываемым как пьесы (Земская, 1988, с. 63)16. Как вспоминала сестра писателя, он «любил поражать... парадоксальность, оригинальностью суждений, едкой иронией» (там же). «Его лиризму почти всегда сопутствовала усмешка. Его пафос грозил перейти в пародийную высокопарность ..., и даже в самых трагических местах мелькала печальная его насмешка» (Ермолинский 1966, с. 91).
На наш взгляд, все это объясняет и некую усложненность художественной формы, что можно отметить не только в «Мастере и Маргарите», но и в «Театральном романе». В этом смысле сочинения Булгакова можно сравнить с художественными (литературными) «шарадами», которые открываются во всей глубине своего содержания постепенно и лишь пытливому читателю. И несмотря на то, что он не имел выхода к широкой читательской аудитории, Булгаков все же находил способ проверять себя и реакцию слушателей, читая свои сочинения в узком кругу друзей. Стихия импровизации .. . правит в книге о театре, определяет уровень ее смеховой культуры. Ирония тут действительно восстанавливает то, что разрушил пафос» (Смелянский 1986, с. 354).
Рассматривая «Театральный роман» с точки зрения авторской иронии, можно отметить многообразие ее проявлений. «Ахматовское определение булгаковского дара - «Ты как никто шутил» - с поэтической меткостью характеризует природу отношений автора с читателем: это ироническая игра. Известно, что «для Булгакова-драматурга зачин всегда имеет принципиальное значение. ... Первая ремарка и первые реплики пьесы дают ей смысловой... настрой, завязывают основную тему сочинения» (Смелянский 1986, с. 230). Таким «зачином» и основным «ключом» к иронии «Театрального романа» или «Записок покойника» является предпосылаемое автором предисловие, выявляющее игровую суть и форму иронического отношения автора с читателем, с героями, и общим литературным контекстом.
Образ рассказчика и его функции в романе
Летом 1932 года М. Булгаков получил заказ на книгу о Мольере для создаваемой тогда М. Горьким серии «ЖЗЛ». Несмотря на то, что к этому моменту им уже была написана пьеса «Кабала святош» («Мольер»), писатель весьма ответственно подошел к новой работе. По воспоминаниям Е.С. Булгаковой, он вновь обратился к источникам, скрупулезно собирая все, что было известно на тот момент. В библиографическом списке, прилагаемом к тексту романа, автор указал сорок семь названий1. Тема творчества - «это трагическая тема Булгакова - художник в его столкновении все равно с кем - с Людовиком ли, с Кабалой, с Николаем или с режиссером» .
Однако, несмотря на то, что книга, по мнению многих была, несомненно, талантлива, ее постигла печальная участь: она не прошла цензуру и при жизни автора не была напечатана.
В письме редактора серии «ЖЗЛ» А.Н. Тихонова содержался резко отрицательный отзыв, хотя и было отмечено, что «книга в литературном отношении оказалась блестящей, и читается с большим интересом» (Соколов 2000, с. 351). Особое непонимание и жесткую критику редактора вызвали избранные автором прием и манера повествования. Критикуя М. Булгакова с позиций вульгарного социологического подхода, он вменял в вину писателю то, что тот поставил «между Мольером и читателем» «некоего воображаемого рассказчика», и «этот странный человек... не знает о существовании довольно известного у нас в Союзе, так называемого марксистского метода исследований исторических явлений. ... Ему ... чужд вообще какой-либо социологизм даже в буржуазном понятии этого термина...» (Соколов 2000, с. 351). Удивительным образом А.Н. Тихонов подвергал критике то, что составляло достоинство и особенность булгаковской работы: «Ваш рассказчик страдает любовью к афоризмам и остроумию... Он постоянно вмешивается в повествование со своими замечаниями и оценками, почти всегда мало уместными и двусмысленными ... За некоторыми из этих замечаний довольно прозрачно проступают намеки на нашу советскую действительность, особенно в тех случаях, когда это связано с Вашей личной биографией (об авторе, у которого снимают с театра пьесы, о социальном заказе и пр.)» и т.д. (Соколов 2000, с. 352).
Со свойственной ему иронией, М. Булгаков писал П.С. Попову: «Ну-с, у меня начались мольеровские дни. Открылись они рецензией Т. В ней, дорогой Патя, содержится множество приятных вещей. Рассказчик мой, который ведет биографию, назван развязным молодым человеком, который верит в колдовство и чертовщину, обладает оккультными способностями, любит альковные истории, пользуется сомнительными источниками и, что хуже всего, склонен к роялизму! Но этого мало. В сочинении моем, по мнению Т., «довольно прозрачно проступают намеки на нашу советскую действительность»!!... Итак, желаю похоронить Жана-Батиста Мольера. Всем спокойнее, всем лучше. Я в полной мере, равнодушен к тому, чтобы украсить своей обложкой витрину магазина. По сути дела, я - актер, а не писатель. Кроме того, люблю покой и тишину.... Т. пишет в том же письме, что он послал рукопись в Сорренто» {773, 487, 488). Не дожидаясь отзыва Горького, М. Булгаков категорически отказался переделывать роман, хотя и рассчитывал на его понимание. Однако Горький был полностью согласен с А.Н. Тихоновым и в письме к нему так же негативно оценил биографию Мольера, отметив при этом, что «нужно изменить ее «игривый» стиль» поскольку «в данном виде - это несерьезная работа» (5, 706). «Такое досадное недоразумение», по словам Тихонова, «произошло» (Соколов 2000, с. 353) в силу полного несовпадения редакторского заказа и его осуществления (не это ли «недоразумение» спародировано Булгаковым в «Мастере и Маргарите» в разговоре редактора Берлиоза с поэтом Бездомным?). В ответном письме к А.Н. Тихонову М. Булгаков отстаивал право на свой взгляд: «Я не историк, я драматург, изучающий в данное время Мольера. Но уж, находясь в этой позиции, я утверждаю, что я отчетливо вижу своего Мольера. Мой Мольер и есть единственно верный (с моей точки зрения) Мольер и форму для донесения до зрителя (драматическая описка: не зрителя, а читателя) я выбрал тоже не зря, а совершенно обдуманно» (Соколов 2000, с. 354). Е.С. Булгакова, со ссылкой на секретаря «ЖЗЛ» Н.А. Экке, приводит мнение какого-то партийного работника из «Academia»: «Вы дураки будете, если не напечатаете. Блестящая вещь. Булгаков великолепно чувствует эпоху, эрудиция громадная, а источниками не давит, подает материал тонко (Булгакова 1990, с. 38)3.
И действительно, введение автора-рассказчика в биографический роман было нехарактерным приемом для советской литературы тех лет (Ерыкалова 1990, с. 639). Тем важнее понять функцию этого образа в свете рассматриваемой проблемы. Судьба драматурга XVII века Жана-Батиста Мольера была не просто близка драматургу Булгакову, он находил в ней несомненные личные переклички. Недаром П.С. Попов, узнав о намерении М. Булгакова приступить к созданию книги о Мольере, писал ему: «Думаю, она должна Вам удаться, тут есть, как говорится, точка соприкосновения, и я бы добавил, живого и даже актуального» (курсив автора - С. Ж.), (5, 704).
Погрузившись еще с начала работы над «Кабалой святош» в жизнь Франции эпохи Людовиков, М. Булгаков, по его словам, жил «уж который год» «в призрачном и сказочном Париже XVII века» {/73, 486).
Реализация иронической модальности в формосодержательном единстве романа
Роман «Мастер и Маргарита», по общепризнанному мнению, не только вершина творчества М.Булгакова, но и одно из самых сложных произведений мировой литературы. Роман с самого начала воспринимался исследователями неоднозначно, порождая порой ожесточенную полемику. Диаметрально противоположные суждения о нем и его авторе можно встретить и через несколько десятилетий. Ироническое предсказание М. Булгакова, данное от лица героя «... ваш роман вам принесет еще сюрпризы», в полной мере осуществилось за тридцать пять лет, прошедших со дня первой публикации: «Булгаков побывал борцом с тоталитаризмом и апологетом силы, апостолом гуманности и певцом дьявола, наследником великих классических традиций и самовлюбленным дюжинным фельетонистом, поклонником каббалы, масонства, гностицизма, тайным антисемитом и пр. и пр.» (Сухих 2000, с. 218) .
«Изощренно сложная целостность» (Казаркин 1988, с. 11) романа, в котором, к тому же, «автор... как бы ускользал из рук» (Чудакова 1991, с. 9), обусловили прочно закрепившуюся за ним репутацию «обманного» (Крючков 1998, с. 54), «загадочного» «романа-лабиринта» (Сухих 2000, с. 213). Исследователи отмечают, что «в романном целом все «расплавлено» и завуалировано» (Золотоносов 1991, с. 100), а «концептуальность» финального диалога о покое «глубоко зашифрована» (Крючков 1998, с. 54). «Трагический и в то же время фарсовый» (Крючков 1995, с. 225), он содержит «скрытые семантические «подсказки», которыми автор, скорее, «воздействуя на подсознание читателя, нежели, рассчитывая на его рассудочный анализ» (Кушлина и Смирнов 1986, с. 117), создает картину реального и в то же время фантастического, мистического мира, где «одно может опровергаться другим, а это другое отменяться третьим» (Крючков 1998, с. 54).
Все эти «шифры», «тайнопись», «скрытые лейтмотивы и аллегории», «глубокий подтекст романа», отмеченные критикой, и в которых пытаются разобраться исследователи, парадоксальность его художественного мира обусловлены философской иронией автора4, которая, на наш взгляд, нашла свое выражение в ироническом модусе, организовавшем универсум романа .
Особое значение для нас имеет работа А.П. Казаркина, в которой указывается на его «доминанту - преобладающий пафос, или конструктивную установку»: «весь сюжет подчинен философской иронии» (Казаркин 1988, с. 11). Причем, по словам ученого, «основная проблема его толкования -уточнение этой цельности, которая может быть показана через дифференциацию частей и синтез их в отношении к доминирующему пафосу» (Казаркин 1988, с. И)6. Предостерегая о возможной опасности недооценить «индивидуальность этой цельности», автор, в то же время, допускает, что «разным людям... эта художественная цельность будет представляться различно, в неодинаковых пропорциях частей, в подчинении их по-разному увиденной доминанте» (Казаркин 1988, с. 11)7.
Как известно, «Мастер и Маргарита» представляет собою двойной роман: это роман о московском обществе и Мастере и роман самого Мастера о Понтии Пилате. Сопрягая два самостоятельных сюжета8 в единое целое, ироничный автор сразу вступает в игровые отношения с читателем, поскольку предлагает ему самому разбираться не только в перипетиях и коллизиях, но и в возникающих по ходу сюжета вопросах: какого рода «иностранец» посетил Москву и почему он так радуется ужасной смерти эрудированного редактора, которую сам же и предрек; какое отношение к этим событиям имеет повествование о пятом прокураторе Иудеи; почему эти два сюжета такие разные по манере письма! и пр. Только лишь в тринадцатой (!) главе, узнав, что это роман нового героя московского сюжета, Мастера, читатель начинает заново осмысливать прочитанное, вспоминая и сопоставляя события.
Параллельно, вместе с постижением запутанной фабулы, читателю открывается намеренная связь сюжетов, последняя фраза главы одного сюжета становится началом следующей главы другого; сопрягается время и обстоятельства происходящих событий (московское и ершалаимское утро, ознаменовавшееся смертью и смертельным приговором, надвигающаяся гроза и связанная с ней духота, жуткая туча, накрывшая Ершалаим и Москву, разразившаяся днем гроза, уходящий вечер и лунный луч, по которому устремляется Пилат во сне профессора, но не черной магии, а истории).
Диалогическое взаимодействие обоих сюжетов, которое начинает воспринимать читатель, устанавливается также соотнесенностью возникающих в них философских вопросов: «кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле» (5, 14) и действительно ли «перерезать волосок» жизни «уж наверно может лишь тот, кто подвесил» (5, 28), «что такое истина» (5, 26), изменилось ли «московское народонаселение» «внутренне» (5, 119 - 120) и «что бы делало... добро, если бы не существовало зла» (5, 350), в чем истинное бессмертие и пр.
Таким образом, постепенное понимание а) нарочитости контрастного противопоставления сюжетов, б) их связи и в) диалогического взаимодействия подготавливает читателя к постижению более глубокого скрытого смысла их взаимного проецирования.