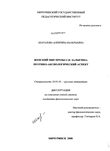Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Смысловые доминанты прозы Д. Хармса 21-127
Глава II. Спасение как смысловая доминанта прозы Д. Хармса 128-156
1. Повесть «Старуха» 130-134
2. Цикл «Случаи» 134-143
3. Феномен чуда в прозе Д. Хармса и его эволюция -156
Глава III. Ведущие мотивы и приемы прозы Д. Хармса 157-212
1. Сквозные мотивы 158-183
2. Устойчивые приемы 183-203
3. Возможный инструментарий для различения художественного и биографического в записях Д. Хармса 203-212
Заключение 213-218
Список использованной литературы
- Цикл «Случаи»
- Феномен чуда в прозе Д. Хармса и его эволюция
- Устойчивые приемы
- Возможный инструментарий для различения художественного и биографического в записях Д. Хармса
Цикл «Случаи»
В прозе Хармса отчетливо выделяются авторские инварианты. Практически в каждом хармсовском произведении зрелого периода вычленяется некая доминанта. При этом произведений намного больше, чем различных доминант (их у Хармса, в действительности, не очень много). Уже одно это располагает к условному разбиению произведений на группы. Сам Хармс эти группы не выделял, однако даже если он не предполагал, что соответствующие рассказы могут быть соотнесены по какому-то конкретному признаку и могут условно рассматриваться в качестве некой группы, то получилось у него именно это. Мы предполагаем, что начиная с некоторого момента Хармс выработал определенную технику и овладел вполне конкретным арсеналом приемов, поэтому каждое его новое произведение, с одной стороны, отчасти дублировало уже некогда написанное, с другой же - добавляло новые оттенки к группе в целом. Поэтому наше условное общее разбиение на группы помогает в интерпретации конкретных миниатюр. Если в некоторых произведениях данной группы какой-то характерный для нее прием вполне очевиден и лежит на поверхности, то в других этот прием может быть совершенно незаметен. Но принадлежность к группе тем не менее определяется, что в свою очередь располагает к поиску данного приема, и этот поиск часто приводит к плодотворным результатам. Таким образом, наше условное разбиение на группы обогащает понимание Хармса.
Ранее исследователями неоднократно предпринимались попытки классификации хармсовской прозы.
Избирая как основное при анализе хармсовской прозы понятие доминанты, мы опираемся на идею А. П. Скафтымова: «Пред исследователем внутреннего состава произведения должен стоять вопрос о раскрытии его внутренних имманентных формирующих сил. Исследователь открывает взаимозависимость композиционных частей произведения, определяет восходящие доминанты и среди них последнюю завершающую и покрывающую точку, которая, следовательно, и была основным формирующим замыслом автора» (129;133). Так, Ф. В. Кувшинов классифицировал хармсовских персонажей на основе социальных типов («Философ-Художник», «Чудак-Чудотворец», «Правитель-Сверхчеловек-Недочеловек», «Обыватель» (83; 125). С другой стороны, о невозможности выстраивания стройной типологии хармсовских персонажей высказывалась Е. Е. Саблина .
А. Г. Герасимова проводила классификацию хармсовской прозы, исходя из различных типов повествователей. Исследовательница выделяла «безликого повествователя-наблюдателя, лишенного эмоций и качеств и лишь иногда морализирующего» и «автора-персонажа, провокационно похожего на прочих персонажей-"недочеловеков"» (32; 129). Произведения, где присутствуют данные типы повествователей, исследовательница условно отнесла к «случаям», а произведения, где таких повествователей нет (например, те, где повествователь близок самому Хармсу), - к «не-случаям». Таким образом, была создана глобальная классификация хармсовской прозы, состоящая, правда, всего из двух групп.
Е. Е. Саблина предложила немного более разветвленную классификацию, которая основывается на «характере сюжетной ситуации и наличии / отсутствии имени персонажа» (119; 132), а также на «типе героя» (119; 148). В первую группу попадают «фрагменты, в которых повествуется о персонажах» (эта группа как самая объемная также разделена на подвиды: «фрагменты о персонажах, которые не имеют имен», «фрагменты о персонажах, которые названы по имени») (119;133). Во вторую группу «входят фрагменты, в которых появляется персонаж-повествователь» (там же). Произведения, которые не входят в первые две группы (трактаты40 и рассуждения) Саблина относит к третьей (119; 134).
О невозможности стройной жанровой классификации прозы Хармса пишет Н. В. Гладких: «...жанровая природа текстов Хармса очень «Творчество Д. Хармса трудно поддается систематизации и классификации, и если количество персонажей поддается подсчету, выявляется повторяемость их имен, то каким-либо образом выстроить типологию персонажей в единую, стройную систему нам не представляется возможным» (119;38).
Мы не причисляем хармсовские «квазитрактаты» к его прозаическим произведениям, хотя определенная связь тут, несомненно, есть. своеобразна. Не раз говорилось, что авторское название многочисленных прозаических текстов и сценок Хармса, завершившееся в 1939 году оформлением цикла "Случаи", может быть наиболее удачным обозначением жанра этих произведений ... Дело в том, что никаких устойчивых отличительных жанровых признаков случаи не имеют, за исключением сравнительно небольшой величины и отношения к сфере комического. Любой из них более или менее определенно соотносится с каким-либо жанровым прототипом, среди которых: рассказ, анекдот, сказка, драма, биография, автобиография, назидательный пример, басня, письмо, трактат, а также их комбинации. Случаи расслоены не только в жанровом плане, но и в родовом. У них есть два родовых полюса - проза и драма, причем драматические сценки часто написаны в стихах. Поэтому случаи нам кажется более правильным называть квшижанром» (38;99).
Классификация по какому-то одному признаку (по типам персонажей или повествователей, по жанру, по характеру сюжетной ситуации и т. д.) не кажется нам плодотворной. Такие классификации получаются слишком общими и, на наш взгляд, в целом мало что проясняют в творчестве Хармса41.
Однако в «зрелых» произведениях Хармса вычленяются отчетливые доминанты (иногда несколько, чаще одна). Попытки провести классификацию по однородным признакам представляются нам бесперспективными, поскольку в центре одних произведений - характерный персонаж, в то время как в центре других - характерный авторский прием. Мы же предлагаем разделение хармсовской прозы на группы, исходя из смысловых доминант миниатюр. Доминанты могут быть тематическими или же связанными непосредственно с формальной стороной (например, с АО особенностями повествования, сюжета, жанровыми аспектами)
Феномен чуда в прозе Д. Хармса и его эволюция
Однако мир Николая Ивановича наполнен страхом: «...какой-то гражданин в серой паре внимательно к их разговору прислушивается. А в открытые двери метр-д отель бежит, а за ним ещё какой-то субъект с папироской во рту». Здесь Хармс делает акцент и на социальный аспект (советскую действительность), не случайно Жаккар угадывает в этих фигурах «стражей того порядка, который власть хотела бы установить» (56; 145). Первый ответ фее можно было бы списать на эффект неожиданности и растерянность. Но фея заговаривает с Николаем Ивановичем дважды. Быть рабом страха - это осознанный выбор Николая Ивановича: «...выбежал на улицу Лассаля и сказал себе: "Кавео! Камни внутрь опасно! И чего чего только на свете не бывает!"». Это классический пример компенсации (Николай Иванович не хочет себе признаваться, что напуган до смерти). Идиот-рассказчик понимает эту историю уже привычным для нас образом: «Теперь все знают как опасно глотать камни. Один даже мой знакомый сочинил такое выражение: "Кавео", что значит: "Камни внуть опасно"». Разумеется, никакого отношения к камням история не имеет (чего абсолютно не понимает рассказчик), однако слово «кавео» использовано неслучайно. Перевести его с латыни можно как «я опасаюсь» (или «я остерегаюсь»). Николай Иванович, видимо, в отличие от рассказчика, многое понимает: «А придя домой, Николай Иванович так сказал жене своей» - отчасти библейский стиль, что вполне соответствует пафосу следующей реплики: «Не пугайтесь, Екатерина Петровна, и не волнуйтесь. Только нет в мире никокого ровновесия. И ошибка-то всего на какие ни будь полтора килограмма на всю вселенную, а всё же удивительно, Екатерина Петровна, совершенно удивительно!» Вроде бы ни о чем страшном речи нет, но Николай Петрович невольно проговаривается: «...не пугайтесь, не волнуйтесь». Николая Петровича вдруг заинтересовал вопрос о душе, но страх давно заставил от нее отказаться, равно как и от собственной личности. Он уговаривает себя, что ничего страшного в этих «полутора килограммах» нет. Николай Петрович, по-видимому, чудо распознал (что нехарактерно для Хармса): «...удивительно ... совершенно удивительно!» (с. 89-91). Чудо -наверное, спасительное - здесь кодируется «небольшой погрешностью», но из «ровновесия» Николаю Петровичу выйти, видимо, не суждено...
Рассказ «Басня» - некая вариация рассказа «О ровновесии». Здесь несколько другие образы, но ситуация повторена практически полностью: снова начинается все с сокровенной просьбы («Один человек небольшого роста сказал: "Я согласен на всё, только бы быть хоть капельку повыше"»), за которой следует появление «волчебницы», при этом просящий «от страха ни чего сказать не может», а затем следует вторая реплика «волчебницы» (с. 133). Сходство, пусть и менее явное, есть и в окончании рассказов: переживания героев о том, что попросить у феи («волчебницы») о чуде они так и не смогли.
Обратимся к рассказу «История». Абрам Демьянович неизвестно почему ослеп и неизвестно почему прозрел. Завершается рассказ еще более загадочно: «С этого дня Абрам Демьянович пошёл в гору. Всюду Абрам Демьянович нарасхват. А в Наркомтяжпроме так там Абрама Демьяновича чуть на руках не носили. И стал Абрам Демьянович великим человеком» (с. 117). Непонятно ничего: ни как герой пошел в гору, ни почему он был нарасхват. Почему ничтожный Абрам Демьянович стал «великим человеком», не объясняется вовсе - нет даже намека.
Идея «Истории» в том, что в «мире» не просто есть «сокрытое», а «сокрыто» самое главное. Это предположение подкрепляет рассказ, написанный в тот же день - «Карьера Ивана Яковлевича Антонова». В этом рассказе «ясно» все, кроме главного. Оно «сокрыто». Нет и намека на то, что же это за загадочные «самые остроумные способы», которые всякий раз приносили «остроумцам» такую славу.
Интересный штрих к «сокрытому» добавляет миниатюра «- Н-да-а! -сказал я...». Оказывается, крыса, умеющая говорить (что является необычным для «мира» Хармса), тоже страдает от холода. Видимо, в «сокрытом» все так же плохо, как и здесь. И там тоже - холодно. Это дает основания полагать, что «сокрытое» не сильно отличается от всего остального (ср. с дискредитацией «иного»).
«Шапка» - один из самых тревожных хармсовских рассказов, где из сферы «сокрытого» материализуется дьявольское. В этом рассказе «синерожий» хладнокровно, и оттого еще более изощренно, издевается над «усатым». Последний не выдерживает: «- Ах ты, дьявол ты этакий» -«усатый» еще не понимает, сколь точно он подобрал слово, - «Морочишь ты меня, старика! Отвечай мне и не заворачивай мне мозги: видел ты их или не видел? Усмехнулся еще раз другой, который синерожий, и вдруг исчез, только одна шапка осталась в воздухе висеть». Загадки рассказа разрешились. Теперь ясно не только то, как «шапки на людей надеть, а самих людей не заметить», но и то, кто был перед нами. Практически наверняка -некое воплощение дьявола. Интересно, что и «старик» это понял: «- Ах, так вот кто ты такой! - сказал усатый старик...» «Старик за шапкой, а шапка от него, не дается в руки старику. Летит шапка по Некрасовской улице мимо булочной, мимо бань. Из пивной народ выбегает, на шапку с удивлением смотрит и обратно в пивную уходит». Отметим очень важную деталь: «народ» чудо (в данном случае дьявольское) видит, удивляется ему, но это совершенно ничего в нем не меняет. «Народу» все равно. Близость ада «народ» совершенно не пугает (хотя доказательство более чем наглядное -шапка летит по воздуху). «И обратно в пивную уходит» (показательно, куда они уходят: «мерзость быта» в «мире» пересиливает даже ужас ада). «А старик бежит за шапкой, руки вперед вытянул, рот открыл; глаза у старика остеклянели, усы болтаются, а волосы перьями торчат во все стороны» (с. 210). Дьявол, как ему и положено, спровоцировал и погубил поддавшегося ему старика.
Устойчивые приемы
Впервые хармсовское чудо намечается в рассказе «Иван Петрович Лундапундов...». Иван Петрович ударяется о висячее в воздухе яблоко. Перед нами вроде как материальное чудо. Однако «оказывается, кто-то приделал к потолку длинную нитку с крючком на конце. Яблоко зацепилось за крючок и не упало». Чудо как будто бы аннулировано, но не все так просто. Прикрепленная к потолку нитка с крючком на самом деле лишь немногим менее удивительна, чем повисшее в воздухе яблоко, просто в «мире» если и будут удивляться, то всегда не тому. Между тем отголосок «сокрытого» читателю - прозвучал. Тема чуда возвратилась. Возвратилась на короткий срок, до тех пор, пока «Морозов, Угрозов и Запоров» не пришли «к Ивану Петровичу Лундапундову» (с. 35). Интонация повествования совершенно сменилась. Пора вернуться на землю. Когда приходят Морозов, Угрозов и Запоров, уже не до чуда - теперь оно совсем неуместно.
Мы уже говорили в связи с этим рассказом о дискредитации «чинарства». Видимо, Хармса и тогда волновало чудо, и даже в далеком 1930-м он предчувствовал, что друзья ему тут не помогут.
Впрочем, в предыдущей миниатюре все на уровне отдаленных намеков, темы и мотивные линии лишь зарождаются. А в 1931-м Хармс пишет, быть может, главный «набросок» «Старухи» - рассказ «Утро». Интонация и фабула этого рассказа чрезвычайно напоминают позднюю повесть. Как и в «Старухе», рассказчик видит себя со стороны (засыпая, он мысленно произносит: «Я вижу свою комнату и вижу себя, лежащего на кровате»116, с. 48), играет на публику («Я лезу в карман за папиросами, но вспоминаю, что у меня их больше нет. Я делаю надменное лицо и быстро иду к еще ходить по улицам. Очень трудно отличить их грязные костюмы и лица. Они топчатся во все стороны, рычат и толкаются. Толкнув нечайно друг друга, они не говорят "простите", а кричат друг другу бранные слова», с. 45). Как и в «Старухе», повествователь практически отождествляется с Хармсом: тут и обилие настоящего времени («Я иду по Литейному мимо книжных магазинов», с. 44), и привычные вызывающие сочувствие детали («Я надел сапоги. На правом сапоге отлетает подметка», с. 44), и зародыш «временного схлопывания»: «Сегодня воскресение» - слова рассказчика, «25 октября 1931 года, воскресение» - дата в конце текста (с. 44, 48). На этом совпадения не кончаются: «Я обдумывал свой сон: почему собака посмотрела в реку и что она там увидела. Я уверял себя, что это очень важно: обдумать сон до конца» (с. 45-46). В «Старухе» именно во сне «мир» предстает в подлинном свете (венцом чего становится «разговор с собственными мыслями»). Вот и рассказчик «Утра» предчувствует важность сна, но развить эту тему Хармс пока не готов: «...я не мог вспомнить, что я видел дальше во сне, и я начинал думать о другом» (с. 46). Хармс пока «не знает», и в этом незнании - главное отличие «Утра» от «Старухи».
В центре рассказа «Утро» - ожидание и поиски чуда. «Вчера я просил о чуде. Да да, вот если бы сейчас произошло чудо» (с. 44). Повествователь чувствует, что чудо как-то неразрывно связано с писательством: «Передо мной лежала бумага, чтобы написать что то. Но я не знал, что мне надо написать. Я даже не знал, должны быть это стихи, или рассказ, или рассуждение. Я ничего не написал и лег спать. Но я долго не спал. Мне хотелось узнать, что я должен был написать. Я перечислял в уме все виды словестного искусства, но я не узнал своего вида. Это могло быть одно слово, а может быть, я должен был написать целую книгу. Я просил Бога о чуде, чтобы я понял, что мне нужно написать» (с. 46). Оказывается, чудо - это не нечто абстрактное и недостижимое. Нужно что-то написать - и чудо свершится. Но вот что? Через восемь лет Хармс поймет.
Сейчас просьба рассказчика - прямая, почти меркантильная - явить чудо. Но к Хармсу еще «не пришла» Старуха. Лишь после ее появления герой обратится к Богу с молитвой - и только тогда появится чудо. В «Старухе» Хармс не «вопрошает», а «отвечает». Возможно, поэтому в повести тема чуда внешне как будто бы периферийна (в отличие от «Утра», где просьба о чуде едва ли не сбивается на вопль). А между тем именно «Старуха» станет подлинным воплощением чуда... Но об этом - чуть позже, пока же вернемся к «Утру»: «Я сел на кровате и закурил. Я просил Бога о каком то чуде. Да да, надо чудо. Все равно какое чудо» (с. 46). Герой просит о любом чуде, пусть это будет даже и не писательство. Возможно, нечто материальное, однако... «Я зажег лампу и посмотрел вокруг. Все было по-прежднему. Да ничего и не должно было измениться в моей комнате. Должно измениться что то во мне» (с. 46). После этого из «Утра» тема чуда пропадает.
«Утро» - не просто рассказ, художественное произведение, это в каком-то смысле дневник. Повествование наполнено той самой особой задумчивостью («Звонил Володя. Татьяна Александровна сказала про меня, что она не может понять, что во мне от Бога и что от дурака», с. 44) - не свойственной большинству хармсовских произведений, но нередко встречающейся в его личных записях. Это далеко не единственный случай, когда хармсовский дневник принимает утонченную художественную форму - ср. с «Мне вдруг казалось, что я забыл что то, какой то случай или важное слово. Я мучительно вспоминал это слово и мне даже начинало казаться, что это слово начиналось на букву М. Ах нет! совсем не на М, а на Р» («Мы жили в двух комнатах...», с. 85). Ведь это те самые «мучительные» поиски слова\ Коллизия «Утра» повторена практически дословно. Выходит, ищет не только рассказчик, но и сам автор...ш В «Утре» Хармс еще не готов
На автобиографичность отчасти указывает и письмо к Р. И. Поляковской, написанное практически через неделю после «Утра»: «Я знал, что мне надо написать что-то, но я не знал что. Я даже не знал должны это быть стихи, или рассказ, или какоето рассуждение, или просто одно слово. Я смотрел по сторонам и мне казалось что вот сейчас, что то случится. Но ничего не случалось. Это было ужасно. Если бы рухнул потолок было бы лучше чем так сидеть и ждать не известно чего» (4; 138-139). высказаться о чуде, и автору остается лишь писать о себе: возможно, поэтому после слов «Должно измениться что то во мне» (с. 46) повествование окончательно становится художественно-дневниковым.
Впоследствии нечто необычное, напоминающее чудо, будет не раз происходить в хармсовских произведениях119. Но все же чудом это не будет -появление «фантастического» или «необъяснимого» в этих рассказах имеет иное назначение . Поиск того самого чуда, отчетливо воплощенный в «Утре», вернется на бумагу только в тяжелейшем для Хармса 1937 году, когда писатель фактически окажется за гранью нищеты. 31 октября Хармс запишет: «Меня интересует только "чушь": только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своём нелепом проявлении...» (Дн.;2;195). На первый взгляд, к чуду эта запись имеет малое отношение. Но, видимо, в эти дни Хармс вновь пронзительно ощущает потребность в чуде и 10 ноября пишет один из самых туманных своих текстов: «Пассакалию № 1». Многие интонации этого рассказа напоминают «Утро», а в качестве «basso ostinato» (неизменной басовой темы, многократно повторяющейся на протяжении произведения) в нем звучит тема чуда. Рассказ действительно музыкальный: «Тихая вода покачивалась у моих ног. Я смотрел в темную воду и видел небо. Тут, на этом самом месте, Лигу дим скажет мне формулу постраения несуществующих предметов» (с. 187).
Возможный инструментарий для различения художественного и биографического в записях Д. Хармса
Уместно сопоставить дискредитацию «чинарства» с «детоненавистничеством»: как кажется, в случае последнего Хармс фактически доводит до логического завершения «чинарский» способ отношения к реальности. Обязательный пересмотр общепринятого, непременное отвержение любых штампов, явно культивирующееся в компании, - доводится до логического конца и, как оказывается, - до абсолютного гротеска. «Любить детей» - общепринятая добродетель, некое «общее место». Хармс ведет себя просто-напросто как образцовый и, главное, последовательный «чинарь» - и опрокидывает эту банальность. Получается: «дети - гадость», что уже могло бы смущать самих «чинарей». Хармс эпатирует «чинарей» не чем иным, как собственно «чинарством». Это насмешка. Он наглядно показывает им результат последовательного «исповедания» их же доктрины.
Нам кажется большой ошибкой полагать, что Хармс не проявлял никакой критичности по отношению к «чинарству» и вообще мыслил как Друскин. Любопытный эпизод описан М. Б. Мейлахом с друскинских слов. Когда Введенский с маленьким сыном приехал из Харькова в Ленинград, Друскин стал объяснять мальчику все, как сказано у Мейлаха, «наоборот», инверсно, т. е. - «чинарски». «Введенскому это очень не понравилось, и он предложил Друскину так воспитывать собственных детей...» (101;446). «Чинарское» даже у Введенского было совершенно отделено от реальной жизни и реального поведения. Представляется, что в таком случае есть не меньше оснований заподозрить подобную отстраненность (не столько внешнюю, сколько внутреннюю) и у Хармса, который в последние годы даже и в творчестве отошел от «левизны» («Старуха»), что, кстати, именно так и было истолковано тем же Введенским, творчество которого продолжало оставаться вполне «чинарским» всегда.
О свойственном хармсовской прозе садизме мы говорили подробно, исследуя группу «Порок» («Фома Бобров и его супруга», «Иван Григорьевич Кантов шёл...», «- Да, - сказал Козлов, притряхивая ногой...»). Здесь же укажем только, что садисты от большинства хармсовских персонажей отличаются отсутствием глупости. Среди них те, кто бьют других в разнообразных «историях дерущихся»; такие персонажи, как матрос («Воспитание»), - и, конечно же, хармсовские доктора. Доктора - едва ли не самые зловещие хармсовские персонажи. Приход доктора без последствий не останется.
Как и у многих других русских писателей, у Хармса сон - это мир подсознания, свободного от предрассудков и суждений героя. Так, в «Утре» рассказчик прямо говорит о важности сна: «Я уверял себя, что это очень важно: обдумать сон до конца» (с. 46). В «Старухе» именно во сне рассказчику открывается истинное положение вещей, является подлинная сущность Сакердона Михайловича (а у героя вместо рук - нож и вилка, словно подсказывающие, в чем же на тот момент состоит его жизнь). Фактически Хармс продолжает традиции столь любимых им Пушкина и Гоголя (сны Татьяны, Гринева, сон Катерины из «Страшной мести»).
Заснуть в хармсовском «мире» - отдельная проблема: «Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть» («Старуха»). Быть может, в данном случае воображающий герой мечтает хоть на мгновение заглушить тревогу, отрешиться и воспарить над земным - и потому он столь жаждет уснуть посредине дня? Но в «мире» все не к месту: «Теперь мне хочется спать, но я спать не буду» («Старуха», с. 264). Человек бессилен, жить по собственному плану возможности нет (то же самое можно сказать и в связи со «Случаем с Петраковым», где Петраков смог лечь на кровать только в тот момент, когда спать уже не хотелось; эта же мысль будет усилена в рассказе «Сон дразнит человека»). Другой оттенок темы сна представлен в одноименном рассказе: там сон последовательно и агрессивно поглощает Калугина («Сон»).
В «Потерях» Андрей Андреевич страдает от ущерба и пытается избежать реальности, заснув (мнимая альтернатива спасению). Хармсовский сон может обладать и вполне дьявольским оттенком (особенно отчетливым в рассказах «Сон» и «Сон дразнит человека»). Герой «Старухи» еще до каких-либо происшествий жаждет сна - видимо, ему хочется забыться, заглушить совесть, неустанно напоминающую о человеческом предназначении (глубинный пласт «рассказа о чудотворце»). Такой сон не возвышение, а дурман, почти смерть (ср. «Да, конечно, это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула ... И вдруг мне делается все ясно: старуха умерла» - «Старуха», с. 267) . Но не только темные силы настигают спящего. Пытаясь сном заглушить «собственные мысли», герой «Старухи» Близость сна и смерти видна в рассказе «Кулаков уселся в глубокое кресло...»: «Сидя заснул, а спустя несколько часов проснулся лёжа в гробу» (с. 159). Пожалуй, наиболее явно связь смерти и сна представлена в миниатюре «Когда сон бежит от человека...»: «...и человек лежит на кровати ... а безжизненное тело останется лежать на кровати ... "вот ещё один человек уснул", и в этот миг захлопнется огромное и совершенно чёрное окно». Фамилия Окнов как бы напоминает о предназначении человека, напоминает, что главное - это душа и её «переход» (другими словами, Окнов - это «Духов»). Но Окнов своему предназначению не следует: «Окнов лежал с открытыми глазами, и страшные мысли стучали в его одервеневшей голове». Какие души, такие и мысли и голова, возможно, потому и окно - «совершенно чёрное» (с. 209). невзначай открывает им простор, и перед ним разворачивается подлинная картина происходящего. Главное - прислушаться.
Итак, мы выделили одиннадцать хармсовских мотивов: обыденности насилия, обыденности порока, невоспринятых ценностей, ничтожности персонажа, «мерзости быта», безумия, «детоненавистничества», дискредитации «чинарства», садизма, потери, сна. Все они - важные элементы, из которых формируется картина хармсовского «мира». Уже одно перечисление этих мотивов указывает на ее беспросветность - и в первую очередь ее делает таковой человеческая природа. Но кроме того, и во всем земном изначально присутствует какой-то изъян (вспомним мотивы «мерзости быта», потери и прочие): «Всё земное свидетельствует о смерти» (Дн.;2;199).