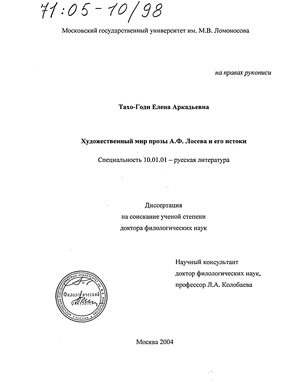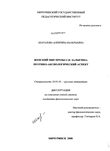Содержание к диссертации
Введение
Первая Глава. Основные этапы творчества А.Ф. Лосева 12
1. Первый период. 1910-е годы 12
2. Второй период. 1920-е годы 33
3. Третий период. 1930-1940-е годы 68
4. Четвертый период. 1950-1980-е годы 100
Вторая глава. Художественный мир прозы А.Ф. Лосева 121
1. Поэтика заглавий. Сюжеты. Жанр воспоминаний. Авантюрный сюжет и авантюрное время 121
2. Символический реализм 128
3. Автобиографические и метафизические протосюжеты. Биографическое время и жанр хроники 131
4. Драматизм и риторика 136
5. Интеллектуальный роман и «роман-река». Единство персонажей 146
6. Главный герой 150
7. Художественное время 155
8. Мироустройство 160
9. Адам и Ева 171
10. Жизнь в «пограничной ситуации» 176
11. Война миров 192
12.Трагедия и музыка 198
13. Комическое, ирония, гротескное и абсурдное 210
14. Экзистенциальная антиутопия 219
Третья глава. Традиции русской литературы XIX-XX веков в творчестве А.Ф. Лосева 238
1. Смысл жизни 239
2. Отказ от мира 247
3. Смысл страдания 256
4. Человек искусства 266
5. Герой нашего времени 273
6. Трагедия маленького человека 283
7. Судьба-случай и человек-автомат 293
8. Философское убийство 305
9. Злые дети 315
10. Построение нового мира 323
11. Небесная Родина 335
12. Вечная Женственность 343
13. Древо жизни 355
14.Художественное своеобразие 363
Заключение 375
Примечания 382
Литература 431
Список условных сокращений 459
- Первый период. 1910-е годы
- Поэтика заглавий. Сюжеты. Жанр воспоминаний. Авантюрный сюжет и авантюрное время
- Символический реализм
- Смысл жизни
Введение к работе
Творческое наследие одного из ярких представителей русской религиозной мысли XX столетия Алексея Федоровича Лосева (1893-1988) монументально и многообразно: философия, богословие, эстетика, классическая филология, лингвистика, теория музыки, математика. Новейший библиографический список его трудов включает в себя более 800 позиций1. Не менее обширна и библиография работ о Лосеве: ее опубликованный краткий вариант, включающий работы как русских, так и зарубеж-ных исследователей, насчитывает около 400 наименований . Первые статьи о Лосеве появились в конце 20-х гг. и принадлежат философам русского зарубежья: В.Э. Сеземану3, С.Л. Франку4 и Д.И. Чижевскому5. В вышедшей в Париже в 1950 г. «Истории русской философии» выдающийся знаток истории русской философской мысли В.В. Зеньковский писал: «В лице Лосева русская философская мысль явила такую мощь дарования, такую тонкость анализов и такую силу интуитивных созерцаний, что всем этим с беспорностью удостоверяется значительность того философского направления, которое впервые с полной ясностью было намечено Вл. Соловьевым»6. В то же время В.В. Зеньковский сожалел об «общей недогово р е н н о с т и» лосевских книг, «объясняемой полным отсутствием свободы мысли в Сов етской России», хотя сила мысли автора «такова, что и прикровенная форма изложения не может ослабить впечатления, которое создается его построениями»7. Этой же политической ситуацией объясняется тот факт, что в России о Лосеве понемногу начали писать лишь с конца 50-х гг., а по-настоящему его творчество стало предметом изучения лишь после смерти самого мыслителя, с конца 80-х гг. XX в., когда появилась масса научных статей, статей энциклопедического характера8, сборники, целиком посвященные Лосеву9, монографии10 и диссертационные исследования11. Большинство этих работ сосредоточено на изучении религиозно-философской деятельности Лосева12, его философии имени13 и воздействия на нее идей платонизма14 и имяславия15, его теории символа16 и мифа17, историческим взглядам Лосева18 или лингвистическим воззрениям19, осмыслению им музыкальных категорий20 и т.д. Таким образом, творчество Лосева являлось объектом исследования преимущественно историков философской, религиозной и эстетической мысли, филологов-классиков, языковедов, но не специалистов по истории русской литературы. До сих пор остается в тени обширное литературное наследие Лосева, включающее произведения различных жанров (письма, дневники стихи, повести, рассказы, роман) и представляющее собой несомненный интерес и дающее все основания вписать имя Лосева в историю русской литературы XX в.
То, что Лосев как прозаик обойден вниманием, что его нет в словнике энцик-лопедии «Русские писатели XX века» , несмотря на то, что он был принят в члены Союза писателей, что, за редким исключением22, работ о прозе Лосева нет, имеет вполне объективное объяснение. О существовании лосевской прозы стало известно лишь в последнее десятилетие. Она не могла появиться в печати ни в 30-40-е гг., когда создавалась, ни позже при жизни автора. Из беллетристических вещей при жизни Лосева были напечатаны лишь его поздние, относящиеся к 80-м гг. рассказы-диалоги «Беседы с Чаликовым»23. Его стихи, дневники и письма, роман «Женщина-мыслитель», повести «Трио Чайковского», «Метеор», «Встреча», рассказы «Мне было 19 лет», «Театрал», «Разговоры на Беломорско-Балтийском канале», «Жизнь», «Вранье сильнее смерти» и др., писались в стол и стали публиковаться посмертно, лишь с первой половины 90-х гг. XX в. в различных периодических изданиях, в том числе и зарубежных 4. В 1993 г. была сделана первая попытка издать лосевские прозаические сочинения, но в том, названный «Жизнь. Повести. Рассказы. Письма»25, вошла только малая их часть. Книга 1997 г. «Мне было 19 лет... Дневники. Письма. Проза»26 также включала в себя избранные вещи. Наиболее полное издание прозы Лосева вышло лишь в конце 2002 г. в виде двухтомника «Я сослан в XX век...»27. Так, волей истории Лосев оказался одним из «потаенных писателей» XX столетия.
Правда, существуют и субъективные причины, по которым исследователи могли не обращать должного внимания на Лосева как прозаика. Лосев - представитель русской религиозно-философской школы, поэтому его проза может рассматриваться лишь как «опыты» философа, как дополнение к лосевской философии, а не как самостоятельный художественный мир, выстроенный по чисто литературным канонам. Такому отношению, как это ни парадоксально, на первый взгляд, можно найти подтверждение в собственных лосевских признаниях. Если философ говорил о своей прозе как об «акте слабости» (Я,И, 153), если писал, что к его роману «было бы чрезвычайно странно подходить с художественной оценкой», т.к. он состоит «на VA из философских рассуждений» (ЯД, 142), разве не значит это, что вопрос о Лосеве художнике, вопрос о Лосеве-писателе должен быть закрыт? Однако такой подход был бы в корне ошибочен. Конечно, как философу Лосеву очень важны те философские идеи, которые нашли выражение в его прозе, но эти идеи в ней даны не как голые схемы, они облечены в художественную плоть. И в философских трудах Лосев стремился к выражению не только «интимного, но и просто жизненного», потому что хотел строить «философию не абстрактных форм, а жизненных явлений бытия» (Ж, 401). Понятно, что для выражения интимного и жизненного проза давала гораздо больший простор. Вот почему Лосев в обращении к прозе видит и «такой акт, на котором в дальнейшем я предполагаю развить и "акт силы"» (Я, II, 153). Под этим «актом силы» Лосев имеет в виду выработку, а вернее усовершенствование именно литературного стиля. Лосевская проза - это не акт отчаянья, неверия или отказа от философии, хотя автор после ареста 1930 г. и лагеря уже не имел реальной возможности заниматься философией, хотя он и мучился вопросом, что такое философия, о чем свидетельствуют его письма к А.А. Мейеру . Однако и в лагере Лосев чувствует «кипение духовных и душевных сил и напор к работе, к творчеству» (Ж, 377). Он сознает себя не только «мастером своей науки», но и «писателем, ведущим за собой общество» (Ж, 399). Жалуясь на невозможность записать задуманные сюжеты, он в письме из лагеря от 30 июня 1932 г. утверждает, что «если бы все это было записано, то получились бы не только законченные литературные образцы, но это было бы базой для дальнейшей литературной эволюции и для прогресса в выработке собственных оригинальных приемов и стиля» (Ж, 410). Недаром в письмах из лагеря Лосев ставит писательство на первое место, а на второе собственно философию, когда пишет жене 19 февраля 1932 г.: «Родная, я - писатель и не могу быть без литературной работы; и я - мыслитель и не могу жить без мысли и без умственного творчества» (Ж, 377). Для нас в этом признании важно то, что он и до непосредственного обращения к литературному творчеству, до создания беллетристических произведений, будучи еще автором только философских трудов 20-х гг., уже сознает себя именно писателем. «Векторы нравственных и религиозных исканий философии и литературы пересекались неоднократно, начиная еще с классического XIX века. А с начала XX века, в период религиозно-философского подъема, их взаимосвязь стала особенно очевидной. И если ранее русская литература был только почвой, на которой возрастала собственно философская мысль, то теперь она сама уже нередко питалась идеями и по ниманиями последней», - справедливо пишут авторы коллективной монографии «Философский контекст русской литературы 1920-1930-х годов»29.
В русской культуре и в XIX в., и в начале XX в. философская мысль теснейшим образом связана с литературой °, отчего философские труды очень часто читаются именно как хорошее литературное произведение. Унаследовал эту традицию и такой систематик, такой любитель строгих логических построений как Лосев. И в философских работах Лосева возможно вычленить фрагменты, вполне отвечающие литературному канону. Эти разрозненные фрагменты, растворенные в массивах его философских трудов, не просто отдельные, случайные вкрапления. Они - элементы единой картины мира. Собрав эти разрозненные пассажи вместе, как мозаику, можно восстановить эту картину в ее целостности.
Исследование не только собственно литературного наследия Лосева, но и внимание к его научным трудам, поиск в них художественно-выразительных элементов, выявление общих для литературного и научного творчества образов, тем, приемов, вполне отвечает особому интересу современной науки к вопросу о литературном значении текстов, изначально не претендовавших на литературное значение. Если, в середине 30-х гг. один из классиков интеллектуальной истории, американский философ и историк А.О. Лавджой в книге «Великая цепь бытия. Исследование истории идей»31, заговорил о необходимости включить в историю идей и историю литературы, то в наше время зачинатель «лингвистического поворота» в исторической науке X. Уайт в книге «Фигуральный реализм: исследования эффекта мимесиса» доказывает, что к историческому тексту можно применять литературоведческие методы (первая глава книги так и названа «Теория литературы и исторические сочинения»), выявлять в них тропы и иносказания, роль которых отнюдь не сводится к чисто стилистической, т.к. тропы всегда связаны с определенными жанрами, в результате чего исторический текст приобретает дополнительную беллетристическую составляющую. Представители новой интеллектуальной истории подчеркивают общность литературы и истории как разных типов письма, отличающиеся только целью, жанром и характером дискурса. «Отсюда и преимущественное внимание новых интеллектуальных историков к историческому нарративу - к языку, структуре, содержанию текста», когда «ставится задача выявить структуру исторического нарратива, жанровые свойства, типы и особенности исторического дискурса, культурный контекст»33, т.е. задачи,
выходящие за рамки традиционной истории и приближающиеся к задачам сугубо литературоведческим. Сходный процесс происходит и в исследованиях по классической филологии. Античные исторические сочинения с их литературной стороны рассматривались филологами-классиками еще в XIX столетии34. Современные исследователи выявляют различные приемы изображения исторических персонажей, структуру нар-ратива, писательское мастерство историка 5. Попытки обратиться с этих же позиций к философии, определяя не только модели, способствовавшие становлению той или иной философской системы , но и чисто литературные особенности, приметы внутренней связанности различных текстов, создававшихся автором на протяжении десятилетий, исследователи русской словесности пока, насколько нам известно, только начали предпринимать37.
При этом однако надо сказать, что Лосев вполне четко разделяет философию как науку от философской художественной прозы. В книге «Очерки античного символизма и мифологии» он писал: «Можно, например, много философствовать о любви, и, несомненно, этой философии безусловно нечто соответствует в реальной действительности. Но можно вместо этого философского анализа просто написать роман, повесть или стихотворение с любовным содержанием. В романе может быть очень много философического. Но роман все же не есть философия, даже если он содержит философские мысли и созерцания. И все дело в том, что система романа или стихотворения есть поэтическая система, а система философии - логическая. ... не есть философия романы Достоевского и Толстого и музыкальные драмы Р. Вагнера, хотя в них, быть может, и больше философии, чем в иных логических "системах философии"» (О, 671-672). Лосевская философия, с такой точки зрения, может рассматриваться как философский претекст его прозы, как один из источников его художественной системы.
Рассматривать лосевскую философию как исток, а вернее как претекст его прозы позволяет, с одной стороны, то, что она действительно с хронологической точки зрения создавалась до его беллетристики, причем сам автор говорил о своем чисто философском творчестве именно как о писательстве. С другой стороны, видеть в лосевской философии претекст и исток его прозы можно и потому, что в прозе разрабатываются многие идеи, которые впервые были сформулированы именно в философских трудах. Недаром Лосев использует в прозе можно найти и прямые автоцитаты из философских работ 20-х годов и многие художественные образы, обыгранные впервые именно в философских сочинениях.
Если художественность - это качество одного произведения или части произведения, то, как пишет И.Б. Роднянская в статье «Художественность» («Литературная энциклопедия терминов и понятий», М., 2001), художественный мир - это индивидуальный и целостный мир писателя, выстраиваемый всем его творчеством с помощью тех или иных художественных средств, это мир, освоенный в единой смысловой перспективе художественной идеи, который воспринимается как внутренне неделимый. Если для того, чтобы определить художественно произведение или нет требуется эстетическое чувство, то для описания художественного мира писателя необходимо учитывать и особенности его художественного метода, направления, стиля, предпочтение им того или иного жанра, той или иной литературной традиции.
Лосевская проза, несомненно, имеет не только философские, но и литературные корни. Лосевская «потаенная» беллетристика должна быть изучена не только как самостоятельный феномен, но и вписана в определенную систему литературных координат. В книге «О художественных мирах» С.Г. Бочаров совершенно справедливо писал: «Авторский мир большого писателя и является самой реальной основой живой истории литературы. Из взаимодействий и связей этих ярко индивидуальных миров и слагается прежде всего реальная история литературы. Литература, ее история - это зовы и отклики от произведения к произведению, от художника к художнику, это творческие задачи, переходящие от одного из них к другому, это прорастания и со 38 зревания у наследников этих задач посеянного предшественниками» .
Вопрос об отношении Лосева к русской литературе правомерен и требует изучения. Лосев как писатель внутренне связан и с русской классической литературой, и с литературой начала XX века. Так как исследование этой проблемы предпринимается впервые, то, стремясь выявить те или иные общие закономерности, нельзя пренебрегать и частными сближениями, подтверждающими основные тенденции творческого процесса. В то же время изучение вопроса о роли в лосевской прозе традиции русской классики XIX в. и современной ему литературы XX в. невозможно ограничить исследованием только самих художественных текстов Лосева.
Говоря о традициях в лосевском творчестве необходимо иметь в виду, что Лосев с юности живет в мире книг, его основной образ поведения в юности - чтение, причем читает он не только научную, философскую литературу, но и русских классиков и современных ему писателей и поэтов конца XIX - начала XX веков. В юношеские годы закладывается тот фундамент, который ляжет в основу дальнейшей научной и литературной деятельности Лосева. Представить литературное чтение и литературные пристрастия юношеской поры позволяют его юношеские дневники и сочинения, переписка с О. Позднеевой, где немало ссылок и цитат из произведений любимых авторов.
Очертить круг важнейших для Лосева авторов русской классики помогает и обращение к лосевским трудам как философским, так и посвященным теории художественного стиля. Автор часто апеллирует к знаковым для него именам русских классиков, причем делает это не только в таких работах как «Проблема символа и реалистическое искусство», «Теория художественного стиля», «Эстетика природы», но и в «восьмикнижии» двадцатых годов и, например, в «Истории античной эстетики», создававшейся в последний период творчества.
Важный материал для понимания отношения Лосева к русской литературе дают и лосевские воспоминания, его беседы, интервью последних лет жизни.
Возможно два пути исследования традиций в лосевском творчестве. Первый путь - по персоналиям, переходя последовательно от одной вершины русской классики к другой - от Пушкина к Лермонтову, от Достоевского к Толстому и т.д., стремясь очертить отношение Лосева к своим предшественникам и определить меру воздействия их литературного наследия на его творчество. Второй путь - это обращение к центральным для лосевской прозы проблемам и выявление их внутренней связи с той или иной литературной традицией. Хотя первый путь имеет свои положительные стороны, позволяя детальнее, «эпичнее», остановиться на лосевском отношении к тому или иному из русских классиков или современников, он, на наш взгляд, менее удобен для исследования, нежели второй. Последний, хотя и страдает фрагментарностью, и не претендует на исчерпывающее освещение вопроса об отношении Лосева к той или иной литературной традиции, тем не мене своей динамичностью и «синхронностью» в большей степени отвечает внутренним законам лосевского творчества, где различные традиции не существуют отдельно, сами по себе, но сталкиваются или объединяются автором в единое целое в зависимости от стоящей перед ним художественной задачи. Руководствуясь этим методом, мы, однако, при необходимости будем прибе гать и к первому, «диахроническому». При этом мы будем очень часто сопоставлять взгляды Лосева на русскую литературу со взглядами Вл. Соловьева39. Это обусловлено не только тем, что лосевские суждения о русской литературе часто встречаются именно в книге о Вл. Соловьеве, посвященной истории русской культуры и философской мысли России второй половины XIX столетия. Дело в том, что Вл. Соловьев был первым и любимым учителем Лосева и как философ, и как автор литературно-критических статей, которые привлекали внимание Лосева еще с гимназических лет. Таким образом, соловьевский взгляд на русскую классическую литературу во многом предопределил и лосевскую позицию, хотя это отнюдь не означает, что точки зрения учителя и ученика полностью и абсолютно совпадают. Однако не учитывать этот «соловьевский аспект» восприятия Лосевым классического литературного наследия было бы в корне неверно.
Цель настоящей работы дать систематическое описание основных этапов формирования Лосева-писателя - от первых опытов литературной рефлексии до позднейших, относящихся к 80-м гг. XX столетия, осмыслить художественный мир прозы Лосева в его целостности, проанализировать весь корпус его художественных текстов с точки зрения того, как в нем преломились и философско-эстетические воззрения самого автора, и различные литературные традиции в их динамике и взаимодействии. Предлагаемый анализ призван показать органическое единство философского, художественного, эпистолярного наследия Лосева, то, что оно основывается на одних и тех же устойчивых образах, что «ранний» и «поздний» Лосев - это отнюдь не «два разных мыслителя»40, как представляется на первый взгляд. Понятно, что целостную картину творчества писателя можно дать, только если мы, во-первых, дадим периодизацию творчества писателя, во-вторых, проведем анализ его произведений и, в-третьих, определим место самого писателя в литературном процессе, его отношение к наследию предшественников и современников, то есть к литературным традициям.
Эти задачи определили характер, структуру и содержание работы, в которой предусматривается Введение, три главы, Заключение и Список использованной литературы.
В первой главе дается систематическое описание четырех периодов творческой биографии Лосева-писателя. В философских работах Лосева вычленяются фрагменты лирические отступления, биографические, исповедальные мотивы; портреты, встав ные новеллы, риторические приемы и т.д. Показывается, что органическое единство художественного, философско-публицистического творчества Лосева основывается на одних и тех же устойчивых образах. Это в полной мере относится и к эпистолярному наследию Лосева 30-х гг. (лагерные письма, письма из провинции). В главе прослеживается, как реальные жизненные впечатления, зафиксированные в юношеских письмах и дневниках, воплощаются в художественные образы, уточняются на основе хранящихся в личном архиве Лосева рукописей, писем и других документальных материалов датировки лосевских повестей и рассказов, освещается вопросе о возможных прототипах лосевских героев.
Лосевская поэтика является предметом анализа во второй главе работы. Здесь исследуются основные темы, сюжетные линии лосевской прозы, жанровая структура, система персонажей, концепция личности, стилистические принципы писателя, обусловленные его мироощущением, присущей ему индивидуальной «картиной мира», философско-религиозными и социально-историческими воззрениями. Показывается, что своеобразная символико-метафорическая и обобщенно-философская образность составляют специфику реалистического стиля писателя. Лосевская проза стремится к тому, чтобы не только запечатлеть те или иные факты, но и дать «мифический рельеф», выявить связь реального с вневременным, вечным. «Перевод» философско-социальных образов на язык искусства свидетельствует о мастерстве писателя, персонажи которого, становясь рупорами тех или иных философских взглядов и жизненных установок, нисколько не теряют в своей психологической обрисовке. Трагическое видение мира не исключает в лосевской прозе комедийных эпизодов, фарсовых элементов, пародий, для создания которых автор часто прибегает и к риторическим приемам, склонность к которым проявлялась уже в начале его творческого пути. Большую роль играют в арсенале Лосева-сатирика пародия, сатирическое саморазоблачение персонажа, парадоксальное совмещение разных языковых пластов, когда высокое сталкивается с газетными клише или лагерным жаргоном. Язык лосевской прозы то насквозь эстетизирован, полон пафоса и риторики, то предельно снижен с расчетом на эпатаж.
Третья глава посвящена изучению традиций в лосевской прозе. В сферу исследования вовлекаются не только художественные произведения, но и лосевские суждения по этой проблеме, высказанные в научных работах, письмах, воспоминаниях, интервью. В литературном процессе XX столетия русская классика играет роль некоего катализатора - она и основа, и материал, и точка отсчета, и предмет неустанного спора41. Проза А.Ф. Лосева не является в данном случае исключением. В лосевской прозе влияние русской классики и литературы начала XX в. отнюдь не сводится к тем или иным цитатам или аллюзиям. Лосев по-своему разрабатывает темы смысла жизни, лишнего человека и маленького человека, философского убийства, родины и жертвы. Основываясь на литературных традициях XIX века, Лосев отнюдь не оказался в числе литераторов-архаистов или тем более эпигонов. Его проза, рождавшаяся как бы вне рамок общего литературного процесса, тем не менее вполне отвечает определенным тенденциям русской литературы XX столетия. Тяготение к символическому реализму, к духовному реализму, базирующемуся на идеях христианского реализма и персонализма, обусловливает апокалиптизм лосевского творчества, наличие в нем антиутопических тенденций. Опираясь на классическую традицию, Лосев создает произведения в духе не только характерной для его эпохи «философии кризиса» с ее критикой цивилизации, эсхатологическими ощущениями и антиутопическими устремлениями4 , но и современной ему «потаенной» литературы, вроде социальных антиутопий А. Платонова или реалистических мистерий М. Булгакова. Лосевская интеллектуальная, философско-музыкальная проза, как показывает анализ, представляет собой христианскую экзистенциальную антиутопию, поднимающую важнейшие экзистенциальные проблемы: свободы и выбора, существования в условиях пограничной ситуации, осмысленности или абсурдности бытия человека в мире, социально-исторические и эстетические предпосылки его стремления к существованию в мире без Бога.
Проделанный анализ позволяет нам рассматривать Лосева как одного из писателей, принадлежащих к постсимволизму, а точнее к такому его направлению как неотрадиционализм. Таким образом, исследование лосевского прозаического наследия приобретает теоретическое значение, т.к. осмысление постсимволизма и его разновидностей является одной из актуальных задач сегодняшней теории литературы, а не только истории литературы XX столетия.
Первый период. 1910-е годы
Творческая биография Лосева охватывает обширный временной отрезок. При всей условности всякой периодизации и взаимопроницаемости границ периодов, можно выделить, по крайней мере, четыре основных этапа: 1) десятые годы начала XX века - период формирования эстетических, научных, литературных вкусов; 2) двадцатые годы - период создания Лосевым его знаменитого философского «восьми-книжия»; 3) тридцатые - сороковые годы - эпоха «подполья», когда обреченный на философское молчание, автор непосредственно обращается к литературному творчеству; 4) пятидесятые - восьмидесятые годы - время создания главного труда последних лет жизни - «Истории античной эстетики». Остановимся на каждом из намеченных нами периодов.
Первый период. 1910-е годы
Детство и юность Лосева прошли в Новочеркасске43. Именно тут, в доме матери, Натальи Алексеевны Поляковой, дочери настоятеля храма Михаила Архангела, сформировалось его религиозное мироощущение; тут в гимназии зародилось увлечение литературой, наукой и древними языками; тут впервые приобщился к искусству -драматическому (в местном театре) и музыкальному (в школе итальянца Ф. Стаджи, по классу скрипки). Любовь к музыке Лосев унаследовал от отца, хотя Федор Петрович оставил семью, когда сыну едва исполнилось три месяца. Лосев вспоминал: « ... полубогемная стихия отца столкнулась со строгими и моральными установками матери, с ее полной погруженностью в старый устойчивый быт и в этом смысле с бытовым и общественным консерватизмом. Так эти две стихии и остались во мне на всю жизнь, переплетаясь и смешиваясь самым причудливым образом» (Я, II, 523).
Огромное влияние на юношу оказало пристрастие к театру. Сам Лосев подчеркивал: «Я получил большое образование именно в театре, и почти все произведения мировой драматургии, особенно Шекспира, Шиллера, А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, узнал и полюбил через театральные постановки».44 «"Разбойники", "Коварство и любовь", "Дон Карлос", "Орлеанская дева", оттуда идет мое увлечение трагедией. С тех пор я и полюбил ее и в литературе и в театре»45, - говорил он в одном из интервью. В Новочеркасском театре не только ставились спектакли. Здесь выступали приезжавшие из столицы с лекциями известные философы и литераторы, например, Ф. Степун и Ю. Айхенвальд. «Я страшно жалел, - сокрушался и на старости лет Лосев о погибшем во время пожара 1914 г. театре, - для меня и моих сверстников это было святилище, там я постигал науку художественных прозрений»46.
Любовью к литературе юноша был обязан и учителю русского языка Новочеркасской классической гимназии Ф.К. Фролову. Как вспоминал Лосев, Ф.К. Фролов очень ценил его, чувствовал у своего ученика «тягу к философии» и «давал интересные темы для самостоятельной проработки»47. Характеру юноши, совмещавшему в себя две разноплановые родительские «стихии», вполне соответствовало то, что в гимназии, наряду с классической (Данте, Шекспир, Гете, Шиллер, немецкие романтики, русская классика, включая Достоевского и Чехова), процветала и новая символи да стекая литература (Ибсен, Метерлинк, русские поэты-символисты, Л. Андреев) .
Знакомство Лосева с философской литературой началось по журналам для юношества. Сначала он увлекся французским астрономом и беллетристом К. Фламмарионом. Полные идеальных устремлений романы К Фламмариона приучили молодого человека к «возвышенному и очень широкому»49 образу мышления. Если К. Фламмарион открыл ему астрономическое небо, которое стало «тем первым образом бесконечности, за которым не замедлили появиться и другие» (Я, II, 525), то другим учителем Лосева, показавшим диалектику бесконечного и конечного, стал Вл. Соловьев. Учение Соловьева о всеединстве оказалось наиболее близко его собственному мироощущению: «Ведь я был религиозен, очень любил искусство и пробовал себя как скрипач-исполнитель...»50 Под влиянием Вл. Соловьева летом 1911 г., накануне поступления в Московский университет, Лосев задумывает большую работу - «Высший синтез как счастье и веденье», набрасывает ее план и пишет ряд глав. Он вообще очень любит писать. Еще учеником он, по собственным словам, не только начал уже философствовать «с четвертого, а особенно с пятого класса», но и «писал здорово сочинения»51.
В архиве Лосева сохранились тетради с сочинениями, главным образом, за 1907-1910 гг.: «Характеристика Остапа (Повесть Гоголя "Тарас Бульба")», «Романтические идеи в элегиях и балладах Жуковского»52, «"Сельское кладбище" как романтическое произведение»53, «Стихотворение Батюшкова "Умирающий Тасс"», «Значение Ломоносова в истории русской литературы»54, «О народности Пушкина», «Г.С. Сковорода в истории русской культуры», «Домостроевские черты в жизни помещиков в "Семейной хронике" Аксакова», «Крепостное право по "Запискам охотника" Тургенева».
Особое внимание стоит обратить на сочинения о Жуковском и на написанные сверх программы работы «Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь», «Значение наук и искусств в диссертации Руссо "О влиянии наук на нравы"»56. Жуковский - поэт, наиболее близкий сердцу гимназиста Лосева. Восприятие романтизма будет меняться у Лосева в течение жизни, но и новый взгляд на романтизм как на проявление индивидуалистического бунта против Абсолюта не изменит ни отношения к поэзии Жуковского, ни выработавшегося под влиянием Жуковского собственного «христианско-романтического идеализма», который для Лосева в итоге окажется не чем иным, как подлинным духовным реализмом.
В работе об атеизме 1909 года можно выявить зерно будущих идей, нашедших затем воплощение и в философских, и в литературных сочинениях. Гимназист Лосев со страстной убежденностью призывает к борьбе с атеизмом как со злом, наложившим на «теплые и любящие сердца .. . печать железного механизма», попытавшимся отнять у них веру в то, что «будет новая земля и новый совершенный человек». Юный Лосев уверен, что без Бога, человеческая жизнь превращается в «дикую борьбу всех против всех» , в служение «естественным законам», которое в итоге приводит к трагедии, «заявит себя ужасами злодейства», потому что «в атеистическом принципе личной свободы и удовольствия злодейство всегда найдет себе оправдание»5 . В рассказе «Жизнь», написанном в 40-е гг., эти юношеские рассуждения станут достоянием главного героя - ищущего смысла жизни Алеши. В работе об атеизме даны в зародыше и основные лосевские стилистические приемы: риторические вопросы, разрывающие изложение («Но если все загадки решены, все тайны открыты, то к чему же наука?», «К чему же в конце концов это ведет?», «Где здесь правда?»), рассуждения от лица противника («Если я беден, то я буду тянуть с своего соседа последние соки до тех пор, пока это будет возможно. И я буду прав: ведь я же исполняю естественные законы...»), неожиданный в научном тексте лиризм («над этой новой землей возвысится свод лазурного светлого неба и Солнце любви осветит дыханьем божественной правды»), афористичность («Лучше заблуждаться бессознательно, чем сознательно совершать великие ошибки»). Кстати, афоризмы были и в сочинении Лосева об элегиях и балладах Жуковского, например: «Литература есть зеркало жизни, но зеркало дорогое, ибо жизнь уходит, а литература остается»60.
Поэтика заглавий. Сюжеты. Жанр воспоминаний. Авантюрный сюжет и авантюрное время
Лосевская проза 30-40-х гг. дошла не полностью (судя по авторской нумерации произведений) и с различными дефектами, потому что архив писателя пострадал в бомбежку 1941 г. Отсюда утрата отдельных страниц или отсутствие авторских заголовков. Все это создает некоторые трудности при анализе, когда возникает вопрос о поэтике заглавий. А не встать он не может, т.к. заглавие, по словам С.Д. Кржижановского, является «кратчайшим из кратких рассказов о книге» . Из тринадцати текстов четыре («Мне было 19 лет», «Седьмая симфония», «Встреча», «Епишка») получили название в 90-е гг., при публикации. Тем не менее общие закономерности можно выявить и на основе оставшихся девяти. Можно выделить, по крайней мере, четыре функции, которые берет на себя заглавие у Лосева.
Во-первых, заглавие может указывать на главного героя, причем указывать, так сказать, «эвфемистически», так как в название произведения выносится не имя персонажа, а скорее та сюжетная функция, которую он выполняет, или та идея, которую он олицетворяет. Отсюда символически-иносказательное заглавие повести «Метеор», где главная героиня Елена Дориак, внезапно появившаяся в жизни героя и тут же исчезнувшая, уподобляется неожиданно промчавшемуся по небу метеору. Или заглавия указывающие на героя как на выразителя определенной идеи-страсти: любовь-ненависть к театру главного героя Петьки в «Театрале»; конфликт двух разноприрод-ных начал - мысли и пола - в судьбе Марии Радиной, главной героини романа «Женщина-мыслитель». Последним двум присуща, хотя и не сразу ощутимая авторекая ироническая оценка, т.к. ход событий и в рассказе, и в романе ставит под сомнение основное «качество» героя - любовь к театру театрала Петьки, способность сочетать в себе женщину и мыслителя гениальной Радиной.
Во-вторых, заглавие может указывать и на сюжет, и на место действия. Так, рассказ «Из разговоров на Беломорстрое» воспроизводит один из разговоров канало-армейцев - строителей Беломорско-Балтийского канала. Другой рассказ получает заглавие «Жизнь» потому, что в нем не только дается изображение поисков смысла своего бытия главным героем Алешей, но и потому что сама жизнь героя, в которой эти поиски и осуществляются оказывается не столько временем, сколько «местом действия» рассказа.
В-третьих, заглавие может указывать на литературный или на музыкальный образец, играющий стержневую роль в сюжете. Так, заглавие «Переписка в комнате» призвано актуализировать в памяти читателя «Переписку из двух углов» Вяч. Иванова и М.О. Гершензона, по аналогии с которой создается текст. Заглавие «Трио Чайковского» также должно напомнить читателю о трио П.И. Чайковского «Памяти великого артиста», которое героиня повести исполнит в один из кульминационных моментов. Заглавие подчеркивает и то, что трио «Памяти великого артиста» играет в повести роль «музыкальной программы». Возникает некая «зеркальная» аналогия, т.к. подобная «программность» обычно характерна для музыкального искусства - для симфонической музыки, где роль программы играет избранный композитором литературный текст. Такая, пусть и не прямая «цитатность» заглавия, отсылает читателя к источнику заимствования, к «первичной модели», что не исключает однако внутренней полемики с первоисточником.
В-четвертых, заглавие может совмещать в себе указание и на сюжет, и на образец. Однако таким образцом оказывается отнюдь не реальное произведение, как это было в «Переписке в комнате» или в «Трио Чайковского». Образцом заглавия становится вымышленное литературное произведение, обнаружение и чтение которого ложится в основу сюжета (повесть получает заглавие «Завещание о любви» по заглавию рукописи, найденной после смерти ее автора - бухгалтера Орлова). К такому типу заглавия можно отнести и тот случай, когда заглавием становится поговорка, вмещающая в себя в концентрированном виде весь сюжет и одновременно задающая стилистический тон повествования, как в рассказе «Вранье сильнее смерти». В этом рассказе, выполненном в соответствии с заглавием в стиле народного примитива, «лубка», вранье является основной причиной смерти главного героя Петьки.
Как очевидно, лосевские заглавия относятся к заглавиям «поскриптного типа», которые «как бы спрятаны за двигающимися сквозь сознание читателя страницами текста и лишь с последними его словами делаются понятным и нужным, получают логическую наглядность, которая до того ощущалась неполно или вовсе не ощущалась»256. Так, только по прочтении рассказа «Театрал» или романа «Женщина-мыслитель» можно осознать иронический смысл, вложенный автором в заглавие. Очевидно и то, что Лосев не склонен давать произведениям развернутые заглавия. Его заглавия не только «поскриптного типа», но они, если и далее использовать терминологию С.Д. Кржижановского, являются «полузаглавиями» - заглавиями, лишенными предиката. Такое «отсечение предиката делает заглавие неподвижным, статичным» , тем не менее полузаглавие оставляет читателям возможность дальнейшей самостоятельной разработки темы и, будучи логически незавершенным, «может производить впечатление законченности и внутренней полноты» .
Символический реализм
Очевидная внешняя ориентация на документальность, закрепленная формально в виде «воспоминания», внутренне поддерживается подлинным документализмом -автобиографическими элементами, событиями действительно пережитыми автором. Таких чисто автобиографических протосюжетов или сюжетных линий можно вычленить большое число. На некоторые мы уже указывали в первой главе. Любовь к театру героя «Театрала» - реальный факт лосевской юношеской биографии, а изображение пожара - след пережитых в раннем детстве впечатлений от пожаров в Новочеркасске, а также сгоревшего там театра. Встреча героя с гениальной артисткой - отражение реального увлечения автора исполнительским мастерством А.В. Неждановой и М.В. Юдиной. Пребывание героя повести «Встреча» или рассказа «Из разговоров на Беломорстрое» в заключении на строительстве Беломорско-Балтийского канала -также след пребывания там самого автора. Изображение в рассказе «Жизнь» пути героя из Полтавы в Москву в начале Великой Отечественной войны - реальный эпизод из биографии Лосева, преподававшего в это время в Полтаве. Подробных примеров можно привести еще немало.
В таком контексте неудивительно, что прототипом главного героя прозы - Николая Вершинина - становится сам автор. Автобиографический фон способствует углублению психологизма при изображении героя. Однако автор выражает свою позицию не только через Вершинина. Он заставляет и других персонажей размышлять о волнующих его вопросах - о жизни и смысле творчества, о судьбе обыкновенного человека или человека искусства, - вкладывая в их уста пространные философские рассуждения, часто выполняющие ту функцию, которую в философских сочинениях 20-х гг. брали на себя лирические отступления . Отсюда особая эмоциональная окрашенность и страстность таких монологов и диалогов. В то же время введение образа героя-рассказчика, которому и принадлежит роль мемуариста, позволяет автору отстраниться и от хода событий, и от самого героя, оставить за собой право на иронию и по отношению к герою, и ко всему происходящему. Вот почему он категорически возражает против любых попыток «приписать слова и поступки действующих лиц самому автору» (Я, II, 143). Если автор и прототип героя, то воспоминания и исповедь героя - это отнюдь не авторская автобиография-исповедь.
Ориентация на жанр исповеди-воспоминания способствует формированию особого, биографического типа времени, т.к. описывается или целая жизнь героя, или какой-либо важнейший ее эпизод. Отсюда линейное развитие событий, которые даже при внешнем нарушении последовательности (как, например, в «Театрале», где хронологически встреча с опустившимся Петькой предшествует истории его духовного падения) в итоге выстраиваются в соответствии с хронологией, заданной самой биографией главного героя. Это оказывает влияние и на композицию произведений, тяготеющих к форме рассказа в рассказе, когда факт воспоминаний образует своего рода кольцевую рамку, обрамляющую линейно расположенные единицы изображения.
Сказывается и собственный опыт ведения дневников: например, в романе «Женщина-мыслитель», исповедальность тона, его мемуарность и автобиографичность сочетаются с присущей дневнику фактографической «репортажностью», требующей точной фиксации дат и развертывания событий в строго хронологической последовательности. Невозможность вести личный дневник, который мог восприниматься «по большей части как потенциальное вещественное доказательство при следствии»282, не отменяет, а напротив способствует «дневникости» лосевской прозы.
Однако личное, биографическое время в соответствии с основным авторским принципом символического реализма - это не просто способ фиксации определенных вех в жизни героя. В лосевской прозе частное и личное время жизни теряет свою субъективность и относительность, зеркально отражая в субъективном и относительном вечное или историческое.
Смысл жизни
Так как авантюрный сюжет, по словам М.М. Бахтина, всегда опирается на то, «что с точки зрения всякой уже наличной действительности не предрешено и неожиданно»264, он легко может совмещаться с различного вида сказочными или фантастическими событиями, что и происходит в лосевских повестях и рассказах. Отсюда превращение «в холодного и гадкого спрута, несущего свое мягкое, холодное и осклизлое тело» (Я, I, 85) героя рассказа «Театрал» или превращение в волчицу певицы Потоцкой во время танцев в зале Благородного Собрания в рассказе «Мне было 19 лет» (Я, I, 59).
Придавая рассказам и повестям форму воспоминаний, подчеркивая, что речь идет не о чем-то вымышленном, а о реально бывшем, минувшем, автор усиливает их документальный характер, так что даже фантастическое в его прозе «документализи-руется», отчего рассказы и повести приобретают в итоге характер особого, уже не фантастического265, а магического реализма, который позволяет совмещать интеллектуальное с гротескным, детективное с мифическим, фантастическое с антиутопиче-ским . Хотя термин «магический реализм», устоявшийся в нашем литературоведении, возник именно в 20-е гг. XX в., когда создавалось «восьмикнижие» и зарождались сюжеты лосевской прозы, его изначальная связь с сюрреализмом все-таки заставляет нас отказаться от его использования. Исходя из лосевских философских установок, логичнее утверждать, что метод Лосева-писателя ближе к символическому реализму, или реалистическому символизму, теоретическое осмысление которого в начале XX в. дал Вяч. Иванов в работе «Две стихии в современном символизме».
Под реализмом Вяч. Иванов понимает «верность вещам, каковы они суть в явлении и в существе своем», в отличие от другого метода, который он называет идеализмом и который есть «утверждение творческой свободы в комбинации элементов, данных в опыте художнического наблюдения и ясновидения, и правило верности не вещам, а постулатам личного эстетического мировосприятия» . Если такой идеализм в искусстве стал утверждаться с эпохи Возрождения, то реалистический символизм ведет происхождение «от мистического реализма средних веков через посредст-во романтизма и при участии символизма Гете» . По Вяч. Иванову романтизм - это только «один из видов многообразного реализма», потому что романтик ищет «внутреннюю реальность вещей»269. С такой точки зрения, для Вяч. Иванова романтик Гофман оказывается реалистом, а реалист Достоевский - романтиком. Как признается Вяч. Иванов, под реалистическим символизмом он понимает то, что Ф.М. Достоевский называл «реализмом в высшем смысле»270. Таким реализмом искусство становится с того момента, когда начинает вести «мистическое исследование скрытой правды о вещах, откровение о вещах более вещных, чем самые вещи», так как «всякая вещь ... есть уже символ тем более глубокий, ... чем прямее и ближе причастие этой вещи реальности абсолютной»271. Поэтому задачей реалистического символизма становится «непосредственное постижение сокровенной жизни сущего», познание «истинной реальности вещей, realia in rebus» .
По Вяч. Иванову реалистическое начало осуществляет себя в реалистическом символизме и как эстетическая норма, и как гносеологическая основа миросозерцания. Поэтому реалистический символизм всегда «несет в себе религиозное да внутреннего зрения и воления, - скрытое утверждение истинного бытия в бытии относи тельном» . Отсюда его принцип совмещения объективного и мистического, стремление раскрыть через символ миф, потому что миф есть не что иное, как «объективная правда о сущем»274. В то же время символический реализм оказывается открове нием того, что автор «видит как реальное, в кристалле низшей реальности» .
В противоположность религиозно насыщенному реалистическому искусству символизма декадентство начало XX в. есть искусство идеализма (в ивановском понимании этого термина), в котором «соединение символизма с атеизмом обрекает личность на вынужденное уединение среди бесконечно зияющих вокруг нее провалов в ужас небытия» . В результате этого «эмпирическая действительность, изначала воспринятая безрелигиозно, под реактивом символического метода естественно превращается в мрачный кошмар»277. Поэтому реалистический символизм воспринимается и как противовес атеистическому символизму или субъективистскому идеализму, а само обращение к нему как симптом поворота души современного человека «к иному мировосприятию, реалистическому и психическому в одно и то же время», как «осознание сверхличной и сверхчувственной связи сущего ... в минуту, когда красивый калейдоскоп жизни стал уродливо искажаться, обращаясь в дьявольский мас-карад, и причудливое сновидение переходит в удушающий кошмар» .
Взгляды Вяч. Иванова во многом близки Лосеву. Для него ивановский реалистический символизм есть не что иное, как символический, духовный реализм. В «Диалектике мифа» Лосев писал: «Буквальная картина - плоскостна, не имеет мифического рельефа, не овеяна пророческим трепетом, не уходит своими корнями в непознаваемую бездну и мглу судеб Божиих» (Д, 221). Вот почему «образы должны быть буквальны в символическом смысле» и должны потерять «характер голого знания», должны стать «мистерией веры», когда «понимая их подлинный смысл, мы не знаем, как они будут осуществляться, но мы верим, что то, что осуществится, будет иметь буквально именно этот смысл, а не иной», отчего «толкования должны ограничиться установлением точного смысла событий, а не их фактического протекания» (Д, 221). Речь здесь идет о методе толковании Апокалипсиса, но принцип, которым руководствуется автор, может быть применен и к его собственному творчеству.
Лосевская проза стремится не только запечатлеть «фактическое протекание», дать «буквальную картину» происходящего, но и дать «мифический рельеф», выявить связь реального с судьбами вечного, с теми пророчествами или, другими словами, с теми вечными сюжетами, которые заложены в «непознаваемой бездне и мгле судеб Божиих». Сюжеты-пророчества, которые Лосев видит в Апокалипсисе: «всеобщее отступление, казни и гнев Божий, Антихрист, его победы и поражения, воскрешение мертвых, Страшный Суд» (Д, 221), это как раз тот «мифический рельеф» его прозы, который придает плоскостной картине повествования о реальных событиях жизни ее подлинную глубину.
«Документализация» фантастического связана со стремлением автора увидеть мифологическую сущность происходящего, которая для него по своей природе отнюдь не является чем-либо сказочным или фантастическим, а напротив - последней и единственной реальностью. Он хочет и ищет способа найти «общение со всем подлинным, первоисточным, сокровенным, со всем тайным, глубоким и первообразным, что есть в человеке» (Я, I, 163). В этом отличие лосевского реализма от рационалистических традиций классического реализма XIX в. и близость к тем литературным исканиям «новой адекватности жизни» начала XX в., когда в литературе поиски реального предопределили «стремление уловить за привычной видимостью некоторую подлинную фактуру существования, скрытую постепенно отстоявшимися форма 279 МИ» .
Именно символический реализм позволяет автору совместить «страстную и клокочущую лирику», риторическую «романтическую трагедию» (Я, I, 291) с идеалистически понятым детерминизмом, реальное и ирреальное, рациональное и иррациональное, объективное и субъективное. На этом базируется стремление дать картину, в которой совмещается частное, субъективное переживание жизни с ее глубинным, подпочвенным слоем, существующим объективно и независимо от личных переживаний и частных трагедий.
Подобное возвращение к «двоемирию», присущему обычно романтическому сознанию, но понимаемому здесь как особый символический реализм, отражающий подлинную мифически-магическую модель мира, влечет за собой и воскрешение «романтической» иронии не только как результата «взаимодействия комического с трагическим, возвышенного с обыденным»280, но и как итога взаимодействия идеального с материальным, потому что, по собственному определению Лосева, данному в его «Диалектике художественной формы», в иронии ставится вопрос «о судьбе самого общего и выражаемого», отчего ирония есть одна из форм «выражения мифа» (ДХ, 135, 136).