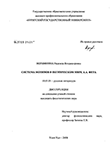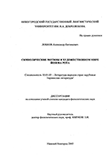Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Хармс как представитель русского авангарда 20-30-х гг 15
Глава вторая. Структурообразующие элементы логики художественного мира Д.И. Хармса 56
Глава третья. Основные мотивы художественного мира Д.И. Хармса 100
1. Сотворение и существование мира 101
2. Существование в мире 110
3. Смерть 139
Заключение .. 149
Список используемой литературы 152
- Хармс как представитель русского авангарда 20-30-х гг
- Структурообразующие элементы логики художественного мира Д.И. Хармса
- Сотворение и существование мира
- Существование в мире
Введение к работе
Возвращенный в «большую» литературу и, как следствие, в историю литературы, Даниил Иванович Хармс (1905-1941) сегодня привлекает к себе все больше и больше внимания. О росте научного интереса к творчеству этого писателя свидетельствует значительное число публикаций, среди которых особенно следует выделить работы А.А. Александрова, Ж.-Ф. Жаккара, В.Н. Сажина, А.Т. Никитаева, В. И. Глоцера, А.Г. Герасимовой, А.А. Кобринско-го, Л.Ф. Кациса, М.Б. Ямпольского, И.В. Кукулина и многих других. Однако перед литературоведами давно встала методологическая задача: каким способом интерпретировать художественный мир Д.И. Хармса (и вообще обэ-риутов-чинарей), заключенный в рамки алогизма, семантического сдвига, игры с литературной традицией, глубокого и подчас неожиданного творческого переосмысления культурных концептов. Эту проблему в исследовании обэ-риутских (и, соответственно, хармсовских) текстов в 1987 году обозначил Л. Флейшман: «Бурное освоение литературного наследия группы «ОБЭРИУ» <...> застигло исследователей врасплох. С одной стороны, перед нами предстал огромный корпус новооткрытых текстов яркого своеобразия, органическое родство которых с поэтическими тенденциями русского авангарда бросалось в глаза. С другой — сразу обозначилась неприложимость выработанных в последние годы (даже на базе авангардистской поэтики) научных средств и приёмов для описания определённой части обэриутского творчества» (159, с. 247—248; 97). И.В. Кукулин определил эту задачу через закономерный вопрос: «что делать с этими текстами и в какой контекст их поместить» (84, с. 8). В приведенных замечаниях следует, помимо методологической проблемы, отметить вопрос о статусе художественных произведений обэриутов и Д.И. Хармса. Дело в том, что более справедливо, очевидно, относиться к ним как к текстам, т.е. как к некоторым специфическим художественным образованиям, в силу своей неординарности не соответствующим привычным конституционным нормам организации художественного произ-
ведения (отсутствие образной системы, чрезвычайно малый объем и т.д.). Филологической науке XX века, как пишет Т.В. Цвигун, свойствен некий «универсалистский» подход, который стремится к обнаружению ряда общих закономерностей, опираясь на которые можно описать любой текст (170, с. 18). Но поэтика Хармса имеет некоторые свойства, которые не укладываются в рамки «нормативной» поэтической модели (170, с. 19), поэтому его тексты не могут быть описаны с помощью этого универсального подхода Если классическая литература в силу большей формальной ясности изучается традиционно на идейно-художественном уровне, то изучению авангардной литературы на этом же уровне должна предшествовать большая «разъяснительная» работа в силу подавляющего преобладания в ней «темных» (по преимуществу, формальных) мест.
История вопроса. Справедливо замечание И.В. Кукулина о том, что «первыми исследователями творчества обэриутско-чинарского круга были сами его участники» (84, с. 6). Действительно, как видно из «Разговоров» Л.С. Липавского, беседы чинарей часто строились вокруг обсуждения собственных произведений. В 1941 году были арестованы Хармс и Введенский. Началась блокада Ленинграда. «В сентябре 1941 года дом Хармса на улице Маяковского подвергся бомбежке, но, к счастью, не был разрушен. Жена Хармса Марина Владимировна Малич сообщила об этом Друскину, и он, несмотря на дистрофию, пешком отправился с Гатчинской (улицы Петроградской стороны) на квартиру своего друга Яков Семенович вместе с Малич собрал все бумаги, которые им удалось найти, сложил в небольшой чемоданчик и отнес домой. Трудно понять, откуда у больного человека могли взяться силы, чтобы проделать дальний путь да еще с грузом» (50, с. 102). История сделала огромный подарок: непонятно, почему при обыске на квартире Хармса не были изъяты его рукописи, а также рукописи А.И. Введенского. Непонятно, как после бомбежки уцелел дом Хармса Непонятно, откуда нашлись силы у истощенного Я.С. Друскина, чтобы спасти архив друзей. До конца 50-х гг. Я.С. Друскин хранил спасенный архив, пока окончательно не узнал о
5 смерти друзей. Я.С. Друскин является одним из первых комментаторов и интерпретаторов творчества обэриутов (упомянем еще и Т. Липавскую). «Со второй половины 1960-х гг. Я Друскин стал знакомить с содержанием архива молодых филологов» (41, с. 44) — М.Б. Мейлаха и А.А. Александрова. М.Б. Мейлах вместе с поэтом В. Эрлем стал редактором первого Собрания произведений Хармса. А.А. Александров опубликовал множество заметок, статей, относящихся к творчеству Хармса.
Первоначально в хармсоведении доминировал «пропедевтический» тон: исследователям в первую очередь было важно познакомить ученый и читательский мир с творчеством писателя. В сложных идеологических условиях откровенно авангардную литературу изучать было трудно и даже опасно. Кроме того, недоступность материалов суживала круг исследователей. К счастью, сегодня эта ситуация радикальным образом меняется. Поэты группы ОБЭРИУ прочно вошли в антологии (110), учебные пособия, школьные учебники. Именно этот поворот в «судьбе» поэтов-обэриутов и заставляет более пристально взглянуть на их творчество, обнаружить, в чем состоит их очарование, рассмотреть их художественное пространство с четких научных позиций. С середины 1980-х годов число исследований творчества обэриут-ско-чинарского круга резко увеличивается, а подлинный взрыв хармсоведе-ния приходится на 90-е гг., что объясняется сменой политической ситуации в России и публикацией творческого наследия Д.И. Хармса.
В первую очередь необходимо упомянуть исследования Ж.-Ф. Жакка-ра, В.Н. Сажина, А.А. Кобринского, А. Герасимовой, В.И. Глоцера, М.Б. Ям-польского, И.В. Кукулина, Л. Кациса, Д.С. Московской, Н.А. Масленковой и др. Работы этих и других исследователей выявляют несколько тенденций, явно обозначившихся в отечественном хармсоведении.
Безусловно, преобладающей тенденцией является обозначение культурного контекста, окружавшего Д.И. Хармса. Наиболее значительными работами здесь следует назвать монографии Ж.-Ф. Жаккара, А.А. Кобринского и М.Б. Ямпольского, а также ряд статей В.Н. Сажина.
Швейцарский славист Ж.-Ф. Жаккар в своей монографии прослеживает влияние отечественного футуризма (В. Хлебников, А. Крученых, А. Туфа-нов) и авангардной живописи (М. Матюшин, К. Малевич) на формирование поэтики Д.И. Хармса. Пожалуй, самым замечательным в работе является показ той интеллектуальной и духовной атмосферы (философское творчество Л. Липавского и Я. Друскина, эстетика футуризма и авангарда живописи и т.д.), в которой творил Хармс.
Однако швейцарский ученый рассматривает эстетику Д. Хармса с позиции упадка русского авангарда, что, на наш взгляд, неверно, особенно если учесть факт значительного влияния поэтики Д.И. Хармса на последующие периоды отечественного авангарда (84, с. 7). Подобная позиция Ж.-Ф. Жак-кара не могла не сказаться на результатах исследования, что проявилось, в частности, в неверном решении проблемы форсированного прерывания повествования (см. П главу). Творчество Д. Хармса понимается нами не как конечный этап развития русского авангарда начала-середины XX века (точка зрения Ж.-Ф. Жаккара), а как значительный эволюционный скачок, предвосхитивший и предопределивший многие художественные явления в литературе (примитивизм, минимализм и т.д.) и театре (театр абсурда, театр жестокости), в том числе и на Западе.
Ж.-Ф. Жаккар выявляет параллели между творчеством Д. Хармса и представителями авангарда в живописи (К. Малевич, М. Матюшин). К сожалению, исследователь проходит мимо конструктивного аспекта авангарда в живописи, а здесь необходимо возникают имена Павла Филонова (аналитическая школа) и Владимира Татлина (см. I главу).
С другой стороны, значение работы швейцарского ученого трудно переоценить. Ж.-Ф. Жаккар выявил логику эволюции творческого метода Хармса, вскрыл и показал связь между творчеством Д. Хармса и отечественным футуризмом, обозначил ряд проблем, характерных для поэтики Д. Хармса и ОБЭРИУ вообще.
Интересная работа М.Б. Ямпольского базируется на точке зрения, которая «находится, мягко выражаясь, на периферии филологии» (182, с. 15). Именно этим обусловлен широчайший философский диапазон, который обнаруживает М. Ямпольский и который, признаем, навряд ли правомерен (60) (подобный подход правомерен с точки зрения культурологии, но не конкретного филологического исследования; впрочем, М. Ямпольский и сам оговаривает эту особенность своей работы). При этом нельзя не отдать должное интеллектуальности исследователя, которая помогла ему вскрыть многочисленные культурные подтексты произведений Хармса. Основная заслуга М.Б. Ямпольского заключается в том, что творчество Д.Хармса предстает перед читателем в его монографии как «интеллектуальное», «интеллигентное» и «интеллигибельное» явление.
Исследование А. Кобринского («Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного авангарда») показало культурные (и литературные) связи поэтики Д. Хармса и символистов, А. Белого, В. Хлебникова, акмеистов, имажинистов и графоманской поэзии XIX века. Другими словами, А. Коб-ринский описывает поэтику ОБЭРИУ и Хармса в контексте русского литературного авангарда XX века. Основной идеей работы А. Кобринского является распространите принципов поэтики ОБЭРИУ не только на обэриутский период творчества Хармса, но и на постобэриутский.
Многочисленные статьи В.Н. Сажина прослеживают параллели между творчеством Д. Хармса и русской классической литературой, еврейской культурой, петербургской культурой, египетской мистикой и мифологией. К тому же этот ученый является автором единственной на сегодняшний день биографии Д. И. Хармса (133, с. 5—18). Значение работ В.Н. Сажина неоспоримо: Д.Хармс предстает необходимым компонентом своей эпохи, глубоко интегрированным в нее. Кроме того, В.Н. Сажин в своих статьях наметил множество путей прочтения Хармса, которые при дальнейшей разработке могут вылиться в серьезные научные исследования.
Ряд научных работ (Н. Гладких (33), И. Кукулин (82, 83), И. Лощилов (92)) опирается на семиотико-структуралистский подход. Дело в том, что «пограничное» творчество Хармса привлекает лингвистов «орфографическим «сдвигом»» (72), семиотиков — знаковостью художественного мира Д. Хармса. При идейной (в классическом понимании) бедности текстов Д. Хармса значительно вырастает их формальное значение: порой только лишь через форму возможна расшифровка произведений этого писателя.
Вышедшая недавно монография Д.В. Токарева, кажется, открывает новую тенденцию в хармсоведении. Неудачно выбранная (на наш взгляд) методика — сравнение творчества Д.И. Хармса и С. Беккета, — базируется на фрейдистской интерпретации художественных произведений. Поводом для этого, конечно, является выставленная наружу сексуальность персонажей художественного мира Д. Хармса, что, по нашему мнению, является недостаточным аргументом для избрания подобной методики. Следует отметить, что подход Д.В. Токарева уже вызвал обоснованную критику со стороны хармсо-ведов (32). С другой стороны, научные статьи Д.В. Токарева поднимают важные вопросы относительно философии (148) и эстетики (150) Д.И Хармса.
Исследователями отмечаются (небезосновательно) религиозные (Ю. Хейнонен (166—169), Л. Кацис (66—68) и др.) и мистико-эзотерические аспекты творчества Д. Хармса (М Ямпольский (184), А. Герасимова, А. Ники-таев (28) и др.). Это не случайно: отечественный авангард начала-середины XX века, несмотря на свою приверженность теориям бергсоновского механицизма (13, 14), технического прогресса (что перекликается с идеей жизне-творчества), отдавал значительную дань философско-религиозным и мисти-ко-эзотерическим настроениям (традиция, идущая от романтизма).
Нельзя не сказать еще об одной, обидной, тенденции, ведущей к искажению фактов. Так, И. Есаулов в стремлении представить эстетику авангарда в черных красках, в агрессии художественного мира представителей авангарда 30-х видит агрессию самих художников (53, с. 179), а Н.М. Олейнико-
9 ва, который никогда не входил в состав ОБЭРИУ, причисляет к «ведущим обэриутам» (53, с. 184). Очевидно, эта точка зрения базируется на противопоставлении эстетики авангарда классической литературе и на неоправданном отказе в диалоге между этими стилями культуры, а также на поверхностном взгляде на культуру авангарда — следует различать литературную группу ОБЭРИУ и философскую группу «чинарей» (в которой как раз Н.М. Олейников занимал важное место). Не следует забывать, что «модернизм в России формировался в процессе взаимодействия с реализмом. Взаимодействие реализма <...> и модернизма — не борьба только, но взаимовлияние, отталкивание и притяжение, проникновение друг в друга и обоюдное обогащение <...»> (79, с. 5).
Весьма распространенным мифом о Хармсе является представление его детским писателем. Так, В. Платоненко рассматривает Хармса только с этих позиций (117, с. 131). Это отдельная тема, которой мы коснемся ниже.
Следует отметить, что ситуация с публикацией произведений Д. Хармса и остальных чинарей существенно улучшилась за последнее десятилетие: в 1991 году журнал «Театр» посвятил творчеству обэриутов целый номер; опубликован двухтомник собрания сочинений А.И. Введенского (1993); вышли дневники Я.С. Друскина, ближайшего друга Хармса (1999); в 1999 году журнал «Логос» отвел значительное место на своих страницах для публикации части философского наследия Л.С. Липавского и Я.С. Друскина; в 2000 году вышел двухтомник «...Сборище друзей, оставленных судьбою», посвященный философской части творчества чинарей; опубликовано полное собрание сочинений Н.М. Олейникова (2000); в 1997 году началось издание полного собрания сочинений Хармса, которое завершилось в 2002 году изданием его записных книжек; в 2000 году издано трехтомное собрание сочинений Хармса, по своему содержанию близкое объемному тому «Цирк Шар-дам» (1999). Все это позволяет говорить о том, что теперь исследователю творчества Хармса и чинарей доступен практически весь художественный и исторический материал. В прямой зависимости от публикации художествен-
10 ных произведений находится и рост научных публикаций.
Актуальность диссертационного исследования заключается в том, что художественный мир Д.И. Хармса понимается как специфическое художественное образование, неподдающееся традиционной методике его анализа. Художественный мир Д.И. Хармса отличается особым своеобразием, неординарностью. Специфичность образной системы; знаковость, условность персонажей; ломка жанровой структуры; привнесение в художественный текст «наивной» мифологизированной философии; нарочитый алогизм, имеющий своей основой глубокие мистико-философские корни; сознательная установка на шифровку, усложнение текста (футуристическая традиция), — все это позволяет говорить об уникальности художественного мира Д.И. Хармса. Таким образом, в диссертационном исследовании предпринята попытка подойти к изучению данного эстетического феномена с учетом особенностей его собственной поэтики, а не с позиции традиционналистского подхода.
Научная новизна исследования обусловлена: 1) новизной исследуемого материала (впервые «детское», «взрослое», «философское» и эпистолярное наследие Хармса рассматривается в едином контексте исследования); 2) новизной предмета исследования (впервые анализируется «художественный мир» Хармса и его аспекты: структурообразующие элементы логики и основные мотивы); 3) новизной исследовательских — интерпретационно-аналитических подходов — адекватных самому хармсовскому материалу.
Цели диссертации состоят в следующем: осмыслить творчество Д.И. Хармса как закономерное литературное (культурное) явление, снять «эффект неожиданности», который обусловлен не столько спецификой поэтики Хармса, сколько ее поздним обнаружением филологической наукой; исследовать структуру художественного мира Д.И. Хармса
Отсюда становятся понятными задачи диссертационного исследования:
1) рассмотреть литературную деятельность Д. И. Хармса в контексте
русского модернизма: философско-эстетическая база, общемодернистские
тенденции, связи, эволюция;
2) выявить основные составляющие эклектического философско-
эстетического сознания Д.И. Хармса1;
3) описать структурообразующие элементы логики и основные (конст
руктивные) мотивы художественного мира писателя.
В диссертационном исследовании нами используется оригинальный метод анализа художественного мира Д.И. Хармса. Традиционно художественный мир как эстетический факт рассматривается в литературоведении с двух позиций (часто совмещенных): пространственно-временной структуры и системы образов. Безусловно, такая методика открывает множество перспектив, однако у нее есть существенный недостаток — отсутствует объяснение функционирования художественного мира. Констатируются базисные начала, фиксируются ключевые образы, подробно описывается пространственно-временная структура Однако при таком подходе практически невозможно объяснить, как такая структура и образная система функционируют. Другими словами, традиционный анализ не дает описания механизма художественного мира.
В нашей работе предлагается иной, более адекватный хармсовскому материалу метод изучения художественного мира, В исследовании он рассматривается в двух взаимодействующих ракурсах: в аспекте логики структуры художественного мира Д. Хармса и в аспекте семантической реализации его основных мотивов.
Художественный мир как филологический термин чрезвычайно близок или даже синонимичен понятию модель мира. Художественный мир Д.Хармса (модель художественного мира) мыслится нами как сложное и подвижное, «становящееся» и эволюционирующее оригинальное художественное явление, в том числе — ив читательской рецепции.
Этой темы вскользь касается только B.H. Сажин (135, с. 238)
Исследование логики художественного мира Хармса позволит объяснить его (мира) уникальность, механизм функционирования. Вскрытая логика демонстрирует, что «художественный мир» это не отвлеченный термин, а действительный факт искусства, причем искусства живого, подвижного, многогранного, спорного, трагичного и проблематичного. Вместе с тем, выявление элементов логики художественного мира позволяет объяснить и традиционные его составляющие, а именно — пространственно-временную структуру и систему образов. Логика не только объясняет их, но и необходимо описывает. Подобным образом обстоит дело и с основными мотивами художественного мира, т.к. мотивы здесь понимаются как функциональные образования, семантически наполненные. Понятно, что описание всех мотивов художественного мира — предмет отдельной большой работы, мы рассматриваем только те, которые действительно являются основными, т.е. конструктивными.
Методологической основой диссертационного исследования являются работы ведущих обэриуто- и хармсоведов: В.Н. Сажина, Ж.-Ф. Жаккара, КВ. Кукулина, А.А. Кобринского, А.А. Александрова, МБ. Мейлаха, А. Герасимовой, В.И. Глоцера, Л.Ф. Кациса, Ю. Хейнонена, А. Никитаева, И.Е. Лощилова, Н.В. Гладких, ДВ. Токарева.
Структура работы обусловлена задачами, которые мы ставим перед собой. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. В первую очередь, необходимо обозначить место Хармса в культурном и литературном контексте эпохи. Именно это позволит ответить на вопросы: насколько феноменально творчество этого писателя, закономерно ли его появление, каково его место в русском модернизме. Мы рассматриваем поочередно общефилософские воззрения Хармса, затем сугубо авангардистские эстетические. Общефилософские взгляды Хармса характерны для всего модернизма. Авангардистские идеи Хармсом в определённой степени переосмысливались. Выявление литературных ориентиров в творчестве Хармса позволяет нам увидеть, в какой степени крепки связи
Хармса с литературными достижениями современников. Этому вопросу посвящена первая глава.
Во второй главе рассматриваются структурообразующие элементы логики художественного мира Хармса. Их наличие и содержание будет определено философеко-эстетическим контекстом эпохи расцвета русского литературного авангарда 30-х гг., который обозначен в первой главе. Соответственно, основные мотивы художественного мира Д. Хармса, составляющие содержание третьей главы, в свою очередь, будут объяснены уже и с помощью элементов логики этого эстетического феномена Таким образом, три главы составляют органичное поступательное единство, сутью которого является исследование художественного мира Д.И. Хармса как активно функционирующего художественного образования. В заключении подводятся итоги исследования, делаются выводы.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в уяснении особенностей поэтики и художественного мышления Д. Хармса, а также в уточнении его места в русском литературном авангарде XX века. Практическая значимость заключается в том, что материал и результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания теории и истории литературы в высшей школе, в учебных пособиях и спецкурсах по истории русского авангарда.
Апробация работы. По материалам исследования опубликовано 6 (шесть) статей. Основные положения работы обсуждались на научных конференциях: Всероссийской научной конференции «Русская литература и философия: постижение человека» (Липецк, ЛГПУ, 16—17 октября 2001 г.), Международной научной конференции «Пушкин и сны. Сны в фольклоре, искусстве и жизни человека» (Пушкинские горы, 3—7 июля 2003 г.), Всероссийской научной конференции «Русская литература и философия: постижение человека» (Липецк, ЛГПУ, 6—7 октября 2003 г.).
Отдельно необходимо оговорить вопрос о цитировании текстов Хармса. Орфография Хармса отлична от нормированной. В разных изданиях тек-
сты Хармса публикуются то в соответствии с современными правилами орфографии и синтаксиса (VIII), то в соответствии с авторским написанием (I—VI). Вопрос о публикации творческого наследия писателя чрезвычайно актуален. Все больше становится очевидной необходимость публикации Д. Хармса в соответствии с его личной орфографией и пунктуацией. В научной литературе уже не раз доказывалась необходимость соответствия публикации авторскому написанию: Глоцер В.И. Об одной букве у Даниила Хармса (36), Кобринский А., Мейлах М, Эрлъ В. Даниил Хармс: к проблеме обэриутско-го текста (78), Кобринский А. «Без грамматической ошибки...»? Орфографический «сдвиг» в текстах Даниила Хармса (72), Шапир М. Между грамматикой и поэтикой (о новом подходе к изданию Даниила Хармса) (172). Taic, публикация произведений Д. Хармса А.А. Александровым подвергается резкой критике со стороны Ж.-Ф. Жаккара (56), А.А. Кобринского, МБ. Мейла-ха (77), В. Эрля (78). Это обосновано тем, что авангардное мыгиление всегда находится на грани семантически нагруженного знака. Поэтому адаптация авторского текста в соответствии с современными нормами правописания чревато опрощением и, как следствие, утратой смыслового багажа. К тому же правописание Хармса в своей основе имеет определенную философскую и эстетическую подоплеку (например, употребление «фиты» и «ера»). В этом смысле оно близко к проблеме шифрования, актуальной в связи с творчеством писателя (106). Не случайно Д.В. Токарев говорит о взаимосвязи «<...> философских размышлений Хармса в контексте основных положений его концепции поэтического творчества^..>» (148, с. 93). Здесь не последнюю роль играет и фонетический принцип оформления поэтической речи (написание ориентировано на произношение), что является метой отечественного футуризма и русского литературного авангарда 30-х гг.
В связи с выше сказанным мы цитируем хармсовские тексты с соблюдением авторского правописания.
Хармс как представитель русского авангарда 20-30-х гг
На сегодняшний день сделаны весьма успешные и значительные попытки определить место Д.И. Хармса в истории русского авангарда (54) и создать его (Хармса) культурологический портрет (182). Швейцарский славист Ж.-Ф. Жаккар показал многочисленные связи между Д.И. Хармсом и русским авангардом. Эту монографию отличает филологическая корректность и желание автора показать и творчество Хармса, и саму эту историческую фигуру в контексте истории русской литературы и культуры, а именно — в контексте русского литературного авангарда 20—30-х гг. Однако серьезнейшим недостатком работы является стремление исследователя рассматривать фигуру Хармса в контексте «конца русского авангарда». В сущности, Ж.-Ф. Жаккар говорит о том, что эстетика авангарда скомпрометировала себя и потому закончила свое существование. Подобная тенденция выразилась и в логике составления антологии, посвященной модернистской поэзии XX века, «От символистов до обэриутов. Поэзия русского модернизма» (110), в которой творчество обэриутов венчает, по мнению составителей, историю русского модернизма. Однако несомненным достоинством монографии является развитая мысль о преемственности русского авангарда. Если развернуть эту мысль шире, то можно поставить вопрос об очевидной эволюции русского литературного авангарда, в которой творчество Хармса занимает свое особое место.
Традиционно хронологию русского модернизма принято начинать с конца 1891 года, когда журнал «Северный вестник», редактируемый А. Волынским, опубликовал стихотворения Н. Минского, Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта (111, с. 25). С этого времени отечественный модернизм переживает бурное развитие, разветвляясь на многочис 16 ленные течения и поэтические школы. Наиболее радикальным из них становится кубофутуризм. Именно он понимается как авангардное течение литературы. Но в 1922 году умирает один из главнейших идеологов кубофутуризма — В. Хлебников, — а само авангардное искусство подавляется идеологически (ярким примером попытки подчинить искусство авангарда новой идеологии является журнал «ЛЕФ», первый номер которого появился в 1923 г., а также прокоммунистические декларации грузинских футуристов (107)). Подобная точка зрения представляется настолько незыблемой, что не встречает желающих ее оспаривать. А.В. Крусанов, автор монументального исследования «Русский авангард: 1907—1932 (Исторический обзор)», как видно из названия, хронологию русского авангарда заключает в период с 1907 по 1932 гг.
В действительности же дело обстоит так, что русский, ставший советским, авангард продолжал свою бурную жизнь и, что самое важное, эволюционировал. Именно творчество Д.И.Хармса является яркой иллюстрацией эволюции русского авангарда.
Начавшись с мистической метафизики декаденства и символизма, пройдя через горнило буйствующего футуризма, отрицавшего метафизику и утверждавшего «нового» человека, русский модернизм пришел к необходимости объединить метафизику и экзистенцию человека Именно эту тенденцию мы наблюдаем у Д. Хармса, А. Введенского, Я. Друскина, Л. Липавско-го, Н. Олейникова, Н. Заболоцкого, И. Бахтерева. Вместе с тем камерная культура русского авангарда 20—30-х гг., обусловленная известной политической ситуацией в СССР, никоим образом не должна рассматриваться вне контекста литературного процесса.
Между различными течениями и школами модернизма наблюдается если не очевидная связь, то, по крайней мере, взаимодействие, и, в сущности, видна единая эстетическая база Именно поэтому в современном литературоведении наряду с четкими позициями, различающими многообразные литературные течения русского модернизма, существует тенденция к отказу от их
7 точной «классификации», и разговор все больше ведется о нерешенности этого вопроса (108, с. 125), т.к. в рассматриваемый исторический период (конец XIX — нач. XX вв.) формируется «новая модель литературного процесса» (108, с. 138). Авангард то смешивается с символизмом (70, с. 65—66), то, наоборот, противопоставляется реализму, модернизму и символизму (186, р. 333) (таким образом, отсутствует даже обыкновенное терминологическое единство). Вместе с тем, уникальность авангарда очевидна для всех исследователей (173). То, что мы называем русским литературным авангардом 20— 30-х гг., подчеркивая, во-первых, его исторический и культурный ареал, во-вторых, большое значение и знаковость этого движения, а в-третьих, не снимая эстетической нагрузки с этого направления (авангард), некоторые исследователи называют поставангардом, хотя не вполне ясно, что они под этим подразумевают, ибо в этот самый поставангард входят А. Платонов, С. Кржижановский, Л. Добычин, К. Ватинов и Д. Хармс (103, с. 102). Одновременно Хармс относится и к родоначальникам «новейшей европейской литературы абсурда» (65, с. 176). При этом некоторые исследователи настаивают на том, что творчество обэриутов не имеет ничего общего с театром абсурда (96). Другие утверждают, что творчество обэриутов предвосхитило театр абсурда на 20—25 лет (48, с. 46; 57, с. 81) или находится в непосредственной близости от театра абсурда (61, с. 275—277). Иногда обэриуты объявляются близко стоящими к сюрреализму (161, р. 212—214, 220) и даже «русскими сюрреалистами» (174, с. 55). С другой стороны, в статье «Авангард» известный исследователь эстетики модернизма В. Бычков не находит места для обэриутов в контексте русского литературного авангарда 30-х (19, с. 27—34). Интересно также высказывание Я. Друскина: «Стихи Введенского и Хармса не имеют ничего общего ни с «литературой подсознания», ни с сюрреализмом» (48, с. 46)
На фоне такой неопределенности становится понятной и проблема ОБЭРИУ и чинарей. Так, В.Н. Сажин говорит, что « ... ОБЭРИУ надо рассматривать лишь как одну из деятельных форм существования чинарей» (130, с. 200). При этом В.Н. Сажин считает чинарей литературной группой (131, с. 23—24), за что подвергается критике со стороны А.А. Кобринского (73, с. 7—8). Сам же Кобринский сильно преувеличивает значение ОБЭРИУ в творчестве Д. Хармса и А. Введенского и пытается распространить принципы поэтики ОБЭРИУ на постобэриутский период этих поэтов, при этом творчество Н. Заболоцкого и К. Ватинова он почему-то предпочитает рассматривать именно в рамках обэриутского периода (там же). Возникает вопрос, почему же нельзя предположить, что принципы поэтики ОБЭРИУ были сформированы раньше? Возникает и другой вопрос: а не является ли поэтика ОБЭРИУ следствием (или выражением) поэтики русского литературного авангарда 20—30-х? Возможно, здесь более справедливым будет мнение М. Мейлаха, который высказал, на наш взгляд, правильную мысль: «Термин «обэриутская поэтика» — неточен. Период 1928—1931 гг., когда Введенский и Хармс входили в ОБЭРИУ, не исчерпывает их творчества ...» (98, с. 181). В определении места Хармса в культурном контексте эпохи необходимо поднимается вопрос и об акцентировании внимания исследователей на «детском» творчестве писателя.
Структурообразующие элементы логики художественного мира Д.И. Хармса
Вопрос о логике художественного мира Хармса представляется одним из важнейших в силу того, что понятие логики поднимает вопрос о функционировании художественного мира. Под логикой художественного мира мы понимаем определенный свод закономерностей. Эти закономерности (или — элементы логики), являющиеся прямым следствием эстетических открытий Хармса, определенным образом диктуют формирование сюжета. Именно логика объясняет, демонстрирует и оправдывает все происходящее в художественном мире. Относительно художника авангардного направления в искусстве такой подход более чем оправдан: при максимальном внимании этого направления в искусстве к знаку, к схеме, к абстрагированной метафоре и т.д. единственно возможным способом понять многочисленные связи элементов художественного пространства становится его же логика.
Как известно, объемы хармсовских произведений невелики. Чтобы произведение такого объема (в половину, в треть, в четверть машинописной страницы) жило как художественный факт, необходимо наличие какого-то внутреннего стержня, который, во-первых, организовывал бы художественный текст, во-вторых, организовывал бы художественное произведение как феномен искусства со своим значением и планами выражения. Понятно, что таким стержнем может быть только событийность, то есть так развитая сю-жетика, при которой произведение небольшого объема воспринималось бы не как статичное образование, носящее документальный характер, а как полноценное художественное произведение. Действительно, событию в художественном мире Хармса придается ведущее значение, мало того — единственно правомерное. У Хармса нет стихотворений в прозе, нет зарисовок, нет статичных произведений. Наличие подобных произведений входило бы в противоречие с самой эстетической установкой этого писателя. Что же касается вопроса о черновых записях, набросках произведений, то, как показала А. Герасимова, все они разделяются на определенные группы, и каждая группа представляет собой варианты плана большого произведения (26, с. 133). Проповедовавшийся модернизмом культ жизни, жизнетворчества уже предполагал живость художественных произведений. Событию в хармсов-ском мире придается порой тотальное значение. Организация событий обуславливает построение рассказа или стихотворения Хармса. Именно поэтому наиболее яркое выражение рассматриваемые элементы логики мира Хармса нашли в его прозаическом сборнике «Случаи» (1933—1939) (отметим говорящее и прямо относящее нас к исследуемой теме название). Это вовсе не означает, что рассматриваемые элементы не встречаются или редко встречаются в хармсовских произведениях со слабо выраженной событийностью. Напротив, все изучаемые нами элементы всегда присутствуют в произведениях Хармса. Так, прерывистость и стремительность можно обнаружить уже в одном из первых стихотворений Хармса «О том как Иван Иванович попросил и что из этого вышло».
Следует отметить, что событие, по замечанию современной исследовательницы Гажевой И.Д., обладает рядом признаков: «во-первых, разворачивается в жизненной сфере личности, общества ... ; во-вторых, не зависит при этом в своем исходе от воли людей ... ; в-третьих, занимает особое, выделенное место на шкале жизни .„ ; в-четвертых, совершается в течение строго ограниченного промежутка времени, легко сворачивающегося в точку в соответствии с точечностью событий в случае событийной интерпретации процесса ...» (25, с. 77). Первые два признака особенно отчетливо прослеживаются в системе мотивов художествеїшого мира Хармса. Последние два — прямо отправляют нас к рассматриваемой теме.
Можно выделить в событийно-знаковой структуре художественного мира Д.И. Хармса определенные составляющие (логические элементы), которые будут выглядеть следующим образом: 1) необоснованность, 2) стремительность, 3) прерывистость, 4) перескакивание, 5) повторяемость, 6) кумулятивность, 7) обратность, 8) обратимость, 9) нарушение симметрии, 10) симулътанность, 11) связь. В данном ряду элементов художественной логики Хармса четко прослеживается определенная упорядоченность. Особо следует отметить, что эти элементы логики имеют своей основой четкие философские и эстетические позиции как самого Хармса, так и всего советского авангарда.
Логика художественного мира Хармса обязательно интенциалъна, она всегда на что-нибудь или куда-либо направлена Это всегда решение какой-либо определенной задачи. В этой интенциальности нельзя не усмотреть общей виталической основы авангардного искусства. Не случайно философия жизненного прорыва оказывала большое влияние на художников этого направления. Другими словами, интенциальность имеет под собой процессуальную основу. Не случайно известный лингвист Н.Д. Арутюнова связывает событие и процесс: «Событие — это шаг от процесса в направлении к факту. Однако его процессуальность может быть восстановлена ... . Для этого достаточно предварить имя события такими словами, как во время, в течение, в продолжение .„ » (8, с. 185). Близко к этому мнению стоит и М Эпштейн: «Поступок — свершение [выделено нами. — Ф.К.] с неясным концом, а происшествие — с неясным началом» (180, с. 66). Процессуальность у Хармса всегда очевидна. Иногда в ней невозможно обнаружить «ясное начало», иногда — «ясный конец», иногда она резко обрывается, — но это всегда процесс. Впрочем, именно относительно Хармса в известной декларации ОЮРИУ «Общественное лицо ОБЭРИУ» было заявлено буквально следующее: «Даниил Хармс — поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла. Действие, перелицованное на иной лад, хранит в себе «классический» отпечаток и в то же время представляет широкий размах обериутского мироощущения» (62, с. 88). Да и в самом обэриут-ском видении собственной поэзии преобладает мотив движения, напора, дей 59 ствия: «Наша воля к творчеству универсальна: она перехлестывает все виды искусства и врывается в жизнь, охватывает ее со всех сторон. ... В поэзии — столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики» (121, с. 41—42). «Перехлестывает», «врывается», «охватывает со всех сторон», «столкновение» — набор тезисов более чем многоговорящий. Однако нельзя забывать и факта камерности авангардного искусства. Определенное социальное и политическое положение авангардистов, которое можно охарактеризовать как замкнутое, невостребованное, индивидуальное, нашло свое выражение и в их художественных мирах, которые всегда есть личное моделирование, и в системе их (миров) художественной организации.
Приступая к подробному рассмотрению элементов художественной логики Хармса, нужно учитывать и то обстоятельство, что эти элементы не могут быть единственными, а самое главное — обыкновенно эти элементы находятся во взаимосвязи, организуют сложные логические образования и редко встречаются в чистом виде. В нашем исследовании мы рассматриваем те элементы логики Хармса, которые, во-первых, четко и сразу выделяются, во-вторых, имеют максимально конструктивный характер (т.е. активно участвуют в создании художественного текста).
Сотворение и существование мира
Логика художественного мира Хармса довольно внимательна именно к этому моменту интимной человеческой жизни. Его художественный мир существует по отличным от реального мира законам. В этом мире торжествуют недочеловек и обыватель (см. ниже). Взаимоотношения между социальными единицами можно определить, с точки здравого смысла, как абсурдные, нереальные. По логике чинарей, в мире существует система детерминации, качественно иная, нежели общепринятая (А.И. Введенский), и именно эту систему связей, которая в реальном мире воспринимается как «шиворот-навыворот», Хармс ставит во главу своего художественного мира. Отсюда становится понятным мотив ненормального или затруднительного зачатия или рождения персонажа в произведениях писателя и его функциональное значение. Эту функциональность можно определить как такую организацию художественного текста, которая отвечает законам логики художественного мира, эстетическим и философским положениям художника и в силу этого является единственно возможной конструктивной основой текста. Следует отметить, что эта особенность художественного мира Хармса характерна для чинарского искусства вообще (см., например, «Куприянов и Наташа» А. Введенского).
Весь процесс появления ребенка, начиная с ухаживания, трагически изломан: художественный мир Хармса, его логика, стремятся во что бы то ни стало предотвратить рождение Нового. Беспощадность и жестокость логики в полной мере проявляется в этой группе мотивов. Однако это справедливо в отношении «нормального» рождения в «нормальном» мире.
Если в мотивах ухаживания, зачатия, рождения под сомнение ставились сами эти процессы, то в отношении существования персонажей в художественном мире Хармса под сомнение ставится само бытие, будь то человеческое бытие или бытие мира. Так же, как рождение персонажа проходит у Хармса под знаком обряда инициации, так и дальнейшее существование личности постоянно инициируется. Каждый раз личность в художественном мире писателя старается себя утвердить через преодоление агрессии самого бытия художественного мира. С этим связаны разного рода физические и моральные деформации личности. Статус личности в художественном мире Хармса можно обозначить как непостоянный, изменчивый. Несмотря на бедность (75, с. 88) духовного мира персонажей Хармса и убогость их бытовых условий, они (персонажи) чрезвычайно активны, а если пассивны, то испытывают чрезвычайную активность мира Например, описание начала дня («Начало очень хорошего летнего дня. Симфония») дается как описание ряда событий; в эту событийность включены все действующие лица описания, и событийность эта носит агрессивный характер.
Уже сами основы бытия в художественном мире Хармса подвергаются сомнению: «У нас в доме живет Николай Иванович Ступин, у него теория, что всё дым. А по-моему, не всё дым. Может, и дыма-то никакого нет. Ничего, может быть, нет. Есть одно только разделение. А может быть, и разделения-то никакого нет. Трудно сказать» (II, с. 91).
Подобная релятивность с явным уклоном в апофатизм видна и в примыкающем к названному рассказе «О явлениях и существованиях №2», в котором последовательное разрушение бытия ставит в тупик и самого рассказчика. Очевидно одно — герои Хармса часто сомневаются в истинности своего бытия, которое характеризуется «зыбкостью», неустойчивостью.
В отношении неустойчивости существования в художественном мире Хармса интересен мотив сна. Как правило, сон воспринимается человеком как некая иная реальность (не случайно на этой почве возникли многочисленные мистические спекуляции). Реальный мир резко отличается от ирреального мира (сна). Соответственно, и структура этих миров должна разниться. Мы спокойно относимся к фантастическим событиям сна, потому что отдаем себе отчет в том, что мир сна — мир ирреальный. Однако у Хармса нет никакого различия между сном и реальностью в плане структуры бытия. События, происходящие с хармсовскими персонажами во сне, вполне могут произойти (и происходят) в яви.
Мотив сна является одним из самых распространенных в творчестве Д.И. Хармса (136, с. 9), проявления его разнообразны: персонажи засыпают, просыпаются, часто мучаются от невозможности заснуть или наоборот проснуться, остаться в состоянии бодрствования. Причем, как видно из произведений Хармса, писателя в большей степени интересует сам факт сна, а не его семантика. Сон у Хармса не несет никаких сюжетообразующих функций в том смысле, что он не выступает в роли репрезентанта сознания персонажа, не предсказывает дальнейшее развитие событий.
Объясняется это главным образом тем, что хармсовские персонажи предельно сконструированы, а потому абсолютно безличны, схематичны, в силу чего вопрос о психологии сна для них окончательно снимается. Следует также учесть и сверхмалые объемы произведений Хармса: на таком ограниченном текстуальном пространстве почти невозможно создание психологического портрета. Таким образом, сон выполняет у Хармса не столько смысле-, сколько текстообразующими функциями.
Для анализа сновидческих процессов в произведениях Хармса, очевидно, не подходят принятые в литературоведении традиционные, «универсалистские» методы, поскольку произведения Хармса своей ненормативной поэтикой делают их неэффективными.
Поиск значений характерного для писателя мотива сна мы ведём в рамках философского творчества Хармса и его друзей чинарей (в первую очередь, Я.С. Друскина), в кругу которых наряду с другими темами обсуждалась и тема сна
В 1968 г. Я.С. Друскин составил из дневниковых записей, ведшихся им с 1928 г., книгу «Сон и явь». В предисловии к ней философ говорит о неразличимости сна и яви: «Некоторые сны были как явь, явь как сон: сон наяву, просыпание души. Душа и есть просыпание души. Я все время сплю и все время просыпаюсь» (47, с. 629).
Отметим здесь, во-первых, разделение сна и яви, во-вторых, их взаимосвязь, и, в-третьих, существование души, разграничивающей сон и явь и одновременно вмещающей их, создающей целое. Это основная идея в философии Друскина13: мир — сумма частей, каждая из которых «эта» по отношению к другой, являющейся «той». Друскин использует понятия «это» и «то» на протяжении всего своего творчества в разных значениях (так он сам отмечает в эссе «Это и то»). Третьим элементом в системе «этого» и «того», элементом «между этим и тем», выступает «промежуток», «поворот», «предельная точка» или «граница».
Хармсовский текст «О существовании, о времени, о пространстве» — отклик на сочинения Друскина. Здесь Хармс выделяет «это», «то» и «препятствие» как элементы, составляющие «основу существования»: «Существующий мир должен быть неоднородным и иметь части», если «нет частей, то нет и целого», «всегда одна часть будет эта, а другая та. .. Если существует это и то, то значит существует не то и не это, потому что, если бы не то и не это не существовало, то это и то было бы едино, однородно и непрерывно, а следовательно не существовало бы тоже. ... Назовём не то и не это "препятствием"» (IV, с. 30-31).
Существование в мире
Как и в «Старухе», персонаж «Утра» сначала пытается заснуть, затем наоборот, борется со сном (т.е. находится почти на границе между сном и явью), и в это время обдумывает сюжет о чудотворце, который не хочет совершить чудо, точно так же, как и сам персонаж не может совершить чуда, а именно —написать рассказ.
Именно тогда, когда персонажи Хармса не могут точно определить, бодрствуют они или спят, становится возможным п(р)оявление чудесного, как в рассказе «О том, как меня посетили вестники». Здесь о чудесном нам говорит временная аномалия, обратившая в мгновение значительный отрезок времени: в начале повествования автор отмечает точное время (без четверти четыре), после описания различного рода событий он заканчивает рассказ опять-таки точным указанием времени (все те же без четверти четыре).
В том же случае, когда персонаж Хармса (сам Хармс?) пытается точно определить, спит он или нет, ожидаемый результат не достижим, персонаж или окончательно засыпает, или окончательно просыпается, или оставляет нас относительно данного обстоятельства в недоумении и неизвестности, поскольку точно определить его состояние не удается.
Очевидно, для Хармса равно не важно то и это (как мы увидели, и то и это все равно определяются категорией «Рай», а значит — это однокачест-венные понятия). То и это — одинаковы, у них одинаковые законы, пусть разнополярные, разновекторные, но одинаковые по своей логике. Для Хармса важна граница между сном и явью, между тем и этим, потому что эта граница — «ключ жизни» (понятие из трактата Хармса «О кресте»), единственное, что поможет соприкоснуться с Богом, единственный инструмент чудесного. Хармс в данном случае подобен собственному персонажу Доктору, который в рассказе «Всестороннее исследование» пытается уловить переход от жизни к смерти.
Если принять во внимание древнюю пифагоро-платоновскую традицию при анализе бытия оперировать числом, позиция весьма близкая Харм-су, то становится понятной вся сила разрушения основ бытия, когда под сомнение ставится числовое устроение мира (рассказ «Сонет»). Хармсовская приверженность идее двоемирия в полной степени отражается в его художественном мире («Оптический обман», «Сон» и т.д.).
Сомнению подвергается историческое обоснование бытия («Исторический эпизод», «Анегдоты из жизни Пушкина» и т.д.). Здесь Хармс проявляет богатую фантазию в методике фальсификации истории, используя, например, прием маски, когда реальному историческому лицу приписывается не имевшая места в истории или даже сознательно противоположная позиция в отношении того или иного вопроса («Меня называют капуцином...»), или пародируя стиль политических трактатов Платона и Макиавелли.
В художественном мире Хармса экзистенция Тела принимает феноменологический характер в том смысле, что при всей психической и психологической бедности хармсовского Персонажа, последний испытывает все напряжения и удары со стороны логики художественного мира, феноменологически ощущает их. Это — воспринимаемое и воспринимающее Тело, остро реагирующее и в то же время вызывающее реакцию Читателя.
Тело у Хармса подвергается бесконечной деформации. Моральное унижение персонажей, достигаемое с помощью инвективнои атаки со стороны других действующих лиц художественного мира писателя, является своего рода прелюдией (зачастую — необходимой) к более глубоким изменениям «личности» — физическим. Утверждая себя как объект мира, как данность, Персонаж Хармса изначально претендует на экзистенциальное самоутверждение. В «Сабле» говорится: «Тут мы стоим и говорим: Вот я вытянул одну руку вперед прямо перед собой, а другую руку назад. И вот я впереди кончаюсь там, где кончается моя рука, а сзади кончаюсь тоже там, где кончается моя другая рука. С верху я кончаюсь затылком, с низу пятками, с боку плечами. Вот я и весь. А что вне меня, то уж не я» (II, с. 280—281).
Тело занято самоопределением, самоутверждением — для него важно определить, в первую очередь, собственные границы. Единственное, что его интересует, это собственная протяженность, т.е. факт своего существования. Для него быть важнее как быть. Определив собственные границы, Тело в художественном мире Хармса останавливает свою познавательную деятельность и всецело занято собой.
Претерпевая моральные унижения, Персонаж не испытывает беспокойства, поскольку речь у писателя идет о разрушении моральной оболочки, которой, в сущности, у него нет или которая дана в крайне жалком виде. То же самое происходит, когда сомнению подвергается физика Тела — ожидаемой реакции читатель не наблюдает.
Моральная устойчивость Персонажа обуславливается психической бедностью14, которая выражается 1) в вариативности наименования и 2) в аморфности психической реакции.
Т.к. Персонаж художественного мира Хармса является в большей мере Телом, нежели логосом, то сама собой отпадает проблема его маркирования, начиная от половой дифференциации («Прислуга по названию Наташа») и заканчивая номинативной («Бесстыдники. Опера в четырех действиях», здесь Боголюбов меняется на Богомолова; «Карьера Ивана Яковлевича Антонова», где Григорьева переименовывают в Антонова). Для Тела художественного мира Хармса важнее сам факт существования, нежели способ существования.