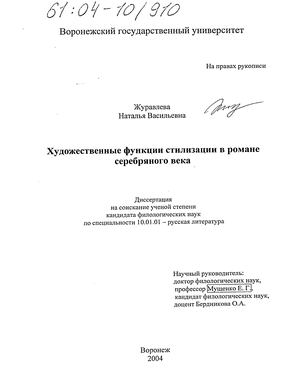Содержание к диссертации
Введение
2. Роман В.Брюсова «Огненный ангел» как воплощение мифа о познании с. 26
3. Поиск «истинной России» в романе А.Белого «Серебряный голубь» с. 77
4. Авантюрность как «формула мира» в романе М.Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» с. 123
5. Заключение с. 163
6. Список использованной литературы с. 170
- Роман В.Брюсова «Огненный ангел» как воплощение мифа о познании
- Поиск «истинной России» в романе А.Белого «Серебряный голубь»
- Авантюрность как «формула мира» в романе М.Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»
Введение к работе
Русская литература рубежа ХІХ-ХХ веков столкнулась с проблемой воплощения реальности, новизна которой определялась надвигавшимся социальным кризисом, специфическими настроениями в области общественной мысли, радикальными переменами в сфере духовного сознания российского общества.
Подъем общественных и духовных интересов, проявившийся во всех видах искусств и в философии, а также появление «душ очень чутких ко всем веяниям духа» (34, с. 685) позволили Н.Бердяеву назвать этот период русской истории «культурным ренессансом» (Там же, с. 684). Одним из определяющих признаков русского ренессанса, по его мнению, было появление нового типа человека, более ориентированного на внутреннюю жизнь: «Внутренний духовный переворот был связан с переходом от исключительной обращённости от «посюстороннему», которая долго господствовала в русской интеллигенции, к раскрытию «потустороннего»» (Там же, с. 685).
Традиция сосредоточенности искусства на видимой реальности социальных отношений прерывается тогда, когда наступает момент осознания потребности в исследовании мистической глубины реальности. В одном из первых манифестов символизма Д.С.Мережковский подчеркивает необходимость и определяет, как одну из задач нового искусства, восстановление «мистической связи человека с бесконечным» (210, с. 174).
Специфику видения реальности художника-символиста А.Белый раскрывает в своих рассуждениях о кризисе, проявившемся в современной жизни: «Мы чувствуем не только, что видим и осязаем, но и то, что никогда не видали глазами, не осязали органами чувств; в этих неведомых, несказуемых чувствах открывается перед нами мир трансцендентной действительности» (31, с. 210).
4 Закономерно, что это понимание реальности воплотилось в
специфической модели мира, представленной в символистском искусстве.
Мир, в понимании символистов, кроме своего реального измерения, обладает
некой мистической углубленностью, содержащей в себе подчас
первопричины всего, что проявляется вовне. Опирающийся на интуицию
художник, в отличие от носителя рационального сознания, познает
реальность во всей полноте ее как видимых, так и лишь ощущаемых,
угадываемых проявлений.
Субъектом познания реальности может быть также герой символистского произведения. Для осуществления этой функции он должен быть наделен более тонкой, чем у обычных людей, интуицией, стремлением к познанию тайн бытия, а также поставлен автором в ситуацию, когда граница между видимой и трансцендентной реальностями ощущается особенно остро. Таким образом, можно говорить о познавательной модели символизма, одним из компонентов которой является герой такого типа, а другим - видимая реальность, обнаруживающая свою мистическую подоплеку.
Символистская картина мира нашла свое воплощение в форме модернистского романа, который возникает в русской литературе раньше, чем обновленный реалистический роман.
Известно, что в конце XIX века жанр романа в русской литературе находится в кризисе, который проявляется не столько в отсутствии произведений этого жанра, достаточно полно представленного, например, писателями-натуралистами, сколько в ощущаемом образованным читателем их низком эстетическом уровне. Причиной такого ощущения было то, что авторы-романисты предлагали читателю произведения традиционной формы, которая ощущалась как неадекватная запросам современности. Сама же современность обладала всеми признаками «романной» эпохи - «эпохи наиболее драматичного отчуждения между человеком и миром» (272, с. 81) -требующей от писателя понимания действительности в единстве новых
5 формирующихся внутриобщественных, личностно-общественных связей.
Было очевидно, что романная форма нуждается в обновлении, которому
необходимо предшествует изменение концепции единства человека и мира,
определяющей современный для данной эпохи тип романного мышления
(126, с. 466).
Процесс жанрового обновления романа идет как внутри реализма, так и в модернизме. Сторонники и той, и другой эстетических систем сознательно отталкиваются от традиционного классического русского романа XIX века.
И, если обновление романа в этот период в реалистической прозе идет через малые эпические жанры, где, как устанавливает Е.Г.Мущенко (Мущенко, 1986), вызревает концепция единства человека и мира, то в модернизме автор «пытается сконструировать, алхимически синтезировать из разнородных осколков целостность жизни, миф бытия» (272, с. 81).
Авторы-модернисты больше чем реалисты преуспели в создании нового
романа: уже на рубеже веков появились произведения Д.Мережковского,
Ф.Сологуба, В.Брюсова, А.Белого. Очевидно, в немалой степени этому
способствовал универсализм, свойственный символистскому
миропониманию, требовавший художественной формы, которая соответствовала бы этой установке. И символисты вполне закономерно пришли к роману, который «никогда не ограничивается исследованием отдельных граней или процессов действительности...Его интересуют именно связи между гранями и процессами жизни, он ищет «всеобщую связь явлений»» (169, с. 140).
Необходимо заметить, что при том уже немалом количестве работ (большинство из которых написаны уже в постсоветсткое время, так как прежде отечественное литературоведение сосредоточивалось на искусстве реалистическом), посвященных искусству модернизма в России, концептуальных исследований жанра модернистского романа не так много. Очевидно, этот факт объясняется тем, что большая часть прозы русского модернизма, за исключением отдельных романов, например, «Петербурга»
А.Белого, «Мелкого беса» Ф.Сологуба, которым и посвящались литературоведческие труды, не имела эстетической ценности в глазах критиков и литературоведов (126, с. 521). Разумеется, говорить о явлении русского модернистского романа на основе изучения нескольких произведений не считалось целесообразным.
Но при всех различиях в путях достижения результата — создания новой романной формы, и реализм, и модернизм (последний в большей степени) в построении ее прибегают к использованию элементов «чужих» литературных форм (как относящихся к другому времени, так и принадлежащих другим авторам) - то есть к стилизации.
Давно установлено, что стилизация активизируется в период «интенсивного разрушения окостеневших эстетических систем, что часто выливается в борьбу с традиционными методами, жанрами, стилями, в формирование новых эстетических концепций, течений» (229, с. 69). В этот период стилизация, с одной стороны, содействует упрочению традиций, обеспечивает преемственность культуры, «сохраняет старое для нового» (178, с. 239), а с другой, проверяет традицию на прочность. Например, эстетизм XX века, по выражению Л.Гинзбург, «возвращал искусству традицию, но с другого хода - через стилизацию» (66, с. 79).
Тяга к стилизации - к использованию стилистических приемов другого времени, обращение к «чужим» авторским стилям, стилизация элементов формы другого искусства - была явлением, в значительной степени определившим своеобразие литературно-художественного процесса рубежа веков. Под ее влиянием оказались не только литература, но и живопись, и театральное искусство, и музыкальное творчество. Причем во всех сферах искусства это было связано, в первую очередь, с отношением к художникам-предшественникам, с решением вопроса о наследии, о ближайшей традиции, выразившей себя в искусстве XIX века.
Художники «Мира искусств» противопоставляют себя передвижникам, всему демократическому искусству прошлого, чье показное
7 «направленство», по выражению А.Бенуа, было «оплеухой Аполлону» (145,
с. 137). «Ретроспективными мечтателями» назвал С.Маковский
«мирискусников» за преобладание в их журнале интерпретаций
художественных сокровищ прошлого и нападки на современных
художников-реалистов, и это определение имело в начале века весьма
широкое хождение. В творчестве конкретных художников ретроспективность
выразилась в живописном «фантазировании» в определенном, чаще
устаревшем, стиле. В галантных сценах картин К.Сомова проявляется
иронически интерпретированный стиль рококо, в его же «Арлекине и даме» —
стилизация мотивов итальянской комедии масок. Произведения Е.Лансере,
предпочитавшего в начале века несовременные сюжеты, отнесены к
разновидности «исторических стилизаций» (337, с. 155). А.Бенуа, также
отдававший предпочтение историческим сюжетам, но уже из времен
Людовика XIV и Петербурга XVIII- начала XIX веков, воплощает их
отчасти средствами стиля ландшафтной живописи, характерного для
русского искусства рубежа XVIII-XIX веков. Знаменитый «билибинский
стиль» сложился на основе «стилизации мотивов народного лубка, вышивок,
резьбы по дереву, древнерусской миниатюры» (Там же, с. 35).
Игорь Стравинский, автор музыкальных произведений, эпатировавших в
свое время утонченных меломанов, в 10-е годы создает балет
«Пульчинелла», стилизуя целые его фрагменты под музыку Перголези. Сам
он объясняет свои попытки стилизовать музыку XVI-XYIII веков желанием
убежать от предшественников в музыке - романтиков. «Романтика, - пишет
он, - есть достояние XIX века, а мы живем в противоположную эпоху» (120,
с. 53). «Романтическая музыка исходит из чувств и фантазии, моя исходит из
движения и ритма» (Там же, с. 81). Сам же факт обращения к музыке
предшественников Стравинский считает вполне закономерным явлением в
периоды поиска нового музыкального языка: «Не имеем ли мы здесь, в
сочинениях, которые заслуживают определенного внимания и которые
8 сочинены под влиянием музыки прошлого, скорее дело с поиском, нежели с
простой имитацией так называемого «языка классики»» (Там же, с. 78).
Кроме того, И.Стравинский не избежал другого увлечения эпохи: он пытается стилизовать в своей музыке не только «чужие» музыкальные формы, но и формы другого искусства, что лежало в русле решения общей задачи модернизма - создания синтетического искусства. Свои «японские романсы» он сочиняет на подлинные японские стихотворения VIII и IX веков, что уже было способно шокировать публику, не привыкшую к такой литературе. Но эксперимент не ограничивается лишь попыткой расширить жанровые границы романса привлечением этих «странных» стихов. Композитор пытается передать в музыке и стиль японских стихотворений: такому их свойству, как отсутствие ударений, он находит в музыке соответствие — отсутствие акцентов, что приводит, по его мнению, к ощущению у воспринимающих такое музыкальное произведение своеобразной «линейной перспективы японской декламации» (Там же, с. 20). Синтезом искусств также увлекается современник И.Стравинского композитор А.Скрябин, прибегая для этого к стилизации. Его деятельность в контексте общих для эпохи поисков синтетического искусства подробно рассматривает И.Минералова (212).
В обсуждениях эстетических программ, в философских дискуссиях, посвященных будущему искусства, в начале века понятия «стилизация» и «синтез», как правило, употребляются в одном ряду. Например, С.Городецкий пишет в своей статье 1909 года: «Но необходимость теперь же найти пути для дальнейшего развития беллетристики заставляет искать синтеза самым разнообразным образом. Крайним выражением этого стремления может служить так называемый стилизованный рассказ. За последнее время он приобрел у нас права гражданства, между прочим, благодаря опытам Ауслендера. Сущность его сводится к упрощению общего рисунка и подчинению всего отдельным, тщательно отмечаемым подробностям» (74, с. 74).
Нельзя не заметить, что С.Городецкий несколько шире истолковывает
понятие «стилизация», чем это делает современное литературоведение. На отсутствие единства в истолковании этого понятия указывает и критик начала века: «Слово «стилизация», которое когда-то кто-то произнес шепотом, стало модным словом. С ним носятся как с писаной торбой и в области театра, и в области литературы - и те, кто примитивно понимает этот термин в смысле голого воспроизведения старины, грубой подделки старья, и те, кто правильно соединяет с этим термином идею символа, синтеза и условности» (121, с. 6).
А. Белый полагает, что стилизация есть разновидность схематизации действительности, неизбежной для искусства, не способного справиться с действительностью во всей ее полноте. «Благодаря такой схематизации, творец художественного произведения имеет возможность высказаться, хотя менее полно, но зато точнее, определеннее» (29, с. 90). То есть в исследуемый нами период под стилизацией понимали не только воспроизведение образа «чужого» стиля, но и новый способ отражения реальности.
Сходно понимал ее и В.Мейерхольд, полагавший, что стилизация должна стать основным художественным приемом нового театра. Он противопоставлял его приему копирования, «фотографирования» (207, с. 117), характерному для неприемлемого для него «натуралистического» (Там же) театра. Мейерхольд так определяет стилизацию: «Под «стилизацией» я разумею не точное воспроизведение стиля данной эпохи или данного явления, как это делает фотограф в своих снимках. С понятием «стилизация», по моему мнению, неразрывно связана идея условности, общения и символа. «Стилизовать» эпоху или явление значит всеми выразительными средствами выявить внутренний синтез данной эпохи или явления, воспроизвести скрытые характерные их черты, какие бывают в глубоко скрытом стиле какого-нибудь художественного произведения» (Там же, с. 109). По его мнению, стилизация должна стать основным методом создания образа мира
10 на сцене: натуру следует не фотографировать, а «синтезировать,
стилизовать» (Там же, с. 145), так как для зрителя особым эстетическим
удовольствием является процесс «добавления воображением
недосказанного» (Там же, с. 115). Натуралистический театр лишает его этого
удовольствия, из-за чего В.Мейерхольд ставит выше него даже примитивный
театр, как создающий более утонченное искусство, побуждающее зрителя к
сотворчеству: «Почему средневековая драма могла обходиться без всякого
сценического устройства? Благодаря живой фантазии зрителя» (Там же, с.
117).
Другой замечательный реформатор театра начала XX века,
Н.Н.Евреинов, создатель знаменитого Старинного театра, так объяснял
влечение своих современников к стилизациям: «Театрально-взыскательный
человек не в силах «ходить в гости» в наше время: его нервы не
выдерживают идентичности наших домашних «театров для себя». Его
влеченье за границу, на грязный восток, чуть не к «черту на кулички»,
вытекает порой из простого желания видеть вокруг себя иные одежды» (Цит.
по: 257, с. 104). Сам Н.Евреинов не только ставит старинные пьесы, но и
пытается реконструировать «старинного» зрителя и «старинного» актера со
всем набором «старинных» выразительных средств, соответствующих эпохе
средневековья. Причем он полагает, что возможно представить себе человека
того времени, уяснив тот принцип взаимоотношения между реальностью и
искусством, который создает стиль искусства средневековья, вообще, и
театрального действа, в частности. «Прежде всего, участвующие лица
понимают каждый воплощаемый ими тип определенно простым; ни с какой
сложностью характера они считаться не желают; раз действующее лицо
злодей, то уж злодей «без остатка»: в олицетворении таких наивных актеров
он страшен «до смерти», рычит зверем, таращит глаза, скалит зубы, должен
навести ужас не только на остальных участников, но и на зрителей; наоборот,
раз надобно изобразить «смешного малого», то уж такой актер не щадит сил,
чтоб позабавить публику, хотя бы совершенно неуместными гримасами,
прыжками, «выкрутасами», словом, снабжает воплощение комического типа всеми атрибутами клоунады» (Там же, с. 106). Средневековая публика, в отличие от современной, также представляется более наивной, с непосредственным энтузиазмом сочувствующей происходящему на сцене: «Средневековая толпа несомненно желала прежде всего все слышать и все уразуметь, что говорится со сцены; отсюда необходимость говорить громко, внятно и не торопясь; ни о каком «говорке», ни о каких «полутонах» не может быть и речи. Затем такая публика любила и требовала, чтобы актер старался, именно старался играть» (Там же, с. 106). В своем спектакле «Поклонение волхвов» режиссер, чтобы облегчить современному зрителю переход к средневековому восприятию, включает в пьесу своеобразное обрамление - средневековую толпу, следящую за событиями, разворачивающимися перед ней на паперти старинного собора. Таким образом он организует оригинальное действо — «театр в театре», в сущности представляющее собой стилизацию фрагмента средневекового быта.
Сам Н.Евреинов, как причину своего обращения к отжившим театральным формам, называет стремление преодолеть автоматизм восприятия известных предметов. Задачу современного театра он видит не столько в том, чтобы обратить внимание зрителя на то, что прежде оказывалось вне его зрения, а в том, чтобы изменить само зрение: «Чтобы возвратить интерес к надоевшему предмету, надо найти подход к нему, новые глаза для него. Нужен акт преображения не предмета, а нас самих в отношении к нему» (Там же, с. 107). Через стилизацию он возрождает театральные формы, утратившие свою актуальность для его современников, но представлявшиеся адекватными культуре и человеку определенного времени, соответствовавшие его пониманию мира. Помогая своему современнику в поисках «нового зрения», Н.Евреинов сознательно сбивает фокус его мировосприятия, демонстрируя его неабсолютность и неединственность. Через осознание этого факта, очевидно, полагает он, придет и потребность в поиске этого «нового зрения».
12 Г.Почепцов в своем исследовании «История русской семиотики»,
рассматривая деятельность Н.Евреинова по преобразованию театра, относит
ее к частному проявлению общего для русской культуры того времени
процесса поиска нового художественного языка (257). Значительные
изменения в идеологической сфере (науке, этике, религии, политике),
обозначившиеся на рубеже веков и повлекшие за собой изменение картины
мира, потребовали нового художественного языка, адекватного
изменившейся реальности. Словесное искусство этого периода особенно
активно отходит от «нейтральной повествовательной нормы» (228, с. 6) в
силу обострившегося несоответствия нового идеологического содержания
средствам художественного воплощения, предлагаемым ближайшей
литературной традицией. Стилизация в эту эпоху стала одним из средств
формирования адекватного изменившейся социальной и идеологической
реальности художественного языка.
Таким образом, в этот период через стилизацию искусство ищет новые художественные средства для отражения новой действительности, пытается обрести новый, «свой» стиль. Стилистическое разнообразие, господствовавшее в это время, «освобождая искусство от тирании одного стиля, сделало возможным возникновение в начале XX века новых течений в области театра, живописи, музыки, поэзии» (178, с. 238).
Формирование нового стиля через стилизацию и в рамках творчества отдельных художников, и в масштабах всего искусства целых периодов (как правило, кризисных) - закономерное для художественного процесса явление. Стилизация здесь выступает в своей традиционной, а не специфической для данного периода функции.
Закономерной была активизация стилизации и с точки зрения тех естественных колебаний, которым подчиняется жизнь художественного сознания. Ю.М.Лотман замечает, что для художественного сознания рубежа веков особенно была характерна «ориентированность на знаковое восприятие мира» (190, с. 75). Объяснение этому он видит не столько в изменении
13 внеположенной литературе реальности, сколько в закономерностях
существования художественного сознания, описываемых, по его мнению,
формулой «переход от риторической ориентации к стилистической» (Там же,
с. 72). Художественное сознание риторического типа стремится к
столкновению в пределах текста знаков разных систем, частным
проявлением чего является смешение стилей или обращение к
несовременному или чужому, по отношению к «нулевому» для эпохи, стилю.
В период доминирования риторического сознания ощущение структурной
значимости стиля в искусстве особенно явственно. Риторическое
художественное сознание сменяется стилевым, не допускающим стилевого
смешения в пределах одного текста, а значит, ослабляющее значение
категории стиля в данную эпоху.
Возможным распространение стилизации стало также в силу новых качеств эстетической культуры, проявившихся на рубеже веков и не характерных для предшествующего периода. Эти качества выразились, главным образом, в гибкости восприятия и эстетической терпимости (179, с. 227). Как следствие, расширяется «диапазон художественного опыта, который становится предметом рецепции» (133, с. 93) и осознается через стилизацию.
Несомненно, художественная культура рубежа веков, стремилась к самоосознанию, уяснению своего места в контексте мировой культуры, что выразилось в главенствующих тенденциях в развитии культуры на протяжении XX века, но определившихся в художественном и философско-теоретическом творчестве русских символистов: стремлением к новизне и обращенностью в прошлое, ориентацией на по-иному понимаемые, но в основном «классические» традиции (138). Классические традиции были представлены в литературе того времени через стилизацию, реминисценции, культурные отсылки.
Создается «диалогическая ситуация» (230, с. 72), необходимая для всякого переходного периода, характеризующегося состоянием временной
14 неустойчивости, преодолеть которую возможно лишь в том случае, если
вокруг окажется как можно больше «внешней, всеобъемлющей целостности
мира, культуры, искусства, литературы» (Там же, с. 72). К традиционному
фактору эстетической полноценности произведения - единству замысла и
воплощения - добавляется отношение к данному тексту как «части общего
культурного текста, авторская идея, таким образом, становится ценной не
столько сама по себе, сколько своей близостью к общим идеям, уже
существующим в других текстовых воплощениях» (Там же, с. 74).
Кроме того, широкое распространение стилизации в этот период было обусловлено тем, что она была одним из частных осуществлений в сфере искусства идеи синтеза, составлявшей культурную парадигму модернизма (62, с. 175). Художники, представлявшие это направление, мечтали о новом синтетическом искусстве - «инструментарии магического действа» (212, с. 52) - и искали пути воплощения этой мечты, преимущественно, через синтез жанров, стилей и даже разных видов искусств. И.Минералова особо подчеркивает тот факт, что явление стилизации не было новым для искусства, но в этот период она выполняла новую для себя функцию -способствовала синтезу искусств, формированию нового синтетического искусства (Там же, с. 173).
К числу специфических для России рубежа веков причин активизации стилизации следует также отнести следующую: актуальность проблемы культуры. По мнению Л.Колобаевой, «многие явления русской литературы серебряного века определялись по сути и по форме в зависимости от того, в каком отношении к проблеме культуры они стояли» (142, с. 117). Отношение символистов выразилось в идее «синтеза» культур, а также в ориентации на культуры классической древности (Там же). В художественной практике эти идеи воплощались, в том числе, в стилизациях и реминисценциях. Культура стала той «авторитетной и отстоявшейся средой преломления» (15, с. 235), которая вызвала необходимость оперирования условным словом. По выражению М.М.Бахтина, «в эпохи доминирования условного слова, прямое,
15 безоговорочное, непреломленное слово представляется варварским, сырым,
диким словом. Культурное слово — преломленное сквозь авторитетную,
отстоявшуюся среду слово» (Там же, с. 235).
Влияния феномена стилизации не избежали и представители реалистического направления в литературе. Например, А.В.Кубасов подтверждает этот факт своим исследованием, в финале которого делает вывод относительно творчества А.П.Чехова: «Стилизация — доминирующий конструктивный принцип стиля прозы Чехова. Она определяет основные особенности поэтики писателя и позволяет глубже постичь его художественную философию» (150, с. 384). Но известно и мнение самого авторитетного реалиста того времени, Л.Н.Толстого, о реминисцентности литературы, а также о стилизации, хотя он не оперирует этим понятием, высказанное в его знаменитой статье «Что такое искусство». Отделяя для себя истинное искусство от неистинного, он в числе приемов, которыми пользуется последнее, называет «заимствование», то есть использование в словесном творчестве «всякого рода легенд, саг, старинных преданий» (302, с. 129). Это лишь подобие творчества, по мнению Л.Н.Толстого, которое способны переваривать люди с извращенным эстетическим вкусом, но явление это весьма распространенное. Среди них есть откровенно глупые, пошлые и бездарные, но им отдают дань «люди начитанные и талантливые, да еще выработавшие технику своего искусства» (Там же, с. 129). Но в этом случае, по мнению Толстого, искусство лишается своего смысла, потому что художник не заражает читателя чувством, которое испытал сам. Он «передает только то чувство, которое ему было передано произведением прежнего искусства, и потому всякое заимствование целых сюжетов или различных сцен, положений, описаний есть только отражение искусства, подобие его, а не искусство» (Там же, с. 132).
Как было замечено выше, под стилизацией в начале XX века в некоторых ситуациях понимали нечто большее, чем в современном искусствоведении. А именно, нередко понятие «стилизация»
противопоставляли понятию «копирование», «фотографирование» реальности. Сегодня «стилизацию» скорее противопоставляют «копированию стиля». Имеет смысл определить объем понятия стилизации для наших дальнейших рассуждений.
Стилизацию в современном литературоведении определяют более или менее широко в зависимости от объема стилизуемого плана.
По классификации М.М.Бахтина стилизация относится к тем художественно-речевым явлениям, для которых характерно наличие двуголосого слова, направленного «и на предмет речи как обычное слово и на другое слово, на чужую речь» (15, с. 215). То есть под стилизуемым планом М.Бахтин понимает чужой словесный стиль, а именно, литературный стиль, что отграничивает стилизацию от сказа, воспроизводящего социально или индивидуально определенную речевую манеру.
Более широко определяет стилизацию В.Ю.Троицкий: «Стилизация — это сознательное, последовательное и целенаправленное проведение характерных особенностей разговорного стиля, присущего какой-то общественно-политической или этнографической группе, либо литературного стиля, свойственного писателю какого-то течения, занимающему определенную общественную или эстетическую позицию» (304, с. 168).
К.А.Долинин отталкивается от самого широкого определения стилизации: «Стилизация - намеренная и явная имитация того или иного стиля, полное или частичное воспроизведение его важнейших особенностей» (90, с. 255). При этом автор определения уточняет, что «термин «стилизация» обычно употребляется для обозначения особого типа авторской речи» (Там же), указывая тем самым на распространённость ограниченного традицией отечественного литературоведения понимания явления стилизации.
А.В. Кубасов также подчеркивает факт отсутствия единства в понимании стилизации у современных исследователей: «Говоря о стилизации, в одних случаях подразумевают жанр, в других она оказывается
17 синонимом процесса, в третьих — качеством литературного произведения, в
четвертых - неким конструктивным доминантным принципом стиля,
могущим проявляться в различных жанрах» (150, с. 6).
В дальнейшем мы намерены не ограничиваться узким пониманием стилизации, сводящим его лишь к обозначению особого типа авторской речи. Под стилизуемым планом мы будем понимать не только словесный стиль, но, прежде всего, художественный стиль. М.М.Бахтин так пишет о соотношении этих двух явлений: «Собственно словесный стиль (отношение автора к языку и обусловленные им способы оперирования с языком) есть отражение на данной природе материала его художественного стиля (отношение к жизни и миру жизни и обусловленного этим отношением способа обработки человека и его мира); художественный стиль работает не словами, а моментами мира и жизни, ценностями мира и жизни, его можно определить как совокупность приемов формирования и завершения человека и его мира» (16, с. 168).
Оттолкнувшись от утверждения, что объектом стилизации является стиль, уточним, что стилем обладают как социально и исторически определенная речь, так и литературные произведения конкретного автора, целого литературного направления, национальной литературы и т.д. Говоря о художественной словесности, необходимо помнить, что стилевое своеобразие отдельного произведения или их совокупности проявляется не только на речевом уровне, но «представителями» стиля могут выступать типичные для него мотивы, герои, характерные сюжетные ситуации, типичным также может быть художественное пространство, в пределах которого размещаются персонажи и совершаются действия. Тогда стилизация «вовсе не требует непременно цитат или полуцитат из реальных текстов художника, то есть реминисценций. Обрисовывается именно конфигурация стиля, стиль как принцип - словесное воплощение может быть продуктом творческой фантазии автора» (211, с. 234).
Для адекватной интерпретации произведений, использующих стилизацию, необходимо учитывать, что автор сознательно преломляет свои
18 интенции в «чужом стиле», преследуя определенные художественные и
идеологические цели. Таким образом, правильность истолкования
произведения напрямую зависит от того, будет ли обнаружена «среды
преломления» (15, с. 235), тот второй план, который, по замыслу автора,
является диалогизующим фоном для содержания первого плана.
Поскольку речь в настоящей работе пойдет о романе серебряного века, необходимо отметить, что исследований, посвященных прозе русских символистов, существует не так много, как трудов об их поэзии или философско-эстетических исканиях. О жанровом своеобразии романа в их творчестве написано еще меньше, чем об особенностях прозы вообще. Многочисленные работы, посвященные творчеству А.Белого, обязательно затрагивают его роман «Петербург», но говорят не столько о своеобразии символистского романа как жанра, сколько об этом вершинном произведении начала века, которое необходимо истолковывать, учитывая, что его автор один из писателей-символистов, а также теоретиков символизма в искусстве.
Рассмотрев романы В.Брюсова «Огненный ангел», А.Белого «Серебярный голубь» и Ф.Сологуба «Мелкий бес», Л.Силард справедливо отмечает, что проза русских символистов характеризуется взаимопроникновением лирики и эпики. Исследователь в своих рассуждениях отталкивается от утверждения, что символисты ставят перед собой задачу создания таких художественных структур, с помощью которых можно передать «характер соотнесенности временного, явленного с вневременным, «вечным»» (282, с. 266). В процессе анализа каждого романа Л.Силард устанавливает, в какой степени каждый из них выполняет эту задачу. Наиболее успешным, с этой точки зрения, по ее мнению, является роман Ф.Сологуба, в котором автору удалось перевести социально-историческую действительность в метафизический план. Но общий вывод исследователя заключался в признании, что русский символизм не сумел
19 создать романную форму, способную воплотить связь «временного» и
«вечного».
Но, по мнению С.Ильева и Н.Барковской, символистский роман все-таки сложился в определенную жанровую форму, представленную несколькими произведениями. Необходимо оговориться при этом, что Н.Барковская делает такой вывод с весьма существенной оговоркой, о чем будет сказано ниже. Выводы этих исследователей относительно своеобразия жанровой формы символистского романа содержатся в работах «Русский символистский роман» (С.Ильев, 1991) и «Поэтика символистского романа» (Н.Барковская, 1996).
С.П.Ильев считает символистский роман разновидностью романа модернистского. Но не все романы, написанные авторами-символистами, обнаруживают в себе жанровые признаки символистского романа, а значит, могут быть к нему причислены. «Модернистский роман можно назвать символистским только при условии, что в его системе фундаментальное место принадлежит категории символа и диалектически связанной с ней категорией мифа» (123, с.5). При этом С.Ильев опирается на понимание символа, представленное в работах А.Белого, согласно которому он не сводится только к образу, но «создается как результат развернутых эмблематических рядов - вербальных, логических, культурно-исторических, идеологических значений, символов и коннотаций <.. .> И символом будет не образ, а субъективное авторское представление переживаемого им эстетического феномена» (Там же, с. 7). Для того чтобы выяснить, имеем ли мы дело с символистскими романами, необходимо «подвергнуть анализу их композицию и структуру с точки зрения символа и мифа» (Там же, с. 5). По мнению С.Ильева, исследованные им романы Ф.Сологуба («Тяжелые сны» и «Мелкий бес»), В.Брюсова («Огненный ангел») и А.Белого («Петербург») обнаруживают в своей структуре признаки жанра символистского романа — «эмблематические ряды», выстраивающиеся в символистский миф о реальности. В тексте такого типа «ряд разворачивается как вербальные
20 обозначения — знаки абстрактных (аниконических) и конкретных
(иконических) явлений, завершающихся безобразным обобщением универсального масштаба (в пределах изображенной в произведении действительности)» (Там же, с. 158).
Н.Барковская указывает на то, что ее предшественником в изучении символистского романа (С.Ильевым) не решена задача «выявления взаимосвязи художественных структур, свойственных отдельным произведениям» (11, с. 4). Последовательно проанализировав романы Д.Мережковского (составившие трилогию «Христос и Антихрист»), Ф.Сологуба («Мелкий бес», «Творимая легенда»), В.Брюсова («Огненный ангел» и «античные» романы), А.Белого «Серебряный голубь», «Петербург», «Крещеный китаец», «Москва»), исследователь выделяет структурные принципы организации их произведений, воплощающие отдельные стороны художественно-философского мышления символизма: метаисторизм, антилогия, эйдетический принцип построения художественного мира, энергийность художественной формы, принцип ипостасности автора, героя и читателя. Но свое исследование автор, тем не менее, завершает неожиданным выводом (как нам представляется, не вытекающим из предшествующих рассуждений), что символистский роман не сложился в особый жанр со своими канонами, т.к. его суть не в устойчивости и завершенности (что требуется всяким жанром), а в стремлении выхода за пределы оформленного и воплощенного. Характерно устойчивым Н.Барковская находит то, что композиционно символистские романы складываются из двух уровней, причем для создания верхнего уровня содержания используются традиционные жанровые разновидности романа. Символистские романы, по ее мнению, обретают полноту только в контексте: историческом, культурно-художественном, биографическом. Кроме того, они не отделимы от поэзии их авторов: для каждого из прозаических произведений символистов существует поэтическая параллель, тематически связанная с определенным романом и необходимая для его истолкования. «Символистский роман» - это,
21 скорее, не жестко определенный жанр, а некое семантическое поле, некий
текст, состоящий из ряда произведений, написанных в одну эпоху, авторами
одного литературного течения и раскрывающих некий общий круг проблем
сходными художественными средствами в сходной структурной форме» (11,
с. 282).
В своем исследовании мы намерены использовать ценные выводы Н.Барковской о своеобразии формы отдельных романов авторов-символистов. Но в понимании жанра символистского романа мы будем основываться на определении С.Ильева, считая его достаточно логичным и закономерно вытекающим как из эстетических задач символизма, так и из убедительного анализа романов Ф.Сологуба, В.Брюсова и А.Белого, структурная однотипность которых представлена в работе этого исследователя как очевидность.
Для анализа мы берем три романа трех авторов-символистов. Роман «Огненный ангел» В. Брюсова, которого принято относить к числу так называемых «старших символистов» (некоторые исследователи называют его «главным автором литературно-эстетических концепций раннего русского символизма» (119, с. 172)). Следование за чужим стилем, как эстетический эксперимент, увлекает В.Брюсова еще в юношеские годы, когда он пытается «дописывать» известные произведения в стиле их авторов (226). К более позднему периоду относится его подражание-мистификация «Египетским ночам» А.С.Пушкина. Тонкое ощущение чужого стиля и талант стилизатора, «способность к «стилю» и форме» (68, с. 331) во многом определили специфику творчества В.Брюсова. Л.Силард так говорит об этом: «В его искусстве сказывается острая потребность мышления стилями, противопоставлявшаяся эпохой рубежа века «бесстильному» XIX веку не только в литературе, но и в живописи» (282, с. 268-269).
А.Белый, которого относят к числу «младших символистов», прибегает к стилизации в романе «Серебряный голубь», по поводу которого сам автор откровенно признавался, что тот явился «итогом семинария» по гоголевским
22 «Вечерам накануне Ивана Купалы» (25, с. 317). Этот роман и выбран нами
для исследования.
Также мы считаем логичным обратиться к одному из романов «последнего русского символиста» (106, с. 107) - М.А.Кузмина. Во-первых, потому что его автор также (даже в большей степени, чем В.Брюсов и А.Белый) отдает дань стилизации. В 1908 году, как считает В.Марков, термин «стилизация» «стал уже прочной частью критического лексикона и постоянным соседом или «имитации» и «подделки», или «эстетства»» (204, с. 136) в рецензиях на произведения М.Кузмина. У одних его современников стилизаторские опыты вызывали восхищение, например Б.Эйхенбаум называет его «мастером стилизации» (334, с. 349). А.Ахматова ставила это М.Кузмину в вину, так как видела в его стилизаторстве легкомыслие в отношении к литературному труду (232, с. 173). Но стилизаторский талант М.Кузмина ни у кого не вызывал сомнения.
Положение М.Кузмина относительно литературных школ и течений до сих пор остается неопределенным, каковым оно было и при его жизни. Как известно, его не признавали «за своего» ни символисты, ни акмеисты. О.А.Лекманов определяет ему место на периферии акмеизма — в «околоакмеистическом круге» (172, с. 46), но отмечает, что М.Кузмин раньше более последовательных акмеистов разрабатывает в своем творчестве «вариант противостояния изощренной сложности младосимволизма» (Там же, с. 47). Е.В.Ермилова, напротив, считает, что М.Кузмин был более последовательным символистом, чем многие из «бесспорных» символистов в «осуществлении в своем творчестве принципа «верности вещам», представляя как бы полюс в символизме. В его благоговейно-умиленном «приятии мира», уважения к «тварному» было мало общего с приятием мира акмеистами» (100, с. 124). Очевидно, что у М.Кузмина находились общие точки творческого соприкосновения как с символистами, так и с акмеистами.
23 Обоснованность своего намерения рассматривать роман М.Кузмина в
ряду романов авторов-символистов мы хотим подкрепить мнением
авторитетного исследователя закономерностей эволюции русского
символизма. З.Минц пишет о том, что М.Кузмин не может быть причислен
ни к «старшим», ни к «младшим» символистам, но «и организационно, и по
субъективному мироощущению, и в восприятии современников» (215, с.8) он
связан с символизмом. «Срединность» его положения была отражением
кризиса в символизме, что и делает творчество этого автора особенно
интересным для нас, так как позволяет исследовать эволюцию романного
жанра, а также значение стилизации в этом процессе в символистском
искусстве на его заключительном этапе. Для исследования мы возьмем один
из самых удачных его романов «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа
Калиостро». При этом следует особо оговорить тот факт, что выбранный
нами роман не относится к жанровой разновидности символистского романа
в том его понимании, которое предлагает С.Ильев.
Актуальность настоящего диссертационного исследования
определяется тем, что в нем на материале модернистской романной прозы
осуществлена попытка изучения явления стилизации, широко
распространенного в художественной культуре России конца XIX — начала XX века.
Исследователи, изучавшие модернистский роман конца XIX - начала XX века (Л.Долгополов, Л.Силард, С.Ильев, Н.Барковская), не сосредоточивались на проблеме стилизации и на том, какова ее роль в формировании жанрового своеобразия модернистского романа. Исключение составляют работы, в которых затрагивается вопрос о функциях стилизации в романе А.Белого «Серебряный голубь»: это «Поэтика сказа»(1987), авторы которой (Е.Мущенко, Л.Кройчик, В.Скобелев) определяют значение сказовой стилизации в этом произведении; статьи К.Сёке «Двуплановость и две формы повествования романа Андрея Белого «Серебряный голубь»»(1977) и
24 В.М.Паперного «Андрей Белый и Гоголь»(1983), посвященные выявлению
значения стилизации гоголевских текстов в нем.
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении феномена стилизации как 1) жанрообразующего фактора модернистского романа в русской литературе; 2) способа реализации принципов русского символизма на разных этапах его существования; 3) фактора, формирующего художественный мир писателей (В.Брюсова, А.Белого и М.Кузмина), представляющих различные тенденции символизма.
Цель диссертации - определить, функции стилизации в произведениях названных писателей.
Цель исследования диктует свои задачи:
1. Осмысление проблемы стилизации в литературе и художественной
культуре Серебряного века.
2. Определение степени воздействия стилизации на структуру романов
указанных авторов на разных этапах существования символизма.
3. Выяснение тех эстетических и поэтико-структурных задач, которые решаются в романах этих авторов посредством стилизации.
Методологической основой исследования послужили философские и литературоведческие работы, в которых рассматривается специфика художественного сознания конца XIX - начала XX века в России (Вл.Соловьев, Н.Бердяев, Л.Долгополов, Г.Стернин, Г.Почепцов и др.), работы по теории стилизации (Ю.Тынянов, М.Бахтин, П.Сакулин, Ю.Лотман, В.Троицкий, К.Долинин, Ю.Минералов, И.Минералова, А.Кубасов и др.), труды по истории и теории символизма (Е.Ермилова, А.Пайман, Л.Колобаева, А.Ханзен-Леве, З.Минц, Н.Пустыгина, И.Минералова, В.Сарычев и др.), исследования, посвященные возникновению и становлению романа как жанра (М.Бахтин, Е.Мелетинский, В.Кожинов, Н.Рымарь, Н.Лейтес), работы о русском модернистском романе (Л.Долгополов, Л.Силард, С.Ильев, Н.Барковская и др.).
Анализируя художественные тексты, мы руководствовались историко-литературным, сравнительно-типологическим и структурно-семантическим методами, разработанными в трудах М.Бахтина, Д.Лихачева, Ю.Лотмана, С.Ильева и др.
Объектом исследования стало явление стилизации и ее роль в формировании жанра модернистского романа и образа мира в романной прозе В.Брюсова, А.Белого, М.Кузмина.
Предмет работы — романы «Огненный ангел» В.Брюсова, «Серебряный голубь» А.Белого, «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» М.Кузмина, а также теоретические работы указанных авторов.
Теоретическая значимость работы заключается в установлении значения стилизации для модернистского романа русской литературы.
Практическое значение. Наблюдения и выводы, предложенные в диссертации, могут быть учтены в дальнейших исследованиях по теории романа, а также при изучении творчества В.Брюсова, А.Белого и М.Кузмина и других писателей Серебряного века. Материалы работы могут быть использованы в вузовских курсах, спецкурсах, семинарах по истории русской литературы, в школьном преподавании литературы.
Положения, выносимые на защиту:
Русский модернистский роман, будучи жанром, откликавшимся на любые значимые события современной жизни, активно использовал стилизацию как фактор художественного познания в период рубежа XIX-XX веков.
Присутствие стилизации в исследуемых романах обусловлено общей для символизма тенденцией восприятия и переживания реальности как искусствоподобного феномена. Но в каждом из них стилизация также выполняет функцию воплощения мировидения, характерного как для конкретного автора, так и для того этапа эволюции русского символизма, которое он представляет.
3. В романе В.Брюсова «Огненный ангел» стилизация является
средством художественного воплощения идеи о свободном от всякого рода догм стремлении к познанию как универсальном свойстве человека.
В романе А.Белого «Серебряный голубь» стилизация служит основным средством воссоздания образа реальности как процесса приобщения героя и автора к народной истине.
Стилизованно воссозданный «авантюрный» мир романа М.Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» выразил исчерпанность познавательной модели символизма в постсимволистскую эпоху.
Роман В.Брюсова «Огненный ангел» как воплощение мифа о познании
Роман «Огненный ангел» - первое произведение В.Брюсова крупной эпической формы на историческую тему, за которым последуют его знаменитые «античные» романы. Исследователи, высказывавшиеся по поводу «Огненного ангела» (Ясинская, 1964; Чмыхов, 1974; Пуришев, 1974; Гречишкин, 1980; Белецкий, 1993), как правило, оценивают это произведение, принимая за жанровую норму традиционный исторический роман. Поэтому они склонны фиксировать, как фактор положительный, момент совпадения брюсовского романа со стандартом исторического жанра, и с неудовлетворением отмечают факты уклонения от образца. В результате автор получает упреки за «антиисторизм» своих исторических романов, а также в стилизации истории.
История была одним из самых серьезных увлечений В.Брюсова с ранней юности, о чем он вспоминает в своей автобиографической повести: «Ни одна наука не произвела на меня такого впечатления, как внезапно открывшийся мне мир прошлого. Это впечатление имело значение для всей моей жизни» (48, с. 34). Позднее этот интерес будет способствовать сближению В.Брюсова с издателем «Русского архива» П.И.Бартеневым, представлявшим собой «живую историю» пушкинской поры. Под его влиянием Брюсов обратится к собирательству исторических грамот, автографов, писем, рукописей, официальных бумаг (226). В дальнейшем интерес к историческим сюжетам и персонажам проявится в стихотворном сборнике «Tertia Vigilia» (главным образом, в цикле «Любимцы веков»). В это же время выстраивается его концепция истории человечества, которую он впоследствии изложит в цикле статей «Учители учителей». Отсчитывая историю от легендарной Атлантиды, В.Брюсов представляет ее как «четыре гигантских круга» (Здесь и далее ссылки на произведения В.Брюсова даются по изданию, обозначенному в списке литературы под № 47, с указанием номеров тома и страниц; VII, 436): предполагаемый им век Атлантиды, раннюю древность, античную древность и современный мир, который внутри себя разделяется на средневековье, Новую Европу и новейшую эпоху. События, совершающиеся на границах исторических «кругов», идентичны по своей форме и сущности. Влияния предшествующей эпохи на последующую также одинаковы: «Мы учились у античности, античность у ранней древности, ранняя древность — у Атлантиды» (Там же, 437). Согласно брюсовской концепции, современная ему эпоха представляет собой один из этапов усвоения опыта античности как в сфере духовной, так и материальной. Первой приступила к его освоению эпоха средневековья, в течение которой античное влияние еще не является всеобъемлющим, но Европейское Возрождение уже открыто «провозглашает Элладу и Рим источником всякой мудрости» (Там же, 436). Таким образом, обозначаются поворотные, исторически насыщенные, с точки зрения В.Брюсова, периоды человеческой истории, которые станут предметом художественного освоения в его «античных романах», а также в романе «Огненный ангел». Необходимо заметить, что концепция истории В.Брюсова является выражением общей для «символистов-неоклассицистов» (142, с. 118) идеи «синтеза» культур. По мнению Л.А.Колобаевой, проблема культуры стоит в центре внимания художественного сознания эпохи рубежа. По специфике отношения к ней, а точнее, по способу разрешения проблемы «личность и культура» исследователь разделяет представителей символистского искусства на неоклассицистов и романтиков (Там же). Символисты-неоклассицисты, к которым она причисляет В.Брюсова, И.Анненского, Вяч.Иванова, Д.Мережковского, основывались в своем творчестве на идее «синтеза» культур, а также отличались от символистов-романтиков ориентацией на художественные культуры классической древности. Содержание идеи «синтеза» культур, по мнению Л.А.Колобаевой, было следующим: «Через приобщение к ценностям мировой культуры, взятой в самом крупномасштабном ее измерении и предполагаемом новом «синтезе», мыслилось возможным восстановление сильной личности, «возрождение» человека. Точками отсчета, элементами «синтеза» здесь брались в разных комбинациях идеи Возрождения и античности — начала классики в самой широкой интерпретации» (Там же, с. 120). Исторический принцип, выдвигаемый неоклассицистами, предполагал обращение к истории далеких времен с целью их «синтезирования», «особой художественной обработки, извлечения вечных аналогий, вечных символов» (Там же, с. 119). При таком очевидном у В.Я.Брюсова интересе к истории закономерным было появление в его творчестве романа на историческую тему. Учитывая же особый символистский подход к историческому прошлому человечества, следовало ожидать, что специфичность взгляда на историю найдет свое отражение и в необычной повествовательной форме. Роман «Огненный ангел»(1908) был встречен большинством критиков с недоумением из-за отсутствия эстетического критерия его оценки: ни под одно из существовавших жанровых определений он не подходил. «Для исторического романа он был слишком фантастическим, для психологического - слишком неправдоподобным» (226, с. 421). Необходимо заметить, что исторический роман к концу XIX века был представлен второстепенными и даже бульварными романистами. Его усовершенствование стало возможным благодаря усилиям символистов, прежде всего - Д.С. Мережковского (175, с. 503). Критик А.Измайлов, оценив утонченность брюсовской стилизации, упрекнул автора за то, что тот превращает творчество в игру, оценить изящество которой способны немногие из современных читателей. Он пишет: «Такие вещи оценивают только те, кто чувствует стиль. Так красоту старого фарфора почувствует только любитель. У нас одинаково мало и любителей и на старый фарфор, и на литературные утонченности. Три четверти русских читателей чувствуют только фабулу, в лучшем случае быт» (121, с. 20).
Эстетическая ценность романа «Огненный ангел» оказалась бесспорно очевидной лишь для самых тонких и дальновидных критиков этого времени. Справедливо будет оговориться, что благосклонность к этому произведению проявили главным образом критики, исповедующие принципы символистской эстетики. Например, М.Кузмин высоко оценил в статье 1910 года «Художественная проза «Весов»» сочинение В.Брюсова, увидев в нем произведение, развивающее жанр исторического романа (152, с. 86). Восторженно воспринял «Огненного ангела» А.Белый, усмотрев в нем не столько произведение на историческую тему, сколько воплощение оккультного содержания, спрятанного под «исторической амуницией» (27, с. 378). В этом произведении, по его мнению, рассказывается о том, «о чем нельзя говорить, не закрываясь историей» (Там же, с. 379).
Поиск «истинной России» в романе А.Белого «Серебряный голубь»
Роман «Серебряный голубь», как и большинство прозаических произведений русских символистов, стал предметом серьезного исследования не так давно. Л.Силард (1984), рассматривающая его в контексте символистской романистики, объясняет своеобразие формы этого романа задачей, которую ставит перед собой автор — отвлечь внимание читателя от того, о чем рассказывается, на то, как об этом рассказывается. Стилизация и пародия повествовательных форм должны создать впечатление итоговости, что на языке форм выразит авторскую идею о конце «петербургского» периода. Интересные выводы исследователя мы намерены использовать в нашей работе, принимая во внимание то, что Л.Силард делает их на основе учета лишь одной из художественных задач, решаемых романом (282). Л.Долгополов (1988) рассматривает «Серебряного голубя», прежде всего, как стилистический переход от всего, что было написано А.Белым до романа «Петербург», к этому вершинному во всей символистской прозе произведению. По мнению исследователя, в «Серебряном голубе» были выработаны те стилевые приемы, которые позволят автору воплотить свое видение событий, совершающихся в России в начале века. Именно в этом произведении уже «налицо образы-характеры, обобщенно-символические, а не только типические, действующие в обобщенно же символических обстоятельствах, долженствующих в многозначительной форме обрисовать нынешнее - больное, ненормальное — положение России» (88, с. 193). Обобщений большего масштаба по поводу формы «Серебряного голубя» исследователь не делает, так как его работа посвящена другому произведению А.Белого - роману «Петербург».
Н.Барковская (1996) видит своеобразие формы романа в том, как в нем соотносятся конкретно-исторический и обобщенно-символический уровни содержания. Первый, по ее мнению, связан с фабулой, и он есть проявление субъективной линии романа. Второй - «пантеистический» - выражает объективное содержание романа. В их синтезе, осуществленном романом, исследователь видит соединение «Я»-индивидуального и «Я»-народного, то есть решение той задачи, которую ставили перед собой младосимволисты как в философском, так и эстетическом аспектах. Несмотря на то, что Н.Барковская делает множество замечательных выводов относительно того, как мировоззренческие идеи символизма воплощаются в отдельных сторонах романной формы, она отрицает жанр символистского романа как вполне определившийся, а значит, не рассматривает его в свете той символистской «формулы мира», которая этим жанром зафиксирована (11). Мы в наших дальнейших рассуждениях намерены рассматривать роман «Серебряный голубь» как символистский в том понимании этого жанра, которое предлагается С.Ильевым (123).
Роман «Серебряный голубь» (1909 г.) знаменует отход А.Белого от «симфоний», характеризующихся разрозненностью событий, объединяемых системой лейтмотивов, к традиционному фабульному типу повествования. В новом произведении он отчасти отказывается от открытого им «орнаментального» стиля, но обращается не к некоему «среднему» эпическому стилю, характерному для предшествующей литературы, а прибегает к стилизации.
Современники сразу же обратили внимание на явные «заимствования» у авторов-предшественников, присутствующие в романе, и отреагировали на это по большей части неодобрительно. Критик В.Л.Львов-Рогачевский с негодованием пишет о той стилевой манере, в которой написан роман: «Что он только делает со своим стилем? Он точно нарочно коверкает его; он так расставляет слова, чтобы у вас явилась скорее охота бросить книгу, покончить с ломанием. Кроме «магии слов», кроме словесной ворожбы, у Андрея Белого в этой повести постоянное желание писать под Гоголя. Получается сплошная пародия на юмор Гоголя, на его лирические отступления, на его гиперболы. ... Повесть ведется то от лица автора, то от лица какого-то гоголевского мещанина» (196, с. 170). Критики чаще указывали на гоголевские мотивы, но иногда прибавляли к Гоголю Достоевского, Тургенева и Сологуба (161, с. 279).
Гоголевский пласт проявился в творчестве А.Белого задолго до «Серебряного голубя» в его философско-эстетических статьях, а также в рассказе 1908 года «Адам», в главном герое которого угадывались черты гоголевских персонажей. В статье «Гоголь» А.Белый характеризует Гоголя как замечательного стилиста, объединяя его с Ницше: «Быть может Гоголь и Ницше - величайшие стилисты всего европейского искусства, если под стилем разуметь не слог только, а отражение в форме жизненного ритма души» (29, с. 371). Кроме того, А.Белый ценил творчество Гоголя за то, что в нем выразилось близкое ему видение России и человека, существующего на грани видимого и тайного миров. Хотя, вернее было бы сказать, что тот образ России, который создал Гоголь, был близок А.Белому потому, что позволил на его основе развивать собственную концепцию истории и судьбы России. Известно, что взаимоотношения автора «Серебряного голубя» (как и многих других символистов) с текстами литераторов-предшественников складывались именно таким образом. А.Лавров считает, что творчество Гоголя для А.Белого было «такой же органической почвой для построения собственных художественных структур, какой некогда служили для великих древнегреческих трагиков мифологические сюжеты» (161, с.283). Как узнаваемы мифологические сюжеты, так же очевидны для читателя в «Серебряном голубе» отсылки к Гоголю. В фамилии Гуголева явно слышится Гоголь, генерал Чижиков не только фамилией сходен с Чичиковым, но и своей таинственностью: в Чичикове подозревают капитана Копеикина, в Чижикове генерала Скобелева или разбойника Чуркина. Образ Кудеярова ассоциируется с колдуном из «Страшной мести». Фамилия «Гуди-Гудай-Затрубинский» построена по гоголевской модели, «Степан Иванов и Иван Степанов» напоминают гоголевских Кифу Мокиевича и Мокия Кифовича.
Авантюрность как «формула мира» в романе М.Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»
Романом «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» (1919) начиналась, по замыслу автора, большая повествовательная серия «Новый Плутарх», героями которой должны были стать Александр Македонский, Шекспир, Декарт, Вергилий, Сведенборг, Моцарт, Гофман, Сомов, Мусоргский, Ван Гог, Бальзак. Пушкин, Лесков, Данте и т.д. Известно, что, кроме истории о Калиостро, был начат роман о Вергилии, но был ли он окончен - неизвестно (39, с. 184).
Чем одиозная личность самозванного графа Калиостро привлекла к себе внимание М.Кузмина и почему он решил отразить события его биографии наряду с жизнеописаниями людей, безусловно заслуживших это в глазах человечества? По воспоминаниям одного из современников М.Кузмина, обсуждавшего с ним личность загадочного итальянца, того не интересовали оккультные опыты Калиостро, на чем, возможно, сосредоточился бы В.Брюсов, окажись он автором романа. Он был увлечен и вдохновлен «романтическим энтузиазмом» (326, с. 242) великого авантюриста, «пафосом его фантастических инициатив, торжествующей удачей его раскаленной воли, легендарным ореолом, который его обессмертил, и трагическим его концом» (Там же). По свидетельству мемуариста, Калиостро интересовал М.Кузмина как герой легенды, а значит, явление эстетическое, а не как исторический тип, появление которого было закономерным для европейского XYIII века.
В 1884 году в Петербурге была издана книга Е.П.Карновича «Замечательные и загадочные личности XYIII и XIX столетий», представлявшая собой сборник биографических очерков, один из разделов которой был посвящен визиту Калиостро в Петербург. В изложении Е.П.Карновича исторические факты переплетаются с мемуарными свидетельствами очевидцев, с зафиксированными современниками слухами и сплетнями, которые создавались вокруг знаменитого на всю Европу чародея. По мнению автора очерка, Калиостро был, безусловно, талантливый мистификатор, гипнотизер, но в большей степени ловкий обманщик. Очевидно, М.Кузмину было известно это популярное издание, так как в романе и книге Е.Карновича множество фактологических совпадений, начиная от географии перемещений и пунктов остановок Калиостро и заканчивая особенностями его личных взаимоотношений с теми или иными историческими деятелями, сведения о которых доставлялись слухами и сплетнями. В основе фабулы романа лежит реальная жизненная история знаменитого итальянского авантюриста XYIII века, путешествовавшего по Европе под именем графа Калиостро. Субъектом повествования в романе является некий хроникер-историк (проявляющий себя в трех книгах романа), что оговаривается во «Введении», в котором автор еще ненаписанных пятидесяти биографий высказывает свои соображения о действительном значении истории и ее соотношении с жизнью отдельного человека. Под историей он подразумевает «общую эволюцию, общее строительство Божьего мира» (с. 307; здесь и далее текст романа М.Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» цитируется по изданию, означенному в списке литературы, с указанием страниц). А далее обещает, что откроет для читателя в жизнеописаниях своих героев «то, что лишь самый внимательный, почти посвященный чтец вычитает из десятка хотя бы самых точных и подробных фактических биографий, - единственное, что нужно помнить, лишь на время пленяясь игрою забавных, трагических и чувствительных сплетений, все равно, достоверных или правдоподобно выдуманных» (с. 307). То «единственное», что важно в биографии, по его мнению, это «пути Духа, ведущие к одной цели, иногда не доводящие и позволяющие путнику свертывать в боковые аллеи, где тот и заблудится несомненно» (с. 307). Рассуждения автора об истории представляют собой схематичное изложение тех сторон философско-эстетической концепции символизма, которые касались определения соотношения мира и человека. Символизм, как известно, рассматривает человека в самом крупномасштабном как пространственном, так и временном измерении, возводя даже сугубо частные события его жизни до уровня мироздания, и объясняя их с точки зрения механизмов, управляющих им. Таким образом, автор словно задает параметры, в которых будет рассматриваться биография Калиостро, ориентируя читателя на восприятие ее с точки зрения символизма. Но по прочтении романа выяснится, что заявление, содержащееся в Введении, не только не получило эстетического воплощения, но даже было опровергнуто одним из замечаний повествователя, поводом для которого стало понимание слова «странствия» применительно к жизнеописанию героя: «После Лондона Калиостро больше года провел в странствиях, хотя вся жизнь его со времени отъезда из Рима - не что иное, как странствие, не только в том смысле, что всякий рожденный человек есть путник на земле, но и в смысле самого обыкновенного кочевания с места на место» (с. 334). В этом фрагменте ощущается ирония, объектом которой является традиция рассматривать события внешней жизни в символическом ракурсе. Полагаем, что эстетическая игра традициями символизма сочетается с игрой традициями авантюрно-плутовского повествования. На протяжении всего романа повествователь довольно последовательно имитирует манеру серьезного биографа. Он точно отражает факты жизни реального прототипа своего героя, связанные с его географическими перемещениями, аккуратен в указаниях времени его пребывания в том или ином городе. Но, очевидно, что авторское обещание сообщить нечто такое, что невозможно вычитать из самого подробного жизнеописания (а биографии многих потенциальных персонажей «Нового Плутарха» были широко известны), должно было и заинтриговать читателя и сориентировать его на восприятие произведения, не обычного, с точки зрения традиционного биографического жанра. Само название романа, содержащее определение «чудесное», заключало указание на присутствие жанра, не совместимого с «серьезной» биограф ией - на авантюрное, приключенческое повествование. А довольно энергичное начало, в котором читатель сразу же знакомится с главным героем, задавало интенсивный темп развития действия, характерный для авантюрного романа. Полагаем, что автор романа о Калиостро намеренно обращается к форме авантюрного романа, стилизуя его основные структурные особенности. В основных определениях этого жанра мы будем опираться на классификацию, изложенную в работе «Формы времени и хронотопа в романе» (14). В ее основу М.М.Бахтин кладет особенности освоения пространственно-временных отношений в художественном произведении и принципы оформления главного героя.