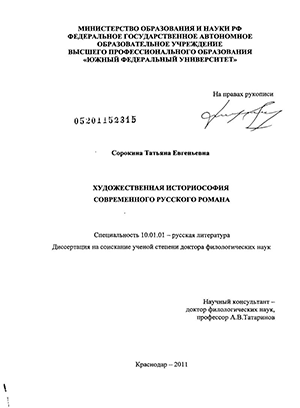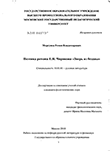Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Художественная историософия как теоретическая проблема 14
1.1 Художественная историософия как предмет современных диссертационных исследований 14
1.2 «Бесконечный тупик» Д. Галковского и становление проблемы «художественной историософии» 21
1.3 Критерии идентификации литературного текста как историософского художественного дискурса 27
1.4 Русская философия истории: архетипы духовного движения и восприятия судьбы национального мира 31
1.5 История и художественная литература: формы контакта и взаимодействия 38
1.6 Проблема метода и жанра историософского художественного произведения 48
1.7 Религия и художественная историософия 59
1.8 Дидактические аспекты художественной историософии литературного произведения 69
Выводы 80
Глава II. Художественное становление национально-исторического архетипа «русский мир» в современной прозе 83
2.1 Становление архетипа «русский мир» в художественной историософии «патриотического проекта» 84
2.2 Становление архетипа «русский мир» в художественной историософии «либерального проекта» 111
Выводы 135
Глава III. Авторские стратегии и фабульные аспекты историософии современного русского романа 137
3.1 Современный романист и его стратегии в контексте художественной историософии 140
3.2 Фабульный уровень современного историософского романа 161
Выводы 220
Глава IV. Поэтика ключевых сцен и речевые стратегии в историософском пространстве современного русского романа 224
4.1 Поэтика историософского сюжета в романах «патриотического проекта» 224
4.2 Поэтика историософского сюжета в романах «либерального проекта» 287
Выводы 329
Глава V. Историософские доминанты современного русского романа 332
5.1 Концептуализация историософской идеи в романах «патриотического проекта» 332
5.2 Концептуализация историософской идеи в романах «либерального проекта» 388
Выводы 432
Заключение 437
Библиография 453
- «Бесконечный тупик» Д. Галковского и становление проблемы «художественной историософии»
- Становление архетипа «русский мир» в художественной историософии «либерального проекта»
- Поэтика историософского сюжета в романах «патриотического проекта»
- Концептуализация историософской идеи в романах «патриотического проекта»
Введение к работе
Актуальность исследования. В последние десятилетия все активнее обсуждаются признаки кризиса художественной литературы, которая испытывает серьезную конкуренцию со стороны иных форм духовно-эстетической информации. Сакраментальные речи о том, что «читать стали меньше», касаются не только нравственного уровня современного человека, но и разнообразия вариантов получения знаний и организации досуга. Одной из форм актуализации литературного процесса является активное стремление писателя и созданного им текста решать проблемы, естественным образом повышающие статус художественного произведения путем включения его в контексты, требующие активного взаимодействия литературы с философией, религией, историей. В случае успешного, качественного взаимодействия литературное произведение, оставаясь в рамках эстетического процесса, расширяет сферы своего влияния, возвращает себе те функции, которые отличали классическую литературу XIX века, определявшую общее состояние словесности, формирующую ее доминантные признаки.
Избранную проблематику актуализирует единство следующих трех обстоятельств. 1) Литературные произведения, создаваемые в России на рубеже XX-XXI веков, часто обращаются к проблемам общенациональной судьбы, конфликта России и Запада, политической рефлексии на темы событий 90-х годов прошлого века, превращая эти проблемы в эстетическую реальность, не теряющую идеологических аспектов. Закономерно говорить не только об «историософском произведении», но и об «историософской проблематике», отличающей многие произведения. Значимость конфликтов вокруг произведений В. Пелевина и А. Проханова, З. Прилепина и В. Сорокина, В. Шарова и В. Личутина свидетельствует о необходимости их целостного изучения. 2) Обращение к проблеме художественной историософии на материале современного русского романа призвано показать относительность того кризиса, который нередко приписывают литературе последних десятилетий. Следуя традициям XIX-XX веков, художественные тексты вновь становятся пространством значимых диспутов. Проблематизация материала нацелена также на отграничение современного романа от умирающих форм культуры. 3) Избрание научной проблемы, предполагающей не только анализ отдельных художественных миров, но и синтез разнородных явлений словесности, в ходе которого взаимодействуют столь разные авторы, как З. Прилепин и В. Сорокин, В. Личутин и В. Шаров, способствует концептуализации современного литературного процесса в его национальном варианте.
Новизна исследования состоит в следующих четырех аспектах. 1) Художественная историософия изучается как теоретическая проблема, причем системные вопросы решаются в единстве абстрактного знания и тех реалий, которые сложились в русской культуре на рубеже XX–XXI веков. Определение критериев идентификации литературного текста как историософского художественного дискурса, систематизация ключевых архетипов национальной историософии, решение проблемы литературоцентризма русской историософской мысли, рассмотрение религиозных контекстов художественной историософии позволяет выявить новые тенденции в становлении изучаемой реальности. 2) Современная литература – сложный, постоянно обновляющийся процесс создания идейно-художественной реальности. Основная форма адаптации этого процесса – критические отзывы на отдельные произведения. Предлагаемая работа, выделяющая основные тенденции и представляющие их романы, – первая попытка комплексного научного решения проблемы русской литературной историософии рубежа XX-XXI веков. 3) Работа, системно обращенная к исследованию новых форм романного жанра, с одной стороны, посвящена исследованию историософского уровня литературного произведения, а с другой стороны, показывает современное состояние жанра романа, принципы его сюжетостроения и комплекс нравственных задач, стоящих перед авторами. 4) Впервые художественная историософия литературного произведения рассматривается в особом двуединстве: как духовно-эстетическая реальность, подлежащая классификации, но сохраняющая неповторимую индивидуальность в каждой отдельной авторской стратегии.
Объект исследования. Художественная историософия как специфическая литературная ситуация, нашедшая воплощение в многообразии современных русских романов, является основным научным объектом. Он реализуется в конкретности современных текстов; в диссертации рассматриваются романы, созданные двадцатью пятью писателями. Наиболее подробно, разноаспектно изучаются тексты восьми авторов: А. Проханова («Господин Гексоген», «Надпись», «Пятая империя»), В. Личутина («Миледи Ротман», «Беглец из рая»), П. Крусанова («Укус ангела», «Бом-Бом», «Американская дырка»), З. Прилепина («Патологии», «Санькя»), В. Пелевина («Чапаев и Пустота», «Священная книга оборотня», «Ампир В»), В. Сорокина («Путь Бро», «День опричника», «Сахарный Кремль»), В. Шарова («До и во время», «Будьте как дети»), Д. Быкова («Оправдание», «Эвакуатор», «ЖД»). Единый научный объект формируют и другие современные романы, созданные Ю. Мамлеевым («Русские походы в тонкий мир»), М. Кантором («Люди пустыря»), А. Ивановым («Сердце Пармы»), М. Елизаровым («Библиотекарь»), С. Шаргуновым («Птичий грипп»), Д. Гуцко («Домик в Армагеддоне»), А. Варламовым («11 сентября»), В. Аксеновым («Кесарево свечение», «Москва- ква-ква», «Редкие земли»), В. Ерофеевым («Русский апокалипсис»), А. Королевым («Эрон»), А. Иванченко («Монограмма»), Д. Липскеровым («Сорок лет Чанчжоэ»), А. Слаповским («Первое второе пришествие»), Т. Толстой («Кысь»), Л. Юзефовичем («Песчаные всадники»), О. Славниковой («2017»), Д. Галковским («Бесконечный тупик»).
Предметом исследования стали основные концепты, формирующие научное понятие литературной историософии (художественной философии истории): фабула историософского художественного текста, поэтика его ключевых сцен, структура и тематика диалогического пространства, идеологические доминанты.
Цель исследования – обобщить художественную историософию современного русского романа как проблемный комплекс, представив взаимодействие форм созидания многоуровневой реальности «Русский мир», многообразия фабул, речевых (диалогических) сюжетов и доминантных идеологем.
Цель осуществляется посредством решения шести основных задач.
1. Выявить основные линии взаимодействия истории и литературы как формы творческого, адаптирующего сознания; дать характеристику литературоцентризма русской историософской мысли.
2. Установить основные причины значительного внимания к религиозным проблемам и мотивам у современных романистов, решающих вопросы художественной историософии; проанализировать основные типы религиозного сознания в текстах, значимых в контексте решаемого проблемного комплекса.
3. Определить критерии идентификации литературного текста как историософского художественного дискурса, а также основные принципы классификации художественных текстов на историософские темы по доминантным признакам и соотносимые с ними основные принципы и модели фабульного становления историософских проблем в современном русском романе.
4. Представить авторские стратегии в решении историософских задач (в рамках литературного произведения) у восьми современных писателей: А. Проханова, В. Личутина, П. Крусанова, З. Прилепина, В. Пелевина, В. Сорокина, В. Шарова, Д. Быкова.
5. Проанализировать процессы художественного становления национально-исторического архетипа «Русский мир» в современной прозе; определить ключевые (с позиции историософии) сцены романов и систематизировать особенности их поэтики.
6. В исследовании художественных миров романов А. Проханова, В. Личутина, П. Крусанова, З. Прилепина, В. Пелевина, В. Сорокина, В. Шарова, Д. Быкова структурировать их историософские взгляды и указать идеологические доминанты.
Методология исследования опирается на три гносеологических направления. Во-первых, методологизируется отечественная теория романа, разработанная в трудах М. М. Бахтина, В. В. Кожинова, Е. М. Мелетинского, Н. Д Тамарченко, предполагающая обязательное изучение нравственно-философских интенций основной жанровой формы Нового времени. Во-вторых, привлекается теория историософии, разработанная в диссертационных исследованиях Н. В. Зайцевой «Историософия как метафизика истории: опыт эпистемологической рефлексии» (Самара, 2005), П. Г. Опарина «Книга М. А. Волошина «Путями Каина» в литературном контексте первой трети XX века: историософия и поэтика» (Киров, 2005), И. Ю. Виницкого «Поэтическая историософия В. А. Жуковского» (М., 2005), Н. Ю. Грякаловой «От символизма к авангарду. Опыт символизма и русская литература 1910-1920-х годов: Поэтика. Жизнетворчество. Историософия» (СПб., 1998), Н. В. Боровковой «Проблема человека в художественной историософии М. Горького и Т. Манна» (Магнитогорск, 2006); в них методологизируется изучение историософского уровня литературного произведения. В-третьих, используется методология литературно-критической интерпретации современного художественного произведения в актуальных социально-исторических контекстах (работы Д. Бавильского, Е. Иваницкой, И. Кукулина, А. Латыниной, О. Лебедушкиной, М. Ремизовой, И. Роднянской, С. Чупринина и других авторов).
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Основным критерием идентификации литературного текста как историософского художественного дискурса является единство четырех свойств: фабулы, актуализирующей исторические контексты; героя, включенного в становление социума и этноса; речевой сферы произведения, в которой востребованы историософские концепты; особой активности автора, определяющего публицистические аспекты становления историософских проблем.
2. Нарастание обращений к религиозным проблемам в художественной историософии детерминировано взаимодействием четырех основных причин. Это традиции национальной историософской мысли, расширение концепта «история» в привлечении религиозных образов и идей, повышение статуса литературного текста в его приобщении к духовным реальностям, стремление к определенной «сакрализации» авторской точки зрения.
3. Современный художественный текст, решающий историософские задачи, находится в зоне жанрового синтеза, соединяя черты социального и психологического романа, утопии и антиутопии, политического памфлета и альтернативной истории. Влияние постмодернизма проявляется в активизации «шизофренического дискурса», в свободном отношении к историческим личностям, в ироническом отношении к действительности, в востребованности смеха как значимой реакции, в сочетании «серьезного» и «игрового» начал, в общей ненормативности (оценочной, сюжетной, лексической).
4. В пространстве авторских историософских тенденций современного романа определяется сложное единство двух доминантных идеологий, «проектов» – ориентированных соответственно на национальные или на либеральные ценности. Константные признаки «патриотического проекта» – оценка России и «Русского мира» в целом как социально-духовной цивилизации, занимающей уникальное место в мировой истории; настороженное или явно оппозиционным отношение к Западу как к цивилизации, угрожающей не только России, но и всему миру, имеющему отношение к нравственным идеям; интерпретация событий 1980-1990-х годов как социально-исторической и метафизической катастрофы, которая привела не только к гибели советского коммунизма, но к кризису всех систем «русского мира»; поиск и художественное воссоздание национальной этики, сохраняющейся при любых официальных идеологемах; эсхатологическое сознание, учитывающее особую миссию России. Константные признаки «либерального проекта» характеризуют включение России и российской истории во всемирное «целое», с полемическим отношением к идее изоляционизма и духовной неповторимости «Русского мира»; мысль о «вечном тоталитаризме», отличающем русскую историю в самые разные эпохи; отрицательное отношение к коммунистическому опыту XX века; эсхатологизм, который часто рассматривается как логическое следствие бытия «Русского мира», его «тоталитарных» установок.
5. Фабульная организация рассмотренных историософских романов отличается следующими доминантными признаками: фабула романа активно взаимодействует с фабулой реальной (как правило, современной) истории, часто выстраивая образ альтернативной истории; главный герой причастен к истории, активно позиционирует себя в духовной/идеологической борьбе/познании, которая усилиями повествователя трансформируется в метафизическую борьбу; развитие фабулы осуществляется за счет реализации «плана» как сюжетного и идеологического центра произведения (романы А. Проханова, П. Крусанова, Д. Быкова, В. Сорокина, В. Шарова); фабульным центром становится история значимого героя/сверхчеловека (романы А. Проханова, П. Крусанова, В. Пелевина, В. Сорокина) или простого человека с пробудившимся/изменившимся сознанием (романы В. Личутина, З. Прилепина, В. Шарова, Д. Быкова); фабула может претендовать на объективность (романы А. Проханова, В. Личутина, З. Прилепина) или выстраиваться как цепь событий, происходящих в творческом/религиозном/безумном сознании (романы П. Крусанова, В. Пелевина, В. Сорокина, В. Шарова, Д. Быкова).
6. В художественной историософии «патриотического проекта» выделяются следующие идеологические доминанты: воссоздание современности как вечного эсхатологического конфликта России с Западом (романы А. Проханова); становление антисистемы как антибытийного феномена, призванного не просто поменять социальный строй или изменить духовные ориентиры, но искоренить жизнь в целом (романы В. Личутина); явление всепобеждающей воли, меняющей ход истории-поражения, создающей историю-победу (романы П. Крусанова); оправдание революции, которая истолковывается как необходимость повседневного героизма ради выживания человека и народа (романы З. Прилепина).
7. В художественной историософии «либерального проекта» соотносятся следующие идеологические доминанты: преодоление истории как одной из самых сильных форм закрепощения сознания (романы В. Пелевина); испытание идеи неприятия человеческого мира и определение русской истории как пространства постоянного тоталитаризма (романы В. Сорокина); русская религия и русская революция – единый комплекс практик, рассчитанный на реализацию эсхатологического проекта избавления мира от страданий (романы В. Шарова); воссоздание в рамках узнаваемых социальных реальностей пространства «нормальности», призванного избавить от доверия к экстравагантным идеям (романы Д. Быкова).
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на заседаниях научного семинара при кафедре литературы и методики преподавания Педагогического института Южного федерального университета; в ходе выступлений на международных, всероссийских, региональных и межвузовских научно-практических конференциях (Москва–2008, Новосибирск–2008, Ульяновск–2008, Ростов-на-Дону–2009, 2010, 2011, Челябинск–2011); в процессе чтения специального курса по исследовательской проблеме.
Основные теоретические положения и результаты исследования представлены в двух монографиях; в 11 статьях периодических изданий, включенных в перечень ВАК РФ, а также в 26 научных статьях, опубликованных в других журналах и сборниках.
Научно-практическая значимость исследования определяется тремя основными позициями. 1) Разработанная теория современного художественно-историософского дискурса в его актуальных связях с историческим, философским, религиозным дискурсами позволяет использовать результаты, полученные в I главе, в курсах истории отечественной литературы, а также теории литературы и культурологии. 2) Научно воссозданные модели художественных миров русских романистов (прежде всего В. Пелевина, В. Сорокина, В. Шарова, Д. Быкова, А. Проханова, В. Личутина, П. Крусанова, З. Прилепина) могут способствовать изучению различных проблем современной отечественной прозы. 3) Научная модель изучения значимой культурной реальности (художественной историософии), представленная единством проблемы, фабулы романа, поэтики ключевых сцен, доминантных идей, применима для исследования иных содержательных уровней литературных произведений.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографического списка. Общее количество страниц – 463. Список использованной литературы и источников насчитывает 307 позиций.
«Бесконечный тупик» Д. Галковского и становление проблемы «художественной историософии»
Книга Д. Галковского «Бесконечный тупик» - один из тех немногих текстов, который может быть использован для постановки теоретической проблемы «художественной историософии». Основная особенность «Бесконечного тупика» (помимо весьма серьезного объема, который при желании автора мог только нарастать) — центральное положение «русского» как влиятельного концепта, охватывающего все пространство книги. Ни мировая история в своих основных коллизиях, ни западная литература в самых перспективных архетипах не интересуют Галковского. Все его внимание отдано России — литературе, истории, культуре, которые формируют некую гиперактивную хрестоматию национального сознания. Нельзя сказать, что Галковский идеологичен. Его идеология — «русскоцентризм». И даже тогда, когда высказывается то или иное рациональное суждение, в комментариях оно усложняется, теряя изрядную долю рациональности. Если взять «Бесконечный тупик» в аспекте смысла заголовка, то можно говорить об очевидном оксюмороне, который для автора и есть доминанта русской традиции. Основные сюжеты национальной культуры сходятся к ядру, в рамках которого присутствует установка на страдание, на заданную духовным полем неудачу исторического процесса, где одно несчастье сменяется другим несчастьем. Но в этом общественном страдании-вызревает то, что имеет смысл назвать «параллельной историей»: культура оказывается подлинным пространством истории, местом для ее самых серьезных образов и идей. Настоящая историософия не политична, а культурологична, - эта идея Галковского имеет большое значение для понимания основных проблем нашей диссертации.
В жанровом отношении «Бесконечный тупик» - книга, синтезирующая разные дискурсы: публицистический, литературоведческий, философско-исторический, художественно автобиографический. Если на одном уровне «Бесконечный тупик» - книга о русской истории, явленной в русской культуре, то на другом уровне это повествование Галковского о своем метафизическом одиночестве, выраженном в фамилии его alter ego («Одиноков»). Но эти уровни отличаются взаимопроникновением: историософия и философия культурьъ создают образ мира, в котором помещается и развивается повествующее сознание; но и само повествующее сознание оказывается целым мирозданием, в рамках которого и происходит прояснение русской традиции. В этой обязательной связи национально-архетипического и сугубо личного, субъективного еще одна значительная черта художественной историософии Дмитрия Галковского. Сам автор стремится к определенности в обозначении жанра своего текста: «Это философский роман, посвященный истории русской культуры XIX-XX вв., а также судьбе «русской личности» - слабой и несчастной, но все же СУЩЕСТВУЮЩЕЙ». Стоит конкретизировать ситуацию с жанровым знаком: бесфабульный роман, не обещающий читателю вымышленной истории, развивающейся по законам линейного письма. Если, традиционный роман стремится- воссоздать некую придуманную историю, сделать из нее значимый в художественном отношении факт, то роман Галковского ставит задачу превратить в неклассический роман саму русскую историю, построить сложную- систему примечаний, призванных оформить образ историко-культурного хаоса, который должен на разных уровнях (интуитивном в том числе) закрепить многочисленные мотивы, формирующие концептуальное поле русской традиции. «Романный характер» обнаруживается Галковским в самой русской истории, обретающей не только идейную, но и, что очень важное эстетическую форму. «Идея русской истории. — это такое теплое живое, облако, в морозном, пронзительно синем русском небе», - читаем в «Бесконечном тупике» [57, 86] 1 Историческое и эстетическое не только взаимодействуют, но объединяются: «Революция окончательно обессмертила Россию, взвинтила уровень художественного постижения мира. Был поставлен грандиозный спектакль, давший- пищу на столетия- вперед даже самому унылому позитивисту» [57, 58]. Этот эстетизм русской истории требует поэтического языка для выражения рациональных, на первый взгляд, идей. На одной из страниц познание фигуры Ленина (один из ключевых для романа ходов) требует активного движения в сторону литературы: «Ленин персонаж из Бесов», - выявляет повествователь логику взаимодействия исторического и художественного сознаний [57,429].
Как известно, «Бесконечный тупик» - цепь примечаний к основному тексту, который Галковский предпочитает не публиковать вместе с романом. «Основной» текст — эссе о Василии Розанове. Каково значение Розанова и его писаний для историософии Галковского? Во-первых, Розанов - человек, весь свой талант подчинивший размышлениям о России, чей образ наиболее очевиден для философа в национальной литературе. Розанов — литературоцентричный философ, его принято изучать и в истории русской мысли, и в истории русской литературы, где он оценивается как один из самых совершенных стилистов. Во-вторых, Розанов дает повод говорить о воинствующей бессистемности как основном способе познания антиномий русского сознания. Розанов в рамках одной и той же книги («Опавшие листья», например) может быть и христианином, и язычником, всегда оставаясь убедительным. За внешним хаосом мнимо идеологических утверждений скрывается авторское стремление к свободе. Свобода проявляется в притягательности ассиметричного сознания, которое очень ценит и автор «Бесконечно тупика». В-третьих, историософия Розанова, как бы растекаясь по множеству текстов и формально устремляясь к предельной эсхатологичности («Апокалипсис нашего времени» как завершение творческого пути), тяготеет к афористичности, к умению автора в одной фразе представить образ миропонимания — не обязательно истинного, но всегда значимого. Галковский, судя по методологии «Бесконечного тупика», также уверен, что познание национального архетипа - в одной или нескольких фразах, которые на один миг становятся ключевым текстом, чтобы тут же уступить место новому отрезку текста, который в данный момент предстает как текст основной. Историософия — не длинное повествование, а спонтанное явление риторики, способное представить оригинальную мысль, вплетающуюся в систему иных оригинальных мыслей.
Историософия в произведении Галковского являет себя и как характерология, как чрезвычайно развитое психологическое повествование, не предоставляющее читателю возможности забыть о «душе истории», которая проявляется в погружении в «я», в глубины авторского мира. Именно авторское «я» - концентрация всей национальной сложности. Стираются все границы: между историей и литературой, между национальной культурой и авторским «я». Повествователь рассказывает о себе в том же контексте, в котором рассказывает о Розанове, Достоевском, Соловьеве, Ленине, Набокове, Чехове, Соловьеве. Личностный характер культурологического дискурса остается на первом плане. Историософия становится исповедью автора, получая в ней новые импульсы для становлениям Историософия у Еалковского - явление авторского сознания, претендующего на доминантные позиции в рамках модифицированного романного жанра. Много страниц посвящено познанию характеров основных для Галковского персонажей русской истории.
История — не объективность, которой можно овладеть, в аналитическом процессе. Контакт и взаимопроникновение истории и литературы способствуют выдвижению версий; рассмотрению возможных вариантов, формирующих историософский- подтекст известных событий и произведений. Так, например, повествователь рассуждает о судьбе Достоевского; о возможности его превращения в национального вождя:. «Я смотрю на фотографию Достоевского» — лицо пророка; лоб мыслителя; И как при тогдашней тяге к вождизму TAKOFO! не поставить на Олимп? Так, чтобы и заикнуться никто не мог. Пускай даже и палку бы перегнули. С Достоевским это можно, это ничего. Это же ДОСТОЕВСКИЙ; Ну, объявили бы его «величайшим гением всех времен и всех народов». Издали бы книги миллиардными тиражами. Придумали частушки про дедушку Достоевского и распевали их в, яслях хором... Нет, нашлись кандидатуры поинтересней: «энциклопедический ум Чернышевского», «гениальные прозрения Белинского». А дальше уже маячила картавая бороденка Самого Человечного Человека» [57, 511]. Значит, влияние литературы на историю — иное. Есть смысл говорить о двух «историях»: о внешнем процессе трансформации социальности и о формировании сюжета культуры, способном предстать в сознании интеллигента в качестве истинного исторического процесса.
Становление архетипа «русский мир» в художественной историософии «либерального проекта»
«Либеральный проект» в современной русской литературе не менее. объемен, чем «проект патриотический». Критики говорят о его кризисе, о размывании мировоззренческих ориентиров, о снижении напряжения, борьбы с оппонентами. Но константные признаки «либерального проекта» сохраняются: а) включение России и российской истории во всемирное «целое», с полемическим отношением к идее изоляционизма и духовной неповторимости «русского мира»; б) неоднозначная реакция на динамичное становление религиозных идей, в которых нередко видят угрозу свободе личности; в) мысль о «вечном тоталитаризме», отличающем русскую историю в самые разные эпохи; г) резко отрицательное отношение к коммунистическому опыту XX века, отказ от реабилитации русской истории коммунистического периода; д) эсхатологизм, который часто рассматривается как логическое следствие бытия «русского мира», его «тоталитарных» установок.
Книга Виктора Ерофеева «Русский апокалипсис: Опыт художественной эсхатологии» - в той же общей историософской модели, что и произведение Юрия Мамлеева: художественное сочетается с публицистическим. Но если в «Русских походах в тонкий мир» содержание модели — патриотизм, правда, полностью лишенный политической окраски, то в ерофеевском «Апокалипсисе» содержание восходит к либерально-демократическому взгляду на сущность российского архетипа.
Ерофеев отмечает и русскую безмерность, и отсутствие рационального начала, и определенную литературность национального бытия, его художественный смысл. Но значительно больше пишет Ерофеев о русских недостатках, принимающих гротескный характер. Все недостатки вписываются в концепцию русского эсхатологизма — желания преодолеть обыденность, хорошо организованную повседневность и удивить весь мир невниманием к базовым ценностям европейской цивилизации. Личность, по Ерофееву, не имеет в России никакой ценности, страсть к тоталитаризму считается нормальной, более того — положительной в контексте построения общественной жизни. Нет тщательно продуманного отношения к другим народам. Отсутствует уважение к собственным гениям. Русское христианство в книге Ерофеева предстает еще одним знаком тоталитарного сознания.
Если у Мамлеева русское представлено тяготением к безмерности, бесконечности, тайне и религиозности, правде и любви, то у Ерофеева -более «житейские» проявления: привязанность к водке, неумение прожить без ненормативной лексики, которую автор цитирует на протяжении всего текста. «Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было — Водка», - это первая фраза всей книги, в которой с константной для произведения иронией утверждается, что «водка - русский Бог» [92, 11, 12].
Кончилось в России время писателей-пророков, о чем должны сказать ерофеевские образы Пушкина, Чехова и выдающегося интеллектуала Сергея Аверинцева, которому не нашлось места для работы в России. «Язык откровения, на котором говорят катастрофы, меньше всего укладывается в гуманные схемы. Скорее он отправляет нас в дивный сад психоделического триллера, венчающего библейскую книгу книг. Этим триллером так часто увлекались русские люди во времена испытаний, что он приобрел очертания нервного религиозного расстройства. Однако достаточно прочитать его на свежую голову, как станет ясно, что мы живем в стране победившего апокалипсиса, и все обещанное сбылось, а что не сбылось, то сбывается», - так автор пытается связать суровость «Откровения Иоанна Богослова» и реальность русской истории, которая отличается полным отсутствием милосердия по отношению к частному человеку [92, 274].
Если Мамлеев в своей историософии старается абстрагироваться от своей личной судьбы и деталей биографии, то для Ерофеева обращение к своей персональной истории имеет большое значение. В. книге, посвященной «русскому апокалипсису», много сказано о деталях отношений автора с женщинами (акцент - на сексуальных проявлениях), о его любви к путешествиям и гастрономическим культурам разных стран и народов. Главная черта всех национальных архетипов (кроме российского) — свобода от эсхатологизма, заставляющего русского человека устремляться к пределу существования, к его концу, а не к процессу, что характерно для западной личности.
Особенно важна для оформления ерофеевской концепции истории последняя (пятая) часть книги «Говорящая лошадь, или Критика русского апокалипсиса». Здесь читатель узнает, что государственный переворот в нашей стране - норма, а «наши первые чекисты - Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня». Одна из глав последней части посвящена Ходорковскому, которого, по Ерофееву, следует считать новым «положительным героем». Для классической русской литературы, характерна следующая ситуация: в ходе становления образов истории, противостоящих мысли о возможности земного счастья, в тексте обнаруживает себя библейский архетип Иова - безвинного страдальца, иллюстрирующего идею восхождения через утраты. Но в романе Иванченко концепция «Иова многострадального» не появляется. Причина — в монотеистическом характере этой концепции: Иов не отказывается от веры в единого Бога, убеждаясь, в конце концов, что Бог есть, и он справедлив. Иванченко далек в «Монограмме» от ветхозаветного (и христианского) монотеизма, его позиция - буддийский пантеизм, исключение личностного спасения с помощью Бога или Мессии.
В то же время спасение от мучений истории вполне возможно. В ходе становления романного повествования исторических картин — меньше, а восточных размышлений об истинном знании — больше. Вместо Иова - Будда. Происходит постепенное исчезновение истории, преодоление боли исторического процесса, суть которого — несправедливость. Исторические конфликты снимаются. Не внешняя праведность интересует автора, а рост самосознания, внутреннего соответствия позитивной буддийской пустотности. Даже пальцы главной героини «сквозят небытием». Лида убеждается, что всякое духовное завоевание сопровождается потерей материального. Бесполезно предъявлять претензии палачам, потому что тот, кто сегодня палач, завтра будет жертвой, а сегодняшняя жертва (возможно, что и раскулаченные родственники Лиды) прежде была палачом. Жизнь не начинается в истории и не заканчивается в ней. Лида знает: если все будут счастливы, будет еще хуже - «человечество сразу бы поделилось на мелкие острова счастья - то есть самопоглощенности, отъединения, отчуждения — и тогда конец, вырождение, гибель» [116, 131]. «Нет никакого тирана, деспота, палача, нет никакого страха перед тираном. Страх перед диктатором — это персонифицированный страх толпы перед собственным инстинктом уничтожения. Массы, не смея — или не умея — реализовать собственной жестокости, поручают этот инстинкт тирану: они поклоняются себе, своей жестокости и влечению к убийству», - рассуждает героиня о; внешне абсурдной логике истории [116, 136-137]. Лида знает, что страдания; — особая педагогическая практика, которую мир навязывает человеку ради его же блага: «Если все проявленное, мир, сансара — иллюзия и обман, то как же иначе это может быть постигнуто, как не через предательство друзей, крушение надежд, муку, разочарование, страдание? }г1 6; 148] История,, не имеющая оправдания как цель, оправдывается как смысл дидактического приобщения к правде жизни. Есть; и мысль, о том, что І ужасы, российской истории: быстрее приближают к буддийской истине О: необходимости отказа от иллюзий.
В этом плане история может приближать к онтологии, открывая например, что Гражданская война — не историческое событие с практическим, результатом,. а пространство, в котором благодаря боли и утратам легче прийти к абсолютным ценностям: Характерен для «Монограммы» образ Софьи Францевны, учителя, истории. Она с трудом переносила несуразности своего предмета,, отдавая предпочтение литературе. История слишком зависит от реальности; а литература освобождает от этой зависимости. Литература — над историей, но еще выше - индийская мысль, в которой Лиду привлекали «мощный дух самоотрицания, почти самоуничтожения, - погребальный костер самовозрождающегося духа...» [116, 311].
Поэтика историософского сюжета в романах «патриотического проекта»
В пятой главе романа Проханова «Господин Гексоген» Белосельцев, главный герой рассматриваемого произведения, впервые встречается с Избранником - с героем, который ни разу не называется по имени и фамилии, но без труда сопоставляется и совмещается с реальным политическим лицом, с человеком, который взошел на самую вершину российской политики. «Маленький человек, похожий на шахматного офицера, вырезанного из слоновой кости» мог бы быть назван будущим президентом Путиным, несмотря на отсутствие четкого имени в «Господине Гексогене». Но с подобными отождествлениями надо быть осторожнее — не из соображений политкорректности, а по другим — художественным — причинам. Мы имеем дело не с историческим романом, а с гротескной фантазией на темы современной российской политики.
Мифологизация в романах Проханова значительнее развернутых психологических характеристик, соответствующих образам, хорошо известным читателям по телевизионным выпускам новостей и газетным статьям.
Первый, достаточно объемный абзац посвящен представлению Избранника, в котором Белосельцев видит силу, способную избавить Россию- от уже: . состоявшегося порабощения. Сакральная? многозначительность отличает повествователя; сообщающего об? Избраннике., Проявляется стиль, своей многозначительностью;и ритмикой: приближающийся к стилю библейскому: «Он сидел за столом; на пиру нечестивых, и мерзость застолья, скверна произносимых речей: не касались его» [207, 87] I Далее появляется образ, классический для мифологического и религиозного дискурсов: «Он был тих и невнятен, как дремлющее зерно. Таилш себе будущий урожай, несуществующее грозное время; к которому готовили его хлеборобы» [207, 87]. Зерно — потенциальная жизнь, временно скрытая; и развивающаяся по своим внутренним, законам. Главный? закон этого /развития — неизбежное возрождение, воскресение,, когда; «умерев», сгнив в земле, зерно- дает новые: плоды; «воскресает»; Следует напомнить,, что классическим олицетворением зерна является евангельский Христос, которому необходимо пройти через смертные страдания; чтобы возродиться; воскреснуть самому и спасти человечество:
В Евангелиях «зерно» (Христос) оказывается ; во враждебном»: окружении, представленном, прежде всего, фарисеями/книжниками стремящимися уничтожить Мессию, чуждого их представлениям о жизни: и спасении. В пятой главе «Господина Гексогена» главным фарисеем/книжником оказывается олигарх Зарецкий. Поэтика, его образа отмечена совершенно очевидным мотивом расчеловечивания; деперсонификации. Александр Проханов (и это отличает все его романы, написанные в новом веке) помещает «образы врагов» в контексты, в которых обязательно появляются символы, призванные подчеркнуть исчезновение в герое человеческого статуса. Повествователь сообщает о «множестве клыков и когтей, раздвоенных жал и пупырчатых щупальцев», которые обязательно растерзали бы Избранника в том случае, если бы он был узнан. Зарецкий сопоставляется с «хамелеоном», меняющим окраску в соответствии с переживаниями и эмоциями. У Белосельцева появляется мысль, что перед ним располагается не человек, а «таинственный гриб, или водоросль, или лишайник, меняющий свой цвет под воздействием растворов и соков» [207, 89]. Зарецкий растекается, «как огромная плавающая медуза», он - «огромный тетерев», на которого Белосельцев наводит воображаемую двустволку. Конфликт становится очевидным: есть молчаливый, ни слова не произносящий Избранник — «зерно», из которого должна произрасти русская победа. Есть нечеловеческие силы, представленные Зарецким, которые готовы искоренить любое «зерно», но пока не могут его обнаружить. Закономерно, что- главный герой (Белосельцев), всей душой ненавидя Зарецкого, сдерживает свои эмоции и реагирует на происходящее согласно законам сакрального сюжета: «Опустив глаза, он молился о сохранении и сбережении Избранника» [207, 88].
Анализируемая сцена разрастается за счет речи Зарецкого, которая оказывается своеобразной кульминацией откровенности. В романах Проханова «враги» всегда все договаривают до конца, напрямую обращаясь к слушателям (следовательно, и к читателям), подробно сообщая о злодейских планах, суть которых в порабощении и уничтожении России. Пятая глава «Господина Гексогена» - не исключение. Обращаясь к Дочери Истукана, олигарх, напоминающий повествователю «таинственный гриб» и «медузу», а таюке «хамелеона», начинает публично, без всякой цензуры глумиться над порабощенной страной. Это гротескная речь, призванная показать важный для Проханова образ абсолютного зла, с которым невозможны никакие компромиссы, так как нельзя договориться с вирусом, с «водорослями» или «лишайниками», действующими согласно своим генетическим кодам, не имеющим связей с милосердием или справедливостью.
«Русский народ мертв, он больше не народ, а быстро убывающая сумма особей, за популяцией которых мы пристально наблюдаем; регулируя ее численность исходя из потребностей рабочей силы и затрат на ее содержание», - глумится Зарецкий, отличающийся, по воле автора, предельной откровенностью и желанием; высказаться до конца [207, 89]. Страшные речи сопровождаются телесными изменениями: лицо однозначно: негативного! героя начинает «мертветь», «голубеть», «по, невидимым сосудам побежали фиолетовые соки, проступили на щеках склеротической сеткой, полированные, ухоженные ногти на руке, прижимавшие к столу ладонь именинницы, посинели, как у утопленника»; [207,89].
Речи всех героев Проханова - и негативных, ш позитивных — всегда; максимально экспрессивны. В данной; сцене идея тщательное спланированного- порабощения; России создается с помощью-синонимичных глаголов, которыми:Зарецкийвиртуозно играет: есть «мы»: (собирательный образ поработителей) есть «русский народ» - основной объект коварного и почти смертельного удара. Есть глаголы, обозначающие смысл происходящего: «отняли», «отобрали», «покончили», «уничтожили»-, «остановили», «сбросили в овраг», «завалили отбросами», «залили бетоном». Речь идет о «русском народе», «русских инженерах», о «русской военной мощи», «русских ученых», «русской культуре».
Белосельцеву кажется, что «дурной Мейерхольд продолжает: абсурдистский спектакль» [207, 91]. Зарецкий несколько раз называется «актером», но это некий «актер-колдун», существующий: не столько в политическом, сколько в метафизическом пространстве, где любое театральное действие превращается в ритуал. В сознании Белосельцева, страдающего от присутствия: очень опасного «колдуна», появляется настоящее видение: «... на арене нарядного цирка, куда выходили обезглавленные политшш, держа в своих руках окровавленные, с выпученными глазами головы, выкатывались толпы погорельцев и беженцев, неся в руках синюшных детей, выбредали разгромленные корпуса и дивизии, выволакивая из-под огня подорванные бэтээры» [207,
Психопатология власти, которая. интересует Проханова, превращающего политику в; мифологический процесс, актуализирует образы/ упырей, вампиров, всевозможной нечисти, по, мнению повествователя захватившей страну. Один из ключевых моментов виречи Зарецкого — сообщение об операции на сердце. Президента: сердце «вологодского солдатика» было пересажено Истукану, который уже готовился уйти, оказавшись в клинической смерти. Также надо отметить, что» речь, коварного Зарецкого, пока еще не угадывающего опасности; исходящей от молчаливого- Избранника,, обращена (типичный для Проханова мотив обольщениями; искушения) к; Дочери-Президента которой; обещан; монархический статус. «Царицу Татьяну», по словам Зарецкого ожидает коронация «при великом стечении народа». Завершая анализ сцены, скажем- о сложном, амбивалентном характере образов, которые представляются автору позитивными, имеющими отношение к избавлению России от рабства. Так, Избранник — не только; «зерно», которому надлежит воскреснуть, но и «смерть», которая «тихо подсела» за стол, не узнанная Зарецким и его соратниками.
Концептуализация историософской идеи в романах «патриотического проекта»
В романах Александра Проханова художественная историософия, не теряя очевидных связей с узнаваемой политикой, часто становится эсхатологией — совокупностью образов, мотивов, соответствующей риторики, которые призваны убедить читателя в том, что хронотоп того или иного романа- особый хронотоп, восходящий к христианским представлениям о конце мира, последней битве добра и зла, о воцарении Антихриста и Втором пришествии Иисуса Христа. Политический роман (о . его возможности говорят хотя бы образы всем известных участников современных исторических событий) трансформируется в жанровую . форму, стремящуюся войти в контакт с «Откровением Иоанна Богослова»; Речь не о стиле. Стиль прохановских романов и последней- библейской книги; абсолютно разныш Но очевидно; что Проханов стремится создать. «Апокалипсис наших дней», точнее «прочитать» и воссоздать исторические события как эсхатологическое действо, как своеобразный «апокалиптический эпос». Иё политические, а эсхатологические мотивы выдвигаются в центр. Борьба за власть тщательно описывается- автором в самых разных технологических действиях, свойственных политике. Но еще важнее и значительнее мотив противостояния; Антихристу, которого можно назвать и- определенной идеей; и даже коллективным героем; вбирающим в себя, самых. разных - и заметных, и эпизодических — персонажей романов Проханова.:
Признаки конца мира встречаются; очень, часто: В- самом начале романа «Господин Гексоген», во время отпевания генерала Авдеева (Суахили) Алексеи. Сарафанов увидел фреску Страшного суда, сразу поясняющую характер романного действия: «Огромный жилистый червь прогрыз Вселенную, как переспелое, яблоко... Продырявленное мироздание сгнивало, поедаемое- прожорливой гусеницей» [207,: 12]. Конечно, дело; не . в иконе; а в том,, что иконописное изображение становится сакральным символом происходящих в. произведении событий.
Апокалипсис — одно из самых сложных для оценки библейских событий. Что оказывается в этом событии на первом плане — Небесный Иерусалим, который сходит на землю в двух последних главах или воцарение Антихриста в XIII главе? Воскрешение и спасение.достойных или гибель большинства,, поклонившихся сатане? Надо отметить, что однозначного, полностью объективного ответа быть не может. Апокалипсис может быть истолкован как полное уничтожение зла и превращение земли в незыблемый рай. Но Апокалипсис достаточно часто истолковывается как необратимая катастрофа, нечто напоминающее ядерную войну со смертельными последствиями.
Оба варианта восприятия эсхатологических событий присутствует в «Господине Гексогене». Герой может приблизиться-к отчаянию, буквально «заболеть» мыслью о том, что богооставленность - реальность: нашей жизни: «Мир, в котором жил.Белосельцев, был недостоин существования; Должен был погибнуть, распасться на изначальные атомы. Чтобы. Бог,. убедившись в ошибке своего творения, получил возможность создать мир заново, по иному замыслу и чертежу, Распад мира, от которого отрекся Бог, уже начался» [207, 121-122]. Но идеологическая и нравственная депрессия никогда не: овладевает героем полностью, до конца. Для Александра Проханова принципиально важно, чтобы герой сохранял связь с тем, что Владимир Личутин называет «живым временем». Вот, например, . какие чувства посещают его в картинной галерее художника/Поздеева, . перед полотном «Чаша»: «Он увидел рай, который, казался .подобием земной природы, но прекрасней... Он вознесся над раем в восходящем потоке света, который голубел, словно пламя горящего спирта... Это был Бог. Его душа узрела Бога, пережив блаженство....» [207, 300]. Такой герой- может быть Назван автором «исполненным мессианства» [2 07, 4 8 0].
Но рай и преображение лишь возможность и надежда, стратегическая цель, определяющая действия героя. Катастрофические, кризисные аспекты эсхатологии значительно заметнее. Современная Москва часто изображается как Вавилон. «В девяносто первом, когда коммунисты рассеялись,, яко пыль на ветру, на Россию напали несметные сатанинские полчища... Они Москву приступом взяли, в каждый дом, в каждую церковь вселились. С тех пор Москва их... Теперь на Москве Сатана», -. сообщает монах Белосельцеву [207, 478-479]. Оккупация - это не. только присутствие земных врагов на территории страны и в ее руководстве. Проханов пишет об оккупации темными силами, демонами. Сразу становится очевидным, что с бесами диалог принципиально невозможен. Именно поэтому в легко идентифицируемом подтексте появляется концепция «метафизического эпоса»: когда «свет» и «тьма» стремятся к полному прояснению своих сущностей, к максимальному прояснению конфликта, не знающего компромиссов. «В романе «Господин Гексоген» он впервые делает попытку вырваться за пределы реального, за пределы сугубо философского и психологического реализма», - пишет Юрий Петухов [197].
Об Апокалипсисе в романах Проханова любят рассуждать самые разные герои - и честные борцы за Россию, подчас страдающие от одиночества, и офицеры ФСБ, и коммунисты, и демократы. Иногда автор дает понять, что эсхатологическая риторика может стать игрой, разменной картой в руках циничных стратегов. Таков, например, Гречишников в романе «Господин Гексоген», который, по замыслу автора, проговаривается о своих бесчеловечных планах. На первый взгляд, Гречишников — в ряду типичных прохановских апокалиптиков, стремящихся победить смерть бессмертием: «Бог ведет человечество, чтобы даровать ему бессмертие. Победить смерть, поправ ее через смерть разобщенного «вавилонского мира». Очистительным взрывом апокалипсиса сплавить разъединенное человечество, чтобы в тигле Страшного суда из рыхлого пепла возник алмаз. Стяжать жизнь вечную через сотворение «Нового Иерусалима». Проект Суахили в своей глубинной, сокровенной сердцевине есть религиозный проект, связанный с эсхатологией, с реализацией замысла Божьего» [207, 593]. Проект освобождения России от демонической оккупации — «религиозный проект», необходимо идти к «Небесному Иерусалиму», преодолевая «вавилонский мир». Но тут же позиция Гречишникова уточняется: «Мы воскресим всех, кто жил прежде нас... Мы воскресим все прошлое человечество, во всей его полноте... Нерона, первохристиан, инквизиторов, еретиков, немецких солдат и красноармейцев Сталина... Мы непременно воскресим славного парня Сергея, ненароком попавшего под лезвие чеченского ножа по твоему недосмотру. Для их воскрешения нам нужно было их сначала убить. Быть может, все убитые на земле были умерщвлены для будущего их воскрешения» [207, 594-595]. Здесь может смутить упоминание Нерона, инквизиторов, немецких солдат, Сталина -равенство добра и зла, нежелание отделять .жертв от тех, кто обрек их на смерть, подчас, как Нерон, отличаясь откровенным садизмом. Но еще важнее другой мотив: для того, чтобы воскресить, надо убить. В этой позиции Гречишникова - не мысль философа, а уверенность практика, специалиста по заговорам, который сам готовит Апокалипсис, чтобы он (при всем ужасе происходящего) способствовал достижению поставленных целей.
Гречишников — амбивалентный герой, как и многие персонажи Проханова. Эта типичная для писателя амбивалентность связана с его пониманием русского национального типа: «Русская душа может быть не просто бессовестной. Она может быть кромешной, она может быть страшной, инфернальной. И вот такой тьмы и кромешности, которую несет в себе русский человек, может быть, ни одна другая душа не несет - об этом говорил Достоевский. И чем страшнее наша душа, чем глубже и страшнее мы погружаемся в преисподнюю, тем ослепительнее для нас то божество, от которого мы удаляемся» - говорил А. Проханов на встрече, посвященной «мифу о загадочной русской душе» [172].
Стиль Александра Проханова соединяет технологизм и мифологизм. Автор не скрывает, что Апокалипсис — сложнейший символ, явление трагической двойственности, присущей всем сюжетам, восходящим к образам смерти и воскрешения. В романе «Надпись» слово получает «Я» авианесущего корабля - истребителя американских подводных лодок: «Я -смерть мира, созданная этим миром из лучших своих компонентов. Я — мировой абсурд, где начало истории, как змея, глотает свой собственный хвост. Я — последняя вспышка, испепеляющая человечество, предсказанная на острове Патмос одним из древних пророков» [208, 214]. Без авианесущего корабля, сдерживающего потенциального врага, нельзя: слишком большой соблазн будет у противника, мечтающего о порабощении слабых. Но этот же корабль, обладающий функцией защиты, предстает «смертью мира» и «мировым абсурдом», «последней вспышкой», восходящей к эсхатологической символике «Откровения Иоанна Богослова». Похожая ситуация — с образом баллистической ракеты: повествователь замечает, что в «лесную глухомань» она была перенесена с острова Патмос.