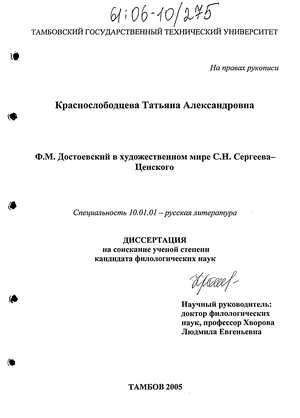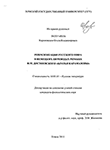Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Сергеев-Ценский и Достоевский: к вопросу о сближении эмоционально-ценностных ориентации . 14
Интуиция совести и проблема вины у Достоевского и Сергеева-Ценского . 14
Образ земли в поэтико-философской системе Ф.М. Достоевского и Сергеева-Ценского. Сближение или отталкивание? 30
Проблема индивидуализма: постановка и решение. 43
Глава вторая. Мир (семья) и война как индикаторы «великих предвидений» Достоевского в «апокалиптических реалиях» С.Н. Сергеева-Ценского . 61
«Апокалиптические реалии». К вопросу обоснования понятия. 61
Проблема человекобога и Богочеловека в поэтико-философских исканиях Ф.М. Достоевского и С.Н. Сергеева-Ценского. 78
От «семейства случайного» к «семейству обреченному». «Живой Христос» в творчестве Достоевского и Сергеева-Ценского. 101
Война и революция у Достоевского и Сергеева-Ценского. 123
Заключение. 139
Примечания. 147
Список используемой литературы. 166
- Интуиция совести и проблема вины у Достоевского и Сергеева-Ценского
- Образ земли в поэтико-философской системе Ф.М. Достоевского и Сергеева-Ценского. Сближение или отталкивание?
- «Апокалиптические реалии». К вопросу обоснования понятия.
- Проблема человекобога и Богочеловека в поэтико-философских исканиях Ф.М. Достоевского и С.Н. Сергеева-Ценского.
Введение к работе
В последнее десятилетие появилось немало диссертационных исследований, посвященных творчеству С.Н. Сергеева-Ценского (1875-1958) [1].
В поле зрения исследователей - проблемы текстологии, генезиса, поэтики прозы известного писателя XX столетия. В последние годы предпринимаются также попытки сравнительно-типологической методики изысканий, вскрываются творческие параллели и поэтико-философские соприкосновения Ценского как с современниками [2], так и с классиками - «титанами» [3]. Творчество писателя, таким образом, логично ставится в контекст русской классики.
Помимо перечисленных проблем, в современных исследованиях ведется последовательное выявление тех трагических фальсификаций, которые были допущены советским ценсковедением. Перечисленные выше изыскания Л.Е. Хворовой, Н.М. Немцовой, Е.П. Тырновецкой, О.В. Нарбековой базируются на архивных источниках, идет серьезная текстологическая выверка.
Несмотря на это, в творчестве писателя остается еще достаточно проблем, которые нуждаются в тщательных исследованиях. В частности, пока нет целостных изысканий, посвященных, например, изучению вопроса, заявленного в настоящей диссертации.
Об органичном, глубинном влиянии идей Ф. М. Достоевского на художественный мир С. Н. Сергеева-Ценского писали давно, однако не слишком откровенно.
Пожалуй, впервые это сделала Е. Колтоновская в 1913 году в статье «Из новейшей литературы», опубликованной в журнале «Русская мысль». Позже, в советскую эпоху, когда творчество Сергеева-Ценского
*
(ft
*
было канонизировано, а имя Достоевского временами и вовсе не вспоминалось, о таком влиянии рассуждать было не принято [4].
Лишь в конце двадцатого столетия на фоне глобальных социально-политических перемен появились диссертационные работы, в которых на эту тему заговорили вполне откровенно. Впервые это сделала Л. Е. Хворова на страницах сначала кандидатской, а затем докторской диссертации. Впоследствии об этом писали также Е. П. Тырновецкая и О. В. Нарбекова. При этом следует признать, что отсылки на Ф. М. Достоевского в этих работах носят характер серьезный и глубокий, но все-таки не системный, то есть на сегодняшний день не существует исследования, в котором все аспекты такого влияния были бы тщательно изучены и обобщены.
Между тем фигура такого титана, как Достоевский, никогда не уходила из художественной памяти Сергеева-Ценского. Более того, об этом влиянии можно говорить как о своего рода уникальном феномене. Будучи взращенным на произведениях этого писателя, Ценский даже в советские времена, как свидетельствуют архивные источники, мысленно обращался к выдающемуся авторитету. Нет нужды подробно аргументировать, почему к творчеству именно Достоевского было бесполезно обращаться в 1920-е, а тем более - в тридцатые годы. Тем не менее, Сергеев-Ценский не только писал произведения в ракурсе его идей (они, правда, либо серьезно купировались, либо не публиковались вовсе, либо подвергались абструкции), но и, что поразительно, планировал писатель таковые в тридцатые годы, в разгар откровенной несвободы [5]. Следовательно, представляется абсолютно правомерным вести речь о влиянии идей великого писателя на художественный мир Сергеева-Ценского.
Концепция художественного мира складывается в отечественном
литературоведении приблизительно с 1970-х годов XX века. Исследова-
\9 тели указывают на определенные трудности доведения этого понятия
до терминологической однозначности в силу универсальности его значения [6].
Яркость художественного мира- глубинную основу как творче
ства писателя в целом, так и отдельных его произведений - образуют
поэтические идеи в их устойчивых сочетаниях. Поэтические идеи
«ближе и непосредственнее всего обнаруживают себя в образном слое
произведения через систему формально и содержательно устойчивых,
но гибко варьирующихся в своих признаках образных мотивов» [7].
Анализ художественного мира предполагает восхождение от образной
структуры произведения к его тематической структуре (ядру художест
венного мира).
к Ю.М. Лотман указывает, что художественный мир «динамичен,
подвержен эволюции и (...) находится под постоянным деформирующим воздействием с его же помощью создаваемых текстов» [8].
В понятие художественного мира мы вкладываем традиционную
констатацию: это система мировоззренческих идей писателя в единстве
с типологическими формами их образного воплощения (идеи, темы, об
разы). Сюда входит так называемое «художественное пространство»
W текстов автора и фрагменты «биографического автора» (М.М. Бахтин).
Если говорить о сущности концепции нашего исследования, то мы опираемся на критерии, разрабатываемые в настоящее время рядом ученых. Выделяя два доминирующих подхода к анализу художественного произведения, историко-литературный и мифопоэтический, они рассуждают и о необходимости так называемого «третьего пути», вытекающего из различных типов культур, специфики самосознания.
В.Н. Захаров подчеркивает, к примеру, необходимость оформления особой научной дисциплины - этнопоэтики, которая изучит национальное своеобразие конкретных литератур, их место в мировом художественном процессе. Она должна дать ответ, что делает данную литературу национальной, в нашем случае - что делает русскую литературу русской. Чтобы понять то, что говорили своим читателям русские поэты и прозаики, нужно знать православие. Православный церковный быт был естественным образом жизни русского человека и литературных героев, он определял жизнь не только верующего большинства, но и атеистического меньшинства русского общества; православно-христианским оказывался и художественный хронотоп даже тех произведений русской литературы, в которых он не был сознательно задан автором» [9].
Отличительной особенностью русской литературы, по напоминанию И.П. Золотусского, является то, что она «родилась в келье. Первые летописцы были монахи (Нестор, например), одним из русских писателей, впервые вышедших в мир, был мятежный Протопоп Аввакум. (...)
Вот почему так сильна в русской литературе тема Бога. Вот почему в ней так слышна проповедь» [10].
Маятник жизни всегда, во все времена, колебался между Добром
^ и Злом. Более того, последнего извечно было сверх всякой меры. Имен-
но поэтому для любой литературы важно определить, что же является «спасительной равнодействующей» этих двух противоположностей, иначе говоря, где точка отсчета, критерий истины, идеал? «Русский положительный герой не может без Христа», - напоминает Золотусский. -«Или он Христа приемлет, или отрицает, но он связан с Христом, от Христа зависит, причем в Священном Писании его привлекает именно
(#
&
*
фигура Христа, не столько Бога Отца, сколько Сына Бога, Богочеловека, принявшего за всех нас страдание на кресте». Отличительной особенностью русской литературы является то, что она «всегда хотела связать Бога и человека, небо и землю, свести небо на землю, осветить самый низ, те подвалы и подполье души, которые пребывают, кажется, в сплошной тьме» [11].
Достоевский и Сергеев-Ценский - фигуры, безусловно, не равнозначные. Однако и тот, и другой по-своему оригинальны и неповторимы. «Прямое» их сопоставление представляется нам не вполне корректным. В настоящей работе мы актуализируем то, что называется «преданием» или «традицией». В 1825-1826 годах в незавершенной статье «О народности в литературе» А.С. Пушкин выделил три основные составляющие, которые определяют «физиономию каждого народа»: климат, образ правления и вера» [12]. Он был глубоко убежден, что «образ мыслей и чувствований» у каждого народа различен. Что же касается русского образа мыслей, то он же уточнял: «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер» [13]. Позже эту мысль развил Н.В. Гоголь, а затем - Ю.Ф.Самарин, который приблизился уже к обоснованию понятия «традиция» или «предание»: «Общественные идеалы не выдумываются и не навязываются; они слагаются сами собою, вырабатываясь постепенно, историческою жизнью целого народа, и передаются от одного поколения к другому бесчисленными, незримыми нитями живого предания. (...) Где историческое предание порвано, там идеалы теряют свою жизненность, тускнеют в сознании и в совести; где каждое поколение обзаводится для своего обихода новыми всякого рода идеалами (...), там они остаются на степени мнений и увлечений, но не переходят в убеждения и не приобретают разумной силы над волею. Где с каждым десятилетием меня-
(*
#
ются основы и системы воспитания общественного и частного, там не бывает ни зрелости умственной, ни крепкого закала характеров, ни строгости нравственных требований (...). Такая почва не благоприятна для веры (...) просто потому, что в ней нет на нее запроса (...)». Самарин был глубоко убежден, что целостное общественное сознание определяется спецификой веры конкретного народа [14].
Подчеркнем, что актуализация данного вопроса - отнюдь не только «русский комплекс». Перечтем внимательно гегелевскую «Эстетику» и обнаружим, что «назначение искусства состоит в том, чтобы найти художественно соразмерное выражение духа народа» (Выделено нами. - Т.К.) [15]. Великий философ был глубоко убежден в том, что «... вполне сопереживать можно только песне своей нации, и, как бы ни умели мы, немцы, перевоплощаться во все иностранное, все-таки глубина музыки национальной души остается чем-то чуждым для других народов, и требуется помощь, то есть переработка, чтобы здесь прозвучал родной звук своего чувства» [16]. «То, что освящено преданием и обычаем, обладает безымянным авторитетом, и все наше историческое конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков - а не только понятого на разумных основаниях - над нашими поступками и делами. (...) Нравы и этические установления существуют в значительной степени, благодаря обычаям и преданию. Они перенимаются в свободном акте, но отнюдь не создаются и не обосновываются в своей значимости свободным разумением. Скорее именно основание их значимости мы и называем «традицией» [17]. Гадамер, в частности, пишет, что «мы всегда находимся внутри предания, и это пребывание - внутри не есть опредмечивающее отношение, когда то, что говорит предание, воспринимается как нечто иное и чуждое, но, напротив, оно всегда и сразу является для нас чем-то своим, примером или
предостережением, самоузнаванием, в котором для наших последующих исторических суждений важно не столько познание, сколько непредвзятое слияние с преданием» [18]. Нравы и этические установки передаются свободно, интуитивно. Необходимо подчеркнуть, что пребывать «внутри традиции» - не значит быть ограниченным в своей свободе, поскольку «самосознание индивида есть лишь вспышка в замкнутой цепи исторической жизни» [19]. Актуализация «предания» как необходимого контекста понимания невозможна, как замечает И.А. Есаулов, без исследовательской рефлексии по поводу «типа культурной традиции - с авторитетной для этой традиции архетипическои системой ценностей» [20].
Иными словами, в нашей работе для нас существенно то, что и Достоевский, и Сергеев-Ценский находятся внутри одного предания, в рамках единого типа культуры, следовательно, у них неизбежно обнаружатся, так сказать, ключевые « параметры сближения».
Актуальность диссертации определяется, таким образом, ее связью с ведущими направлениями современного литературоведения, включающими исследования по проблемам «традиционности», «пота-енности», текстологии, культурно-аксиологической парадигмы, сравнительной типологии.
В связи с намеченным современными учеными вектором цен-сковедения, а также достоевсковедения, в диссертации представляется актуальной попытка выявления сопоставления ключевых положений поэтико-философской ориентации двух писателей; утверждается статус Сергеева-Ценского как продолжателя традиции Ф.М. Достоевского, тип эмоционально-ценостной ориентации которого восходит к православно-христианскому знаменателю. Изучение особенностей религиозно -
нравственных основ творчества того и другого писателя является ключом к пониманию многих характерологических сходств их поэтики.
Диссертация написана на материале прозы Ф.М. Достоевского и С.Н. Сергеева-Ценского.
С целью воссоздания максимально аутентичной картины в качестве объекта исследования избираются произведения того и другого писателя разных лет: «Великое пятикнижие» и «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского; романы «Бабаев» (1906), «Валя» (1913-1923), «Наклонная Елена» (1913), «Обреченные на гибель» (1923); повести «Лесная топь» (1906), «Печаль полей» (1909), «Крымские рассказы» (1922-1923) С.Н. Сергеева-Ценского.
Цель исследования. Опираясь на архивные и опубликованные источники - художественные и публицистические произведения, эпистолярное наследие обоих писателей, осмыслить и констатировать мно-гоаспектность влияния феномена Ф.М. Достоевского на художественный мир С.Н. Сергеева-Ценского.
Поставленной целью обусловлены следующие задачи:
Выявить основные параметры сближения эмоционально-ценностных ориентации обоих писателей, обозначив интуицию совести и проблему вины как ведущую духовно-нравственную категорию, образ земли как ключевой, проблему индивидуализма как основополагающую.
Обнаружить основные темы (мира(семьи) и войны), индикати-рующие «великие предвидения» Достоевского в «апокалиптических реалиях» Сергеева-Ценского.
Проследить траекторию деградации от «семейства случайного» к «семейству обреченному», обратив особое внимание на деформацию женского характера.
4. Охарактеризовать понятия «Живой Христос», «Богочеловек и че-
ловекобог» у того и другого писателя.
(w Научная новизна диссертации заключается в том, что предме-
том отдельного специального изучения становится влияние феномена Ф.М. Достоевского на художественный мир С.Н. Сергеева-Ценского. До сих пор о таком влиянии речь велась фрагментарно, эпизодично.
Впервые в научный обиход вовлечена глава «Бесстенное» романа С.Н. Сергеева-Ценского «Бабаев», которая в советские времена была изъята цензурой. В связи с этим уточняются некоторые весьма существенные нюансы характера главного героя, его соотносимость с «Достоевскими» персонажами.
В работе изучается многоаспектность влияния феномена Достоевского на художественный мир Сергеева-Ценского на уровне образов, проблем, характеров, общей поэтико-философской концепции творче-ства.
Теоретико-методологическая база исследования. В диссерта
ции используются фундаментальные труды русских мыслителей, теоре
тиков литературы и философов — М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева, С.Н.
Булгакова, Б.П. Вышеславцева, А.Ф. Лосева, В.В. Розанова, Ю.Ф. Сама
рина, B.C. Соловьева, Г.П. Федотова, П.А. Флоренского, А.С. Хомякова.
В диссертации цитируются труды зарубежных мыслителей Г.В.Ф. Геге-
'^Т ля, К.Г. Юнга, Х.Г. Гадамера, Л. Фейербаха.
К работе привлечены исследования современников писателя А.Б. Дермана, Р.В.Иванова-Разумника, Е. Колтоновской.
Учтен опыт ведущих ценсковедов и современных литературове
дов М.М. Дунаева, И.А. Есаулова, В.Н. Захарова, И.П. Золотусского
^ Т.А. Касаткиной, Г.С. Макаренко, О.В. Нарбековой, B.C. Непомнящего,
П.И. Плукша, А.С. Смирнова, Е.П. Тырновецкой, Л.Е. Хворовой, Ю.М. Шпрыгова.
Методика исследования включает в себя элементы культурно-исторического, этнопоэтического (В.Н.Захаров), герменевтического, ис-торико-функционального подходов.
Теоретическая значимость исследования определяется конкретизацией, уточнением, семантическим расширением понятий «художественный мир», «историзм», «традиция» (предание), «пасхальный архетип»; осмыслением теории «реализма в Высшем смысле» (В.Н. Захаров), «эмоционально-ценностная ориентация» (Т.А. Касаткина).
Практическое значение. Основные положения и выводы могут использоваться в практике вузовского преподавания, проведении различного рода занятий по проблемам русской литературы XIX-XX веков.
На защиту выносятся следующие положения. 1 .Ф.М. Достоевский - один из тех классиков русской литературы, который существенным образом повлиял на становление и развитие творческого феномена С.Н. Сергеева-Ценского.
2.Вопреки сложившимся стереотипам о якобы коренным образом изменяющемся мировоззрении Сергеева-Ценского к середине 1930-х годов в сторону социалистического реализма (Ю.М. Шпрыгов, И.М. Шевцов, П.И. Плукш и другие), следует отметить, что на протяжении всего творческого пути писателя Ф.М. Достоевский не уходил из его художественной памяти. Об этом свидетельствуют наброски к ненаписанным, но замысливаемым романам «Преступная красота», «Беззаконная красота» (1930-е годы), хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства, замысел которых восходит к идеям «великого пятикнижия» Достоевского.
3.Оставаясь каждый по-своему ярким самобытным художником, Достоевский и Сергеев-Ценский, обнаружили, тем не менее, многие весьма очевидные грани сближения как представители «единого предания» с авторитетной для него «архетипической системой ценностей».
4. «Апокалипсис», свидетелем которого был Сергеев-Ценский, являлся трагической, но очевидной проверкой многих «великих предвидений» Ф.М. Достоевского, которые воплотились на уровне конкретных тем, идей, образов.
Апробация диссертационного исследования. Основные положения и отдельные проблемы исследования многократно обсуждались на заседаниях кафедры русской филологии Тамбовского государственного технического университета, были представлены на Международных научных конференциях в 2005 году в высших учебных заведениях России, Украины: городах Самара, Горловка и Луганск.
Структура и объем работы. Поставленные задачи определили структуру исследования. Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, примечаний и списка использованной литературы.
Интуиция совести и проблема вины у Достоевского и Сергеева-Ценского
Термин «эмоционально-ценностная ориентация» используется известным современным исследователем творчества Ф.М. Достоевского Т.А.Касаткиной в монографии «Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентации» (1996).
Для наших сравнительных изысканий представляется целесообразным использовать именно его, поскольку он более конкретен; «вводит момент внелогического эмоционального, чувственного отношения к миру и его ценностям и указывает на то, что перед нами более глубокий пласт личности, чем тот, который открывается, когда мы говорим, например, о мировоззрении» [1].
Эмоционально-ценностная ориентация - способ отношения человека к миру, глубинная основа его реакций на мир. Сергеев-Ценский называл это «мирообменом». В одном из писем к А.Г. Горнфельду, рассуждая о повести «Движения», Сергеев-Ценский так это пояснял: «Я не пессимист, не оптимист, я [...] только художник, склонный к лирике, то есть могу быть и тем, и другим, и третьим. Но ведь эти «измы», конечно, только проявление личности в идеях, которые сами по себе тоже продукт творчества личности. Понятие «индивидуализм», конечно, только лежит рядом с понятием «личность» (творческой, разумеется), отнюдь его не покрывая. Понятие «мироощущение» слишком первичное понятие, также как понятие «мировоззрение» - слишком главное, а миросозерцание слишком затрепанное. Для творчества художника (своего, в частности) я ввел бы новый термин «мирообмен» - мир художника не пассивен - он действует на восприятие по-своему и действует не всегда общепринято и логично (даже не образно логично). Когда я писал «Движения», чтобы доказать непрочность земного строительства, я был озабочен тем, как гармоничнее расположить три краски: зеленую (хвойная зелень - тишина, холод, смерть), желтую (теплота, сырость, мелькание, жизнь) и голубую (Рок, Бог, Небо) [2].
Понятие, возведенное нами в заглавие параграфа, объясняется следующим образом. Случилось так, что внутри христианского мира сложилось два типа культуры, две системы ценностей, хотя и объединенные общим идеалом - «христианским знаменателем». Сущность проблемы заключается не в самом идеале, а в отношении между этим идеалом и действительностью. Современные исследователи, производящие свои изыскания в православно-христианской парадигме [3], определяют эти отношения как бы через статус двух ключевых христианских праздников - Рождества и Светлого Христова Воскресения (Пасхи). Для «восточного», православного сознания Рождество Христово (...) событие особое и величайшее; однако оно все же вписано в цепь событий, предвечно определенных быть таинственным актом спасения погрязшего в грехе человечества крестной жертвой Сына Божия. Пасха же вбирает в себя всю полноту акта спасения, от Благовещения и Рождества до Распятия и Воскресения. Вочеловечение Бога, рождение Христа - акт участия Бога к человеку и в судьбе человечества, Пасха же предваряемая страданием и смертью Христа, - сверх того указание пути к спасению и вечной жизни: «Последуй за Мною, взяв крест» (Мр., 10, 21). Рождество - акт Божественной любви к человеку, Пасха же - сверх того призыв к ответной любви человека к Богу, к осуществлению и торжеству христианского идеала, Божественного Замысла о человеке. Поэтому Пасха в православии - «праздников праздник и торжество всех торжеств» [4].
Пасха на Западе не имеет такого значения, как в Православии. Священнослужители и современные литературоведы акцентируют именно натуральную сторону данного события - Распятие и крестные муки. Безусловно, такое событие не тянет на роль самого большого и светлого праздника, «праздника праздников». Акцент делается на Рож-дестве, особо актуализируется его значение. Следует также заметить, что различия «православия и католичества — это различное проведение границы между душевным и духовным (...) То, что в православии есть еще лишь естественное состояние, в католической мистике воспринимается как уже благодатное. Западная картина и восточная икона зримо показывают эту разницу» [5]. Далее, поясняя свою мысль, Андрей Кура-ев ссылается на Лосева, поскольку он проявление этих внутренних раз-личии видит в том, как «отличается вселенско-ликующее умозрение колокольного звона от сдавленно — субъективного торжества универсально-личностной самоутвержденности органа — как простота и умная наивность византийского купола от мистических капризов готики, как умиленное видение иконного лика от нескромного осязания и зрительного взвешивания статуи» [6]. Лосев также указывал и на «прелестную» практику, имеющую место в католицизме, а именно страстные взирання на крест Христов, на раны «Христа и на отдельные члены тела Его, (...) насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле» во время молитвы, что противоположно «византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству» [7]. Различие духовной восточной и западной традиции откровенно, категорично представлено у В.В. Розанова, причем известная специфичность его убеждений в данном случае не существенна: «Все сложение католичества глубоко не похоже хоже на сложение православия. Этого нельзя заметить в Варшаве, в Вене, еще менее - в Петербурге. Но мне, как человеку массы, живущему более общим впечатлением от церкви, нежели вхождением в ее подробности, когда я бродил по улицам Рима, внутренний голос шептал: «Не то! не то! Это совершенно не то, что смиренная вера Москвы, Калуги, Звенигорода, моей родной Костромы». Я подумал, все суммируя мои наблюдения, все бродя по улицам города, поминутно заходя в церкви: «Да это не разделение церквей, как пишут учебники, это - не секта, не толк, не учение: Это совсем разные религии — православие и католичество.» Примирение церквей! Боже, какая это утопическая мечта гимназиста четвертого класса!» [8].
Образ земли в поэтико-философской системе Ф.М. Достоевского и Сергеева-Ценского. Сближение или отталкивание?
Е. Колтоновская в 1913 году в журнале «Русская мысль», пытаясь выявить сущность влияния великого писателя на поэтико-философскую систему Сергеева-Ценского, делала это абсолютно верно, но, на наш взгляд, не глубоко, не расставляла при этом четких акцентов. Ограниченность взглядов Колтоновской объяснялась тем, что она смотрела на Сергеева-Ценского сквозь призму центрального персонажа его раннего творчества Сергея Бабаева («Бабаев»). Рассматривая образ героя подробно, но все же поверхностно, Е. Колтоновская писала: «Сергеев-Ценский воспитался на Достоевском, принял его наследство (...) В издерганной, мучительной психологии Бабаева нетрудно распознать учителя Сергеева-Ценского. В этом своем юношеском произведении он ближе всего к Достоевскому. В «Бабаеве» - следы его глубокого и стра-стного увлечения гениальным психологом-моралистом» [29].
На наш взгляд, Колтоновской не удалось выявить глубину влияния Достоевского именно на поэтико-философскую систему Сергеева-Ценского. Главное, основное, в чем она была несправедлива, это в неверном толковании, если можно так выразиться, «рационального зерна» такого влияния, да и статус Достоевского в начале XX века не был еще так очевидно определен, каким он сформировался впоследствии. Сущность влияния, по нашему убеждению, восходит к восприятию тем и другим важнейшего ключевого образа - образа Земли. Колтоновская писала так: «... по природе Сергеев-Ценский не похож на своего любимого учителя. Он гораздо здоровее и уравновешеннее его. (...) Даже в ранних, наиболее отвлеченных, философствующих произведениях сказывается его большая стихийная любовь к жизни (...) Сами краски у Сергеева-Ценского — такие особенные — как бы отливают налетом этой влюбленности в землю» [30].
Безусловно, ни один художник не может и, главное, не должен повторять до скрупулезной точности манеру того или иного своего предшественника. Это было бы, по меньшей мере, нелепо. Однако думается, в данном случае дело заключается в ином. Необходимо разобраться, чем был образ Земли для того и другого, а главное, к какому идеалу он восходит.
Общеизвестно, и в настоящее время широко признано, что нравственный идеал Ф. М. Достоевского - автора своих великих романов -сводился к тезису, обозначенному в записной книжке по поводу идеи романа «Преступление и наказание»: «Идея романа. Православное воззрение; в чем есть Православие? Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием» [31].
Как известно, эта идея была вымучена самим писателем. И если смотреть на его творчество именно в этом ракурсе, то все нервические перипетии его героев — духовная болезнь этих самых героев, мучительно ищущих истину.
Что касается Сергеева-Ценского, то в последние годы (постсоветский период) о христианском идеале, существенно влиявшем на его мировоззрение, говорится достаточно много: «Ценский — писатель, творческая личность, автор своих произведений, был, бесспорно, верующим человеком, но в творчестве это была не идеологическая позиция, а способ мышления, основанный во многом на интуитивном прозрении. (...) Путь Сергеева-Ценского - сложный, зачастую противоречивый путь борьбы высшего с низшим, небесного с земным. Речь идет, прежде всего, о духовной интуиции писателя, определяющей самобытную природу его творчества. В его произведениях нет героя-Христа, нет открытых религиозных тенденций, (...) однако везде он незримо присутствует, ибо критерии добра и зла определены в соответствии с постулатами христианской этики» [32].
Именно это качество, как мы думаем, сближает писателя Сергее-ва-Ценского с писателем Достоевским. Есть даже схожие моменты в поиске одним и другим духовно-нравственного идеала. Достоевский пришел к нему через «петрашевские» заблуждения и каторгу, Сергеев-Ценский - через мучительные юношеские сомнения монотонно-мрачных представлений о смысле человеческого существования на земле. «Не только конкретная видимость жизни — то, что зависит от самих людей - неустроенна, несправедлива, уродлива и пошла, по Ценскому, а и ее внутренняя сущность ужасна, метафизическая ценность жизни ничтожна. Уединившийся, замкнувшийся в себе человек Ценского одинок не только среди людей, айв Космосе» [33]. О темах, интересовавших писателя в самом начале XX столетия, свидетельствуют сами заглавия: «Тундра», «Бред», «Маска», «Скука», «Умру я скоро», «Дифтерит». Следует подчеркнуть, однако, что подобные настроения очень скоро уйдут со страниц его произведений. Это произойдет уже к началу 1910-х годов. Красноречивым подтверждением тому является в том числе и малый «зарисовочный» жанр, который также не приживется в его творчестве. Уже роман «Бабаев» (1906) будет поворотным произведением в этом плане.
«Апокалиптические реалии». К вопросу обоснования понятия.
И.П. Золотусский, анализируя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, подчеркивал, что отнюдь не «внешние ужасы порождают в этих повестях страх, а человек — его тайные мысли, тайные желания, те потемки его души, которые Достоевский потом назовет подпольем. Молодой Гоголь заглядывает и туда. Его страшит чернота греховности, тайна падения человека. В «страшной мести» ужасны не клыки колдуна, не его зверское обличье, хотя и оно наводит страх, а притягательная сила зла» [1].
Замечая то, что грех прячется в бессознательном, автор исследования делает акцент именно на этом.
Если у Гоголя - это тайные мысли человека, его тайные желания, что и у Достоевского называется «подпольем», то у Ценского — это реалии, конкретные человеческие деяния. И если у того и другого - это торжество страсти, то у Сергеева-Ценского-обыденность.
«Реалиями» в литературоведческой практике принято называть предметы, явления, понятия, принадлежащие «культуре, бытовому укладу того или иного народа, государства, упоминание которого в тексте художественного произведения позволяет подчеркнуть специфику и самобытность жизни и сознания этого народа» [2].
«Самобытность» современной Сергееву-Ценскому российской действительности послереволюционных лет виделась апокалиптической» [3]. Происходящее воспринималось писателем как средоточие дьявольских соблазнов, которые обострили до предела противоречия устоявшихся и новых зачастую непонятных форм жизни.
Зло не онтологично душе, а является лишь следствием грехопадения: «(...) добродетель имеет потребность в нашей только воле, потому что добродетель в нас и из нас образуется. Она образуется в душе, у которой разумные силы действуют согласно с ее естеством (...) сотворена же она доброй и совершенно правою (...). Когда уклоняется душа и делается несообразною с естеством, тогда называется это пороком души. (...) Если пребываем, какими созданы, то мы добродетельны. Если же рассуждаем худо, то осуждаемся, как порочные. (...) Итак, (...) знаем, что демоны называются так не потому, что такими сотворены. Бог не творил ничего злого» [4].
«Крымские рассказы», а также роман «Обреченные на гибель», написанные в 1920-е годы, с документальной точностью фиксируют небывалую по своей глубине и размаху ломку традиционного общества и человеческих отношений, утрату духовной основы.
Революционная стихия уничтожала исконную сущность русского человека: «тягу к земле», патриархальность и при этом стремилась создать людей «новой жизни». Такое акцентирование борьбы нового и старого, идущее, безусловно от Достоевского, наводит на мысль выявить ее генезис.
В повести «Тяга земли» так описываются эти самые «соблазны» (поведение большевиков в Крыму после ухода немцев): «И чуднее всего вышло то, что никакой злобы против него не было, а была даже новая радость: прогромыхал немец мимо со своими обозами, никого не тронул, ничего даром не взял, - очень вежливый оказался народ, хоть и не понимал по-русски.
И даже хорошо вышло, что он пришел: до него было хуже: забирали свои-же лошадей и скот и не платили, забирали сено и овес и не платили, забирали хлеб, и не платили, и не себя считали ворами и грабителями, нет: ворами называли тех, кто прятал свое собственное добро, а кто пытался его не давать, тех убивали, как врагов народа, и говорили еще, что идут за народ против господ и хотят, чтобы народу можно было жить так, как и прежние господа не живали» [5].
Исследователи творчества Сергеева-Ценского последнего десятилетия обращали внимание на эту проблему, отмечая, в частности, очень резкие высказывания писателя о человеке. Однако показавшийся омерзительным Сергееву-Ценскому человек по своей сути не жесток. Следует согласиться с Е.П. Тырновецкой, которая писала: «Оставаясь все менее значительным перед силою возбужденной им стихией, а затем, оказываясь в подчинительном положении с чувством социальной безысходности и исторического отчаяния, он пытается создать иллюзию выхода из него - внезапной, все взламывающий и равно стихийный порыв» [6].
Безусловно, речь идет не о том человеке, который имел предков древних христиан. Речь идет именно о человеке «новом», порожденном конкретным временем. Эпоха Сергеева-Ценского, в отличии от эпохи Достоевского, во всей многоликости явлений отличалась резкой интенсификацией исторического процесса. Разумеется, она не смогла не оказаться чуждой писателю, поскольку кардинально разрушала его представления о человеке и характере ценностей.
Оригинален он, конечно, не был. Так если вспомнить рассказ современника Сергеева-Ценского И.А. Бунина «Эпитафия», написанный еще в начале века, то там обнаруживаются схожие размышления: «Вот новые люди стали появляться на степи. Все чаше приходят они по дороге из города и располагаются станом у деревни. (...) Люди без сожаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают ее землею, потому что ищут они источников нового счастья, - ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего...» [7].
Сергееву-Ценскому было невозможно представить себе, как люди смогут жить без ослепительных куполов скромных русских церквушек (см., к примеру, сон Матийцева). Непонятно было, чем можно осветить русскую жизнь без креста и без Покрова Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что позиции многих писателей — современников Ценского схожи (Бунин, Л. Андреев, А. Ахматова и ряд других), все они, конечно, были, тем не менее, бессильны перед собранной, чеканной, как часовой механизм, новой властью-властью тех самых «новых людей». Бессильны они были, возможно, и потому, что находились в так называемом «духовном вакууме», поскольку новая власть, мягко говоря, не понимала их гражданскую позицию. Рапповская критика неистовствовала по отношению к творческим опусам Ценского [8].
Проблема человекобога и Богочеловека в поэтико-философских исканиях Ф.М. Достоевского и С.Н. Сергеева-Ценского.
Так называемым «человекобожием» болело, как известно, все новое время мировой истории, «зачином» которого стала эпоха Возрождения. Приняв философское оформление в 1840-е годы у Людвига Фейербаха, эта идея стала чрезвычайно привлекательной для человечества. Фейербаховский антропотеизм (человекобожие, по Достоевскому) вернул религию с небес на землю, в человека, в его голову и сердце. Эти две «детали» человеческого естества сотворили самого Бога, материализовав в нем свои собственные высшие желания добра, красоты, любви, бессмертия и так далее. Л. Фейербахом были сформулированы и, так сказать, тезисы новой веры: «низводя теологию к антропологии, я возвышаю антропологию до теологии»; «человек есть начало, человек есть середина, человек есть конец религии» [36]. Обращает на себя внимание в этих переводах то самое откровенное «я», сказанное по-марксиски бескомпромиссно, недаром С. Булгаков писал, что «атеистический гуманизм Фейербаха составляет душу марксистского социализма», его «общефилософский фундамент» [37].
Ф.М. Достоевский твердо возражал тем, кто заявлял о так называемых «безрелигиозных добродетелях», которые рассуждали при этом приблизительно так: можно не верить в Христа и быть вполне нравственным и благородным, честным, не исполняя никаких молитв и обрядов.
Всей логикой своего творчества писатель обнаруживал естественную связь между неверием и безнравственностью, вершиной которых непременно является преступление. Для писателя были очевидны следующие умозаключения: неверующий не способен различать зло и добро; идея бессмертия — единственная, побуждающая человека к нравственной жизни, без нее невозможна любовь к человечеству.
Бессмертие, по Достоевскому, уже существует потому, что оно есть логическое условие разумной жизни человека. В «Дневнике писателя» приводится письмо самоубийцы, основная мысль которого сводится к тому, что логическим завершением жизненного пути самоубийцы является последовательное отрицание веры в Бога, то есть, очевидна логическая связь между отрицанием веры в Бога, преступлением, неверием в бессмертие и бессмысленностью любви к ближним.
Постепенно писатель пришел к выводу, что настоящий безбожник зол, нетерпим, мрачен. И самое главное — он обязательно совершает преступление - физическое или же нравственное. Кажется, что повествование «великого пятикнижия» перенасыщено убийствами и самоубийствами. Много и тех персонажей, которые развращают ближнего, склоняя его к убийству или самоубийству: Иван Карамазов - Смердяко-ва, Верховенский - Федьку - каторжника; к самоубийству приходят Свидригайлов, Ипполит, Кириллов, Ставрогин. Последний, как известно, также развратил многих.
Резюмирующим постулатом в цепочке подобных рассуждений является следующий: если за гробом ничего уже больше не будет, явится вместо Небесного Бога земной идеал - человекобог. Причем великий писатель был убежден, что общество неумолимо катится к кровавой и страшной революции, когда народ обратится в людоедов.
Вечная проблема противоборства добра и зла обострилась до предела в начале XX века - века революций, войн, личных трагедий, причиной которых явился сам человек. Смирение, послушание, всепрощение, проповедуемые Иисусом Христом, в начале XX столетия стали представляться как человеческие слабости. Напротив, гордыня, непокорность, разум, сила представлялись истинными, величественными добродетелями.
В. Соловьев в «Краткой повести об Антихристе» (1900) раскрыл те противоречия в богоподобном человеке, которые движут его от уровня Христа к Антихристу. Соловьев уловил те изменения, которые происходили в обществе в целом и в отдельном человеке, проникнув в их сущность. Человек, создав себе миф о своей избранности и богоподобное, искреннее поверил в него и назвал себя сыном Божьим. Но избранность свою он чувствовал не сердцем, как Христос, а разумом: «... ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Миссию. В это он верил, но любил он только одного себя. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя. Он верил в Добро, но всевидящее око Вечности знало, что этот человек преклонится перед злой силою, лишь только она подкупит его - не обманом чувств и низких страстей и даже не выгодной приманкой власти, а через одно безмерное самолюбие» [38].
Человек XX века, стоящий на пороге великих перемен, чувствовал свою силу, верил в возможность изменить мир и не просто изменить, а подчинить его себе. Веря в свою богоизбранность, человеческое «я» не просто занимает место Бога, а делается самим Богом (все - по предвидению Ф.М. Достоевского). Он предписывает себе с присущим ему максимализмом не только мессианское значение, но и возможности Творца и благодетеля: «Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправленного человечества. Я дам всем людям все, что нужно...