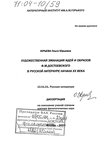Содержание к диссертации
Введение
1. Феноменология достоевского-криминалиста в зеркале и «зазеркалье» художественно-публицистической практики 12
1.1. Суд, личность, государство в журналах «Время» и «Эпоха» 12
1.2. Формула «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома» 38
1.3. Судебные страницы «Дневника писателя». 53
2. Проблема правосудия в контексте «вечной истины» национально-исторического самопознания. 83
2.1. За парадоксами «Преступления и наказания», образ «подданного» судопроизводства 83
2.2. Семантика грядущего «бестианства»: обвинительно-оправдательный ракурс в романе «Бесы» 105
2.3. Контуры правозащитного пафоса в интерпретационном поле романов «Идиот» и «Братья Карамазовы» 126
3. Образная феноменология кодекса доблести и суда чести 153
3.1. Долг чести и право на бесчестие в ранних произведениях Достоевского 153
3.2. Отображение «лабиринта сцеплений» в пространстве русского Правопорядка и рефлексиях подпольного человека. 178
3.3. Суд собственной совести в поздних произведениях Достоевского 194
Заключение. 232
Библиографический список 240
- Суд, личность, государство в журналах «Время» и «Эпоха»
- Формула «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома»
- За парадоксами «Преступления и наказания», образ «подданного» судопроизводства
- Долг чести и право на бесчестие в ранних произведениях Достоевского
Введение к работе
Динамичной константой филологического знания, включая литературоведение и науку о журналистике, стала полифония мнений о сущности образных систем. «Единый художественный мир состоит из реалий и бытия, и мыслимого автором мира», соответственно, «художественная речь имеет собственную ценность потому, что она не просто форма, а и определенное содержание, ставшее формой образа» (Кузнецова 2003, 3, 7). Роль этого гносеологического принципа для познания единства литературы и публицистики отмечается в новейших исследованиях творчества А.П. Чехова (Л.Е. Кройчик), писателей и публицистов Серебряного века (ГМСгепанова).
Это многоголосие концептуализуется многомерно; в системе опорных поликонцептов значима соотнесенность сущего и явленного. Соответственно, образные системы раскрываются с феноменологических позиций. В новейших исследованиях корреляция журналистского я литературоведческого измерений определяется как необходимая, причем в вечно-актуальных понятийных рамках, и приводит к злободневным обобщениям: «Поиск истины Достоевским продолжается и в публицистических произведениях, однако писатель оставил за рамками как «Дневников», так и «Записных тетрадей» весь тот шквал сомнений и неверия, который в художественных произведениях бередил умы и сердца героев. (...) Гибнут молодые силы впустую, без поиска духовного центра, без умения приложить свою энергию к благому делу» (в работе с симптоматичными позицией, заглавием, пафосом и издательской серией: Айрапетян Р.Г. Достоевский о русском разъединении и обособлении // Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире. М.: Изд-во МГУ, 2005. 4.2. С.274-275). Приведенная корреляция принцшщальна. Она с единых позиции представляет роль образных систем Достоевского в соотнесении русского суда и основ национально-правовой этики.Феноменологические позиции побуждают к анализу взаимодействия между художественной и публицистической образностью, поскольку оно значимо для углубленного понимания как первой, так и второй
(см.: Карпов А.О. К проблеме феноменологии творчества // Филос. науки. 2005. №5.С.Ю5,118).
В связи с творчеством Достоевского устойчивую тенденцию к феномено-логизации конкретизируют противоречивые аспекты литературного и журнального процесса, контрасты между различными принципами творчества: и художественного, и публицистического. Так, в показательной по пафосу и по заглавию статье как центральная для Достоевского декларируется коллизия между мировоззренческой проблемой и художественной пластикой: «неустранимость мирового зла» (соотнесенная с принципами самоорганизации человека, с поддержкой концепции В.В. Розанова в новой гносеологической ситуации) рассматривается в контексте пластического преодоления зла (Гаджиев К.С. Апология Великого Инквизитора //Вопросы философии. 2005.№ 4. СП).
В современных условиях гуманитарного познания закономерно обостряются проблемы смыслового, эмоционального, ценностного потенциала образов и образных систем. Обосновывается, например, «карамазовщина» как символ русской стихии (одноименная статья В.К. Кантора // Вопросы философии. 2005.№4.С.П).
Принять эту искусительную концептуализацию можно, однако, лишь с серьезной коррекцией — в таких гносеологических координатах, при которых «стихия — это ни в коем случае не агрессия...она не может быть рассудочной, но она обязана быть разумной в соответствии с первоначальной целью возникновения— созиданием жизни. Стихия сложна для понимания тем, что внешне она — порыв духа (причем созданного ею же)... Однако национальная стихия — это сила, создающая и дух, и веру, и волю» (А.В. Канашкин 1997,5).
Значимость творчества гения, художническая зоркость Достоевского проявлялась в глубине провидческих предостережений, в умении беспощадно анализировать «текущее» во имя прекрасного будущего. Отношение писателя к русскому суду — одно из блестящих тому свидетельств.
Соответственно, актуальность исследования заключается в обращенности к принципиальным проблемам филологического знания, а именно к интегра-
тивной сфере взаимообогащения науки о русской литературе и науки о журналистике — к феноменологии художественного образа в его взаимосвязях с публицистическим в контексте литературно-журнального процесса. Актуальность усиливается той знаковой феноменологичностью творчества Достоевского, в которой русская духовность как сущее определяет культово-мировой статус Художника.
Истолкование темы русского суда в творчестве Достоевского (исследователями-филологами, теоретиками и практиками-юристами и т.д.), отличающееся контрастностью уже свыше столетия, может быть уточнено с учетом феноменологической значимости образных систем. Ее изучение наметилось сразу же после смерти писателя. 2 февраля 1881 г. в годовом собрании Юридического общества при Санкт-Петербургском университете А. Ф. Кони произносит речь о Федоре Михайловиче. Он восхищается тем, как глубоко и верно поставлены писателем специальные вопросы уголовного исследования: разграничение разных видов убийств, роль собственного сознания, определение преступления и наказания, принятие мер пресечения. Увлеченный судебной реформой, А. Ф. Кони сопоставляет страницы творчества художника с соответствующими параграфами Уложения о наказаниях и Устава уголовного судопроизводства, находит их полную идентичность и называет Достоевского выразителем необходимости «перехода нашего суда от отживших старых форм к новым» (Кони 1968, 419). Едва успела отзвучать торжественная речь Кони, как ее начал ниспровергать Н. К. Михайловский. Он заявил, что «г. Кони... придавил покойника» своей похвалой, что «художник, умевший глаголом жечь сердца людей, певец униженных и оскорбленных» достоин лучшего понимания и анализа, чем «маленький-маленький» анализ мер пресечения, способов уклоняться от суда и прочих вещей, доказывающих лишь «научную ценность за поэтическими произведениями» (Михайловский 1908, 413, 415). Так с самого начала обнаружились разные подходы к конкретно-историческим темам в творчестве Достоевского. Исследовательская традиция пошла за А. Ф. Кони. Тема «Достоевский и суд» утвердилась как периферийная, узкоспециальная, не имеющая выхода за преде-
лы истории суда (Новицкий 1921; Голяков 1959; Гольдинер 1961, 19-21). Лишь в последнее время появились работы, исходящие из того, что «размышления
Достоевского о суде далеко выходят за рамки юриспруденции» (Щенников 1971,3).
Достоевский был современником той поры, когда едва начавшее существовать в «новых» судах современное ему правосознание стало колебаться под влиянием системы объективных обстоятельств. Ухищрениям этого права, которое, по свидетельству одного из «веховцев», по самому духу своему всегда
«основано на компромиссе» (Кистяковский 1909, 136), противопоставлялись позитивные нравственные установки, включая национальные духовные традиции человечности и веры. Герои Достоевского совестливы: рано или поздно они умеют произвести «суд собственной совести», осудить себя или других за бесчеловечность.
Цель исследования — выявить единство в феноменологическом многообразии образов русского правосудия и смежных явлений как принципиальных для творчества Достоевского.
Целью определены три основных задачи исследования.
Соотнести три феноменологических подсистемы: суд, личность, государство как публицистические феномены в журналах «Время» и «Эпоха»; образную явленность формулы «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома»; образы в судебных страницах «Дневника писателя».
Систематизировать образные сущности и феномены Правосудия в романе «Преступление и наказание»; феноменологические ракурсы в романе «Бесы; интерпретационное поле исследуемых образных феноменов в романах «Идиот» и «Преступление и наказание».
Охарактеризовать образно-феноменологические аспекты исследуемого пространства в континуальной связи: от ранних произведений — к «Запискам из подполья» — и к позднему творчеству.
Методологической основой служат взаимодополняющие принципы системной, социокультурной и исторической исследовательских парадигм в объяснении литературного и публицистического процесса. Их совместимость обеспечивает феноменологическая установка на ингерсубъектшость, органичную для исследуемого пространства (ЭГуссерль, ИАИльин, СЛФранк, в последние десятилетия— В.У. Бабушкин, В.И. Молчанов, Н.В. Мотрощилова, В.В. Семенов). Причем феноменология образа нацеливает на взаимную необходимость сущности и явления в особой— интерсубъективной — целостности.
Опорными являются методологические принципы целостности, единства в раскрытии основополагающих категорий: свобода, право, личность и др. (И. Кант; А.Ф. Лосев; В.В. Кожинов); на их основе анализируется как система образных феноменов, так и соотношение общего и особенного: «общность есть не абстрактно-изолированная идея, но руководство к действию... закон и метод для возникновения индивидуального» (Лосев 1989, 6)— в исследуемой сфере индивидуального творчества Достоевского. Методологически существенно кантовское представление о том, что настоящая свобода оказывается формой отказа от следования естественным человеческим желаниям, это некий промежуточный феномен, ограниченный, с одной стороны, стремлением удовлетворить желание, с другой же — запретом на реализацию подобного стремления. С учетом методологического принципа полифонии (М.М. Бахтин) раскрывается художественно-публицистическое взаимодействие, в том числе являемое в своеобразии текстов.
Научная новизна результатов заключается в трех взаимосвязанных аспектах. Во-первых, представлены в единой системе ранее обособленные объекты. Обоснованы новые связи между социально-историческими и художественными феноменами. Единство системы и динамики дало возможность интегрировать как носитель единых закономерностей пять основных подпространств: канонические тексты, черновики, записные книжки Достоевского, подготовительные материалы к «Дневнику писателя», обособившиеся в отдельный объект, и собственно-журнальную публицистику. Такой подход позволяет мотивировать
специфическую взаимообусловленность образных проявлений и их изменчивость (дуэльные нарративы с необходимостью раскрывают в ряде произведений комплексную проблему идентичности и целостности личности; в черновиках «Подростка» в пределах одного абзаца соединены идея девичьей чести, оскорбления чести и непротивления злу; и мн.др.). По-новому охарактеризовано преображение реальной истории в идеальный план романов Достоевского. «В комбинации и путанице самых обыкновенных вещей» [8, 273] он провидел основы человеческого бытия, и глубинные взаимосвязи внешне обособленных пространств творчества гения установлены в формате этого историко-художественного взаимодействия.
Во-вторых, впервые с феноменологией образа соотнесен ряд художественных приемов, характерных для Достоевского: неповторимая смысловая контрастность (позитивные номинации «восторг» и мн. др. в сценах дуэлей); глубоко индивидуальная активизация разных значений доминантных слов текста. На этой же основе детерминированы редакционные поправки и объяснены избранные для анализа направления журнальной полемики.
В-третьих, новы обоснования систем образов, в т.ч. художественного и публицистического образа правопорядка. Новизна проявилась в характере историко-литературной категоризации: впервые категориями духовной свободы, полифонии и др. охватывается единство литературного процесса, публицистического пространства и критической рефлексии. Выявление тематических стержней соотнесено с развитием тем по восходящим векторам (образное пространство /не/свободы в «Записках из Мертвого дома» и др.).
На защиту вынесены шесть основных взаимосвязанных положений.
1. В образных системах Достоевского-прозаика и публициста, в его редакторской деятельности единой системой проявляется специфическая структура художественного мышления: история раскрывается в закономерной соотнесенности с мировой гармонией, каждая конкретно-историческая тема его выступлений одновременно оказывалась прологом, ведущим вглубь идеи о «беспредельном счастье». Историю Достоевский сопоставлял с «вечной истиной» сво-
его идеала. В этой специфике заключается одна из существенных причин неотделимости Достоевского-публициста и «хроникёра» эпохи от Достоевского-художника.
Тема русского суда с ее точными конкретно-историческими реалиями и феноменами неотъемлема от авторской индивидуальности Достоевского, сущ-ностно и феноменологично отличая его от ряда современников, предшественников, литературных «преемников» и последователей. Это принципиальное своеобразие показательно уже в период 1860-х годов и в дальнейшем, когда во всех его произведениях так или иначе звучит тема русского суда. Она связана со всем многообразием его писательской идеологии.
Для журналов Достоевских характерно системное внимание к мировой юридической мысли. Основные аспекты этого внимания также феноменоло-гичны и сущностны. Редакция откликается на все соответствующие книжные новинки и важнейшие философско-правовые споры. Критико-публицистические отклики служат феноменологическим импульсом и проявлением более обших закономерностей; в этом интегративном пространстве вырастали сюжеты и мизансцены будущих романов Ф. М. Достоевского.
Для наследия Достоевского принципиально многообразное единство в осмыслении темы суда, проявившееся в редакторской деятельности, в художественном и публицистическом творчестве. В объектах творчества, в литературных образах-персонажах значимо, что духовная свобода героев, особенно «любимых героев», писателя состоит в свободе от античеловеческих поступков, в приумножении нравственных по содержанию деяний. То же справедливо для образов иного характера — для образа-события, образа-правопорядка и т.д.*
В эпоху Достоевского социокультурно значимым становится требование защиты прав личностного начала. Оно (в единстве с другими условиями) определяет отношение Достоевского к русскому суду в контексте свободы личности и ее духовной ответственности, её права на счастливую жизнь, отношение к обязанностям человека— члена социального коллектива и к обязанностям перед Землей, перед «чудом» биологической жизни. С этой принципиальной осо-
бенностью соотносится направленность журнальных публикаций и реакция на них (установка«Времени», начиная с № 11 1862 г., предоставить печати больше прав при обсуждении судебной реформы, одобренная разными слоями читателей, и др.).
6. Для образных систем в творчестве Достоевского существенно, что современный ему человек мучился противоречием между естественной склонностью к созиданию, взаимопомощи и биосоциально привычной тенденцией к ущемлению ближних, к эгоистическому торжеству собственной силы.
В связи с этой принципиальной чертой объяснимо отношение к знаковым образам (пушкинскому Сильвио, лермонтовскому Печорину и др.). Как для художественных, так и для публицистических образов Достоевского феноменологически значимы резонансы, созвучия, полемика, контрапункты с образами в творчестве предшественников и современников; причем феноменологичность определяется в единстве с принципами, творчески близкими Достоевскому (гоголевский принцип концентрированного изображения зла во имя борьбы со злом).
На этой основе в произведениях писателя созданы такие образные системы, который раскрывают особый правопорядок, обеспечивающий победу добрых качеств человека.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии связей между элементами категориального аппарата: категориями «убежденность», «проблема», «образ», «сущность», «феномен». При этом теоретизация исходит из «особенного дара» Достоевского — пластически-проблемного умения видеть за фактом явление, в явлении— сущность, в «маленьких картинках» — целостную эпоху и сущность народного духа. Этот дар явлен в неповторимом единстве показателей душевного настроения и событий как фактов одной меры достоверности. На этой основе детерминированы литературные и публицистические связи (выбор названия «Бесы»; журнальная оценка «Моих записок» Л.Н. Андреева — «пахнет Достоевским», особенно о балансировании «на грани парадокса», и мн.др.). Теоретико-литературно и теоретико-журналистски мотиви-
11 рован закономерный характер сопиально-политических откликов на публикации (например, на статьи в «Эпохе»).
Практическая значимость исследования состоит в направленности на насущные акциональные задачи, в том числе познавательные, и на развитие духовности в пространстве литературного образования. Практическую значимость укрепляет востребованность результатов в процессе обучения студентов старших курсов, бакалавров, магистрантов специальностей «филология», «журналистика», «издательское дело» (дисциплины историко-литературного, историко-журналистского и теоретико-литературного циклов, особенно разделы, посвященные художественному и публшщстическому познанию; спецкурсы и спецсеминары, разрабатывающие творчество Ф.М. Достоевского, образные системы, журнальный процесс середины и второй половины XIX столетия).
Апробация результатов заключается в представлении докладов на конференции различного ранга в 2001-2005 годах, в т.ч. международной «Язык. Текст. Дискурс» (Ростовский госпедуниверситет, 2005), Всероссийской «Достоевский и современность» (Армавирский госпединститут, 2001), XXX научной конференции студентов и молодых ученых Юга России (Кубанский госуниверситет, 2004).
Структура работы включает Введение, три исследовательских главы, Заключение и Библиографический список.
Суд, личность, государство в журналах «Время» и «Эпоха»
Журналы «Время» и «Эпоха» до сих пор таят не раскрытые до конца своего смысла факты, поразительно близкие идеологическому миру произведений Ф. М. Достоевского. Это — драгоценные живые свидетельства связи писателя с эпохой. В то время, когда братья Достоевские выступили на журнальном поприще, она была ознаменована так называемыми «великими» реформами. В сознании русской общественности шаг, который логически нужно было сделать после отмены крепостного права, связывался с реформой суда. Отсутствие гласности, сословный принцип в определении наказаний, полицейский произвол, система формальных доказательств и обусловленная ею неразвитость следственной части— все эти, как и другие, принципы русского суда, крепостнического по своему характеру, нуждались в изменениях. Изменения должны были отразить новое правовое положение крестьянства.
Необходимость изменений была признана официально и пропагандировалась либеральной печатью. В эти годы появилась целая серия специализированных изданий: в 1859—1860 гг. начали выходить «Журнал Министерства юстиции», «Юридический журнал», «Юридический вестник»; возобновились «Юридические записки», издававшиеся профессором Московского университета П. Редкиным. Главной задачей этих изданий была пропаганда юридических знаний. Если в 40-е гг. цель пропаганды определялась как «укоренение сознательного чувства законности и долга»1 (первый выпуск «Юридических записок»), то теперь цели видоизменяются в сторону популяризации идеи права. В программном «Введении» «Юридический журнал» писал: «Изложение теории права, объяснение юридических начал и их практического приложения для всех классов общества, вот цель, к которой, по мере возможности, будет стремиться журнал».
Усвоение новых правовых норм дворянством носило болезненный характер. В умах так цепко держались старые, привычные представления, что даже преобразования, направленные на уничтожение сословности, мыслились не иначе, как в рамках сословных же решений. Те же, кто сознавал несправедливость разделения людей на сословия, в начатых государством преобразованиях видели путь, ведущий к созданию внесословного общества, и возможность осуществления утопических мечтаний о социальной гармонии.
Почвой иллюзий служило несовпадение субъективных представлений с объективно-историческим значением буржуазных реформ. Неудовлетворенность решением крестьянского вопроса породила мысль о благотворности судебных преобразований: «Недостаточно» написать в законе, что крепостное право уничтожено,—надо уничтожить его на практике, в жизни, в это-то и есть задача судебной реформы»
В отличие от административной власти, представляющей материальные силы государства, суд рисовался организацией, созданной на нравственных началах, своеобразным посредником между сословиями и государством, озабоченном благоденствием каждого своего гражданина. Наивное представление разделяло «нравственность» и «материальность», идеализировало самодержавие, не видело и не понимало реально совершавшихся исторических процессов, и это было причиной того, что в основание готовившихся судебных уставов легли принципы, "которые практически не могли быть осуществлены. Таким, например, являлся принцип независимости юстиции. Разъясняя его, П. Редкий писал, что под независимостью юстиции надо разуметь «независимость судей и адвокатов, независимость закона, или верховную власть его над всеми и каждым в государстве, и независимость права, т. е. свободное его развитие в самом народе»4. В качестве ориентира он выдвигал судебное устройство Англии и Се-веро-Американских штатов. Буржуазная идея «свободы» суда вызывала, таким образом, вполне серьезное доверие, ибо шла навстречу буржуазным преобразованиям в самой России. Русская юридическая мысль была поставлена перед задачей, с одной "стороны, довести русский суд до уровня суда западноевропейских стран, а с другой — выработать юридическое credo на основе собственного национального опыта.
Проблемы суда и его роли в жизни личности и государства составляли органическую часть журнальной программы Достоевских. Юридические публикации журналов «Время» и «Эпоха» одинаковы по характеру, хотя большая их часть приходится на долю «Времени». Постановка юридических вопросов во «Времени», связанная с подготовкой судебной реформы, отличалась смелостью и демократизмом. Реформа суда, уже самим фактом ее одобрения, на ту же самую проблематику накладывала печать благонамеренности. Отсвет 1864—1865 гг. делал «Эпоху» в изложении юридических проблем менее интересным журналом. Однако цельность впечатления этим не нарушается и можно говорить о едином юридическом контексте журналов.
Формула «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома»
Достоевский принимал деятельное участие в формировании юридического сознания своих современников. Судьба распорядилась таким образом, что писатель вышел на волю в канун больших преобразований, во взбудораженное этими преобразованиями общество. Мир русской каторги был увиден изнутри, -человеком, обладавшим даром художественного гения. Как писал в свое время П.Ф.Якубович: «Не слишком-то часто случается в истории, чтобы такие писатели, как Достоевский, шли на каторгу».
«Записки из Мертвого дома» были книгой о наболевшем, в которой автор оказывался лицом, переболевшим больше всех. Она брала не столько новизной темы (проблемы судоустройства обсуждались всей русской печатью), сколько неожиданной глубиной. Не имея за собой большой художественной традиции в изображении тюрьмы и каторги, за исключением разве что воспоминаний Жака Казановы и отмеченных Пушкиным «Моих темниц» Сильвио Пеллико, Досто евский создает образ «мертвого дома», вбирающий в себя все, что можно ска зать о каторжной жизни. У Достоевского каторга явилась не просто нуждав шимся в благоустройстве скопищем преступников, но страшным захоронением живых людей. Художественный эффект заключался в том, что этот особый мир жизни раскрывался в подчеркнуто строгой реалистической манере. Когда-то, в «Двойнике», писателю понадобился фантастический прием, чтобы показать обычный процесс раздвоения в сознании «маленького человека». В описании необычного «Мертвого дома» он до щепетильности реалистичен и в жанре (за писки, очерки «почти документальная проза), и в сюжетостроении (распорядок жизни заключенных, зафиксированный с точностью вахтенного журнала), и во всех других компонентах повествования. Увиденный художником каторжный мир не нуждался в преувеличении и заострении: здесь «ложь казалась истиною, а истина - ложью», и стилевую манеру книги образовали точность очевидца, документальный лиризм.
О каторжной тюрьме Достоевский писал как об особой физической данности со своими законами времени и пространства: «Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий; тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи...» Одной из примет странного «Мертвого дома» и его обитателей является социальное клеймо отверженных: выбритые наполовину головы, арестантская одежда, сшитая из сукна разного цвета, кандалы. Это - внешняя форма наказания, по которой каторжника можно отличить от остальных людей. Нелепая стрижка, нелепая одежда - «одно шельмование, стыд и тягость, нравственная и физическая».
Лишение свободы одновременно явилось вивисекцией человеческого достоинства. Оставляя заключенным жизнь физиологически, закон лишал их звания человека. Основой наказания становилось право глумления над человеческой личностью. Вследствие этого каторжники - живые и в то же время как бы неживые люди, «Мертвый дом» - это «заживо Мертвый дом». Всякое его соприкосновение с миром жизни до чрезвычайности обостряет черты неживого в живом. Достоевский так описывал встречу арестантов с обычными людьми: «Один раз, на работе, девчонка-калапшица», подошедшая к арестантам, долго всматривалась в меня и потом вдруг захохотала: «Фу, как не славно!» - закричала она, - и серого сукна недостало, и черного недостало!» В сцене представления в арестантском театре, очень сильно выявляющей «душу живу» в каторжных, Достоевский замечает: «Все были без шапок, и с правой стороны все головы представлялись мне бритыми». Страшная примета «Мертвого дома» назойливо лезет в глаза именно тогда, когда дом этот активно оживает.
Без свободы всякая жизнь мертва; вместилище людей, лишенных свободы, может быть только мертвым домом. Так сложился художественный образ существовавшей в то время системы наказания, основанной на устрашении, социальной изоляции и пренебрежении личностью заключенного. Художественная логика «Записок» не совпадала с логикой Уголовного кодекса. В изображении Достоевского устрашение калечит, а не вылечивает; к возрождению ведет не «усекновение» в элементарных правах, а живая жизнь души человеческой, если только она не погибает под тяжестью юридических установлений.
В метафоре «мертвый дом» главным является социально-политический подтекст: свобода - непременное условие жизни. Автор не довольствовался метафорическим изображением этой мысли и вынес подтекст в прямой текст книги, замечая, что выше всего для арестанта «свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе». Эта мысль бесконечно варьируется, потому что составляет идейно-художественное средоточие книги. Она проявляется в композиционной структуре, становится принципом в раскрытии характеров, выступает как стимул сюжетного движения; на ней держутся многие жанровые сцены.
В разных характерах Достоевский показывает разные проявления потребности в свободе. Сушилов, например, по своей свободной воле «наблюдает» Александра Петровича и не может простить ему попрека в том, будто бы служит за деньги, то есть подневольно. Контрабандная торговля вином в остроге имеет успех не потому, что каторжные - отчаянные пропойцы, а потому, что доставлять вино - «страшно запрещенное наслаждение» и, следовательно, проявление воли, «хоть отдаленный призрак свободы». Та же причина лежит в основе острожного ростовщичества и промысла: ведь «деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесятеро».
За парадоксами «Преступления и наказания», образ «подданного» судопроизводства
Достоевский любил разъяснять свое понимание действительности как предмета искусства. Главным здесь было указание па то, что действительность может быть дана лишь в авторском восприятии. Человек воспринимает «природу так,—писал Достоевский,—как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального... Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность» (XI, 78).
Действительность «текущая» и «законченная», т. е. идеальная, мастерски сочетаются в «Преступлении и наказании». В исторически достоверную фактографию этого произведения входят не только Петербург — «сценическая площадка»192 повествования, — но и вся атмосфера эпохи. Эта достоверность побудила Д. И. Писарева отнестись к роману как к документальному повествованию. «Я отношусь к роману так, — заявил критик, — как я отнесся бы к достоверному изложению действительно случившихся событий»193. А. Ф. Кони же нашел, что реализм «всех мельчайших подробностей» «Преступления» наказания» носит характер «жуткого предсказания».
В самом деле, датирование-современный факт легко вписывался в романное повествование Достоевского. Это могла быть бытовая деталь, как, например, «желтая» питьевая вода в Петербурге 1865 года; или точная деталь места действия — тринадцать ступенек последнего лестничного марша Расколышкова; или ставший частью характеристики героя газетный отклик: таков вопрос Порфирия о преступниках обыкновенных и необыкновенных— парафраза опубликованной в «Голосе» -статьи, из английской газеты о Наполеоне Ш и его книге «История Юлия Цезаря». А теория разумного эгоизма, модный тогда утилитаризм служат основой поведения некоторых из персонажей романа. Внимание к факту, его точное обозначение, строго обдуманная сфера жизни факта в структуре художественного повествования были своеобразным творческим откликом писателя на его «позитивное» время. Недаром исследователи отмечали «репортажный» характер реализма Достоевского195.
Но «топографическая точность была скорее методом его творчества, чем его художественной целью»196. Структура «Преступления и наказания» рождается из противодействия факту.
Несомненно, «фактическим» признаком времени Достоевского был черствый эгоистический расчет, возведенный в норму человеческого поведения. С социальным механизмом этого факта борется в романе живая натура Расколь-никова. Читатель застает героя в тот момент, когда он находится во власти идей своей эпохи: убийство кажется арифметически верным решением общественных проблем, силлогизм о совпадении нравственности с полезностью снимает с этой идеи этическую оценку и придает ей ореол героичности. Собираясь переступить через «обыкновенную» нравственность, Раскольников мнит себя героем необыкновенным: сверхчеловеком, «Наполеоном».
Таковы мотивы сюжетообразующего действия романа. Они реалистичны («фактичны»), потому что составляли воздух изображаемой писателем эпохи. Это было время пересмотра традиционных понятий о праве, и практику разнузданного буржуазного индивидуализма Раскольников пытается утвердить в правовом отношении. Своим экспериментом он хочет доказать «право» сильной личности на убийство. Достоевский, превыше всего ценивший свободу и жизнь, принимает вызов истории и создает героя, проверяющего идеологию буржуазной эпохи. Характеризующее её отсутствие нравственных преград обозначено в романе понятием наполеонизма.
«Ну, полноте,— говорит Раскольнлкову Порфирий,— кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» (6, 204). В год создания романа на русский язык была переведена книга Наполеона Ш «История Юлия Цезаря», которую многие исследователи включают в фактическую основу темы Наполеона в «Преступлении и наказании». Самым поражающим в этой книге является полное отсутствие этических размышлений. Её писал не человек, а лихой рубака, примитивными, как взмах сабли, предложениями. Вопрос о том, что нужно сделать, чтобы как можно больше убить, составляет единственную его заботу. Автор не испытывал никаких сомнении в праве на убийство. Со спокойным удовольствием сравнивал он возможности римской армии и современной, на место Цезарева войска ставил технически вооруженную армию своего века и с профессиональным знанием дела выяснял количественный эффект в убийстве. «С этим смертоносным оружием в руках,-— писал Наполеон Ш,— солдат может в 1/4 часа убить или ранить 60 человек: у него не может быть недостатка в снарядах: патрон весит только 3 лота; пуля достает на 500 сажен, она опасна на 120, убийственна на 90»198. Дух холодного расчета в «Преступлении и наказании» стал романным, художественно разработанным фактом.
Долг чести и право на бесчестие в ранних произведениях Достоевского
Важнейшая особенность дел чести в произведениях Достоевского — это то, что они, в сущности, никогда не завершаются. Даже уже дошедшие до дуэли конфликты Ставрогина с Гагановым и Зосимы с его безымянным противником все-таки не завершены, поскольку и Ставрогин, и Зосима решают — по разным причинам и с разными последствиями — не стрелять в своих противников. Причины незавершенности дел чести меняются на протяжении творчества Достоевского. В его ранних произведениях дуэли не происходят из-за сословных различий: вызывающий безуспешно борется за право на поединок с высшим по рангу обидчиком. В поздних произведениях Достоевского герои воздерживаются от дуэлей по принципиальным соображениям. При этом они либо позорят себя (как протагонист «Кроткой»), либо оскорбляют противника (как Ставрогин). Только князь Мышкин и Зосима умеют найти правильный способ воздержания от дуэли в обход тирании point oVhonneur. «Записки из подполья» — произведение, которое традиционно считают переходным между двумя периодами творчества Достоевского, — занимают промежуточное положение и в плане развития темы дуэли. Подпольный человек борется и за право на поединок, и за право воздержаться от него. Ему не удается ни то ни другое.
Достоевский не имел личного опыта в делах чести. Внук священника и купца, сын врача в больнице для бедных, получившего дворянство для себя и своих потомков, Достоевский был не менее чужд аристократического идеала кодекса чести, чем радикалы-разночинцы его поколения. Как и они, он неловко держался в обществе. Это замечали его современники, и он сам нередко болезненно осознавал культурные различия между ним и писателями-дворянами. Почему же Достоевский уделял столько внимания дуэли — институту, не входившему в его личный опыт и имевшему для него, как мы увидим в дальнейшем, сомнительную нравственную ценность? Почему его герои, большинство которых, как и он сам, очень мало подходили на роли дуэлянтов, все же так или иначе сталкиваются с проблемой дуэли?
Частичный ответ на этот вопрос дает литературная традиция: русская литература — до Достоевского, при его жизни и после его смерти — постоянно изображала поединки. Вступая в диалог с этой традицией, Достоевский никак не мог избежать дуэльной темы. Но дуэль не была для Достоевского просто литературным топосом или удобным сюжетообразующим приемом. Он видел в ней социальный институт, необходимый для защиты личного пространства и релевантный не только для дворян. Именно поэтому он включал конфликты чести в биографии совсем пс подходящих на роль дуэлянтов персонажей — таких, как Макар Девушкин и Голядкин, которые в реальной жизни не могли бы даже помышлять об участии в поединке. Несмотря на очевидную несовместимость этих персонажей с идеей дуэли, Достоевский все-таки ждет от них адекватной зашиты своего личного пространства и телесной неприкосновенности.
Дуэльные нарративы также дали Достоевскому возможность исследовать проблему идентичности и целостности индивидуума. Дуэль— всегда столкновение мнений об идентичности: каждый участник требует, чтобы противник видел его определенным образом. Чтобы добиться этого, человек должен прежде всего иметь четкий и твердый взгляд на себя самого и не позволять чужому мнению влиять на его самовосприятие. Вопросы, задаваемые Достоевским в его ранних произведениях, во многом связаны с проблемой идентичности. Что происходит, когда человек не уверен в себе? Если он не знает точно, кто он? Как влияет рефлексия на способность человека участвовать в поединке? В поздних произведениях писателя больше беспокоит проблема противника. Дуэль требует видеть противника в качестве «другого». Но является ли этот другой таким уж отличным от «меня»? Что происходит, когда человек позволяет себе увидеть в другом человеке сходство с собой? Как влияет сочувствие на способность к поединку? Достоевский, однако, настаивает, что ни социальная неприспособленность, ни способность видеть себя в другом и сострадать ему не освобождают человека от обязанности защищать целостность и неприкосновенность своей личности. В русском контексте дуэль — его главное оружие.
При всей вере Достоевского в способность дуэли защитить личное пространство и достоинство человека его отношение к дуэли всегда было двойственным. Он никогда не хвалил безоговорочно кодекс чести, как никогда и не отрицал его полностью. Его отрицательное отношение к дуэли особенно очевидно в публицистике. В своих статьях он не скрывает обеспокоенности нравственными проблемами, порождаемыми дуэлью: ее жестокостью, неизбежно сопутствующим ей эгоизмом и ее несовместимостью с христианскими ценностями. При всей трагичности гибели Лермонтова на дуэли, он считал, что поэт погиб «бесцельно, капризно и даже смешно»278. На протяжении всего своего творческого пути Достоевский неизменно осуждал Онегина и Печорина за убийство противников на дуэли и очень не любил Сильвио . Он подчеркивал дурное влияние Печорина и Сильвио на русское общество: «Вспомните: мало ли у нас было Печориных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении Тероя нашего времени". Родоначальником этих дурных человечков был у нас в литературе Сильвио, в повести "Выстрел", взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона.