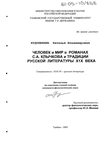Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Многоаспектность воплощения личностного бытия в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина
1.1. Биографические параллели дневников сквозь призму ценностных основ духовного мира И. А. Бушша и ММ. Пришвина 19
1.2. Любовная линия дневника как исповедь души автора 42
1.3. Истоки и основы художнического видения мира в дневниках писателей 65
Глава 2. Чувство мира в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина
2.1. Чувственное восприятие мира и специфика его изображения в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина 81
2.2. Особенности определения авторами дневников мировых констант и их освоения в «восточных» записях 104
2.3. Мотивы «вечного» и «временного» в дневниках Ив. Бунина и М. Пришвина. 125
Глава 3. Своеобразие постижения человеческого существования в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина
3.1. Осмысление человеческого естества через отношение к смерти 141
3.2. Чувство жизни и бытие русского человека в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина 164
3.3. Стихия русской души в свете нравственной оценки революции 186
Заключение 210
Библиографический список литературы 218
- Биографические параллели дневников сквозь призму ценностных основ духовного мира И. А. Бушша и ММ. Пришвина
- Любовная линия дневника как исповедь души автора
- Чувственное восприятие мира и специфика его изображения в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина
- Осмысление человеческого естества через отношение к смерти
Введение к работе
В современном литературоведении уже давно и прочно закрепилось одно из мощных направлений изучения литературного процесса первой половины XX века - бушшоведение. Достаточно вспомнить имена таких иссле-дователей художественного наследия И.А. Бунина, как И.С. Альберт (6), В.Н.Афанасьев (13), А.К.Бабореко (16), Г.М.Благасова (33), Т.М.Бонамн (35), А.А. Волков (48), И.П. Карпов (97), Г.П. Климова (102), Л.В. Крутикова (ПО), Н.М. Кучеровскнй (118), Ю.В. Мальцев (137), О.Н. Михайлов (148), Л.А.Смирнова (203), посвятивших свои монографии жизни и творчеству Нобелевского лауреата.
** В круг актуальных проблем попадали вопросы, связашше с традиция-
ми и новаторством, методом писателя и поэтикой его произведений. В работах ученых проводились параллели с наследием А.С. Пушкина (А.Ф. Барков-ская (19), Л.А. Смирнова (204); М.Ю. Лермонтова (А.А. Дякнна (77)); И.С.Тургенева (Г.Б. Курляндская (117), О.В. Сливицкая (197)); Л.Н. Толстого
(В.Я. Лннков (124), Р.ССпивак (210); Ф.М. Достоевского (Н.Н.Кознова (105),
В.А. Туниманов (228); А.П.Чехова (И.В. Алехина (5), В.А. Гейдеко (57)).
Особый научный интерес вызывало определение основополагающих культурных влияний на мировоззрение И.А. Бунина. В свете последнего не вызывают сомнений выводы Г.П. Климовой (101) о христианских основах
творчества художника; М.М. Дунаева (76) - о более чувственно-страстных,
языческих тенденциях; Е.Б. Смольянннова (205) - о тяготении к буддизму;
И.П. Карпова (97), О.В. Солоухиной (207) - об эклектизме в сплетении христианства, буддизма, фольклорных (языческих) основ и наследия классической литературы.
Постепенно дополнялось и сложившееся в науке о литературе представление о М.М. Пришвине - натуралисте и этнографе: с особой акцентной
" Здесь и далее указывается порядковый номер работы в библиографическом списке литературы. При наличии в скобках двух цифр 1-ая обозначает порядковый номер в библиографии, 2-ая - страницу. В ссылках на отдельные тома многотомных изданий цифры в скобках указывают на номер источника в списке использованной литературы, том (римская цифра) и страницу соответственно.
4 силой звучал вопрос о соотношении природного и человеческого в его произведениях. Интересны в этой области труды Т.Я. Гринфельд-Зннгурс (67), Г.А.Ершова (80), Н.И. Замошкина (84), СБ. Зархин (85), И.А.Зотова (87), В.Я. Курбатова (115), И.П. Мотяшова (150), М.Ф. Пахомовой (166), Ю. Са-ушкина (194), В.А. Сурганова (214), А.И. Хайлова (238), ТЛО. Хмельницкой (240), Л.М. Шаталовой (249), Е.А. Яблокова (258).
Обращала на себя внимание и другая сфера - рассмотрение литературных связей писателя. Этому вопросу посвящены авторитетные работы П.С.Выходцева (52), А.Н. Давшана (70), Н.П. Дворцовой (72), Н.Н. Иванова (88), А.Л. Киселева (99), Н.В. Реформатской (185), Т.М. Рудашевской (192). Так же активно, как и в буншюведении, изучался стиль писателя, особенности функционирования символа в художественном тексте (Л.Е. Тагильцева (216), поэтика его литературных произведений (В.В. Агеносов (1), З.Я. Холодова (242). Широкий общественный и литературный резонанс вызывало обращение ученых к пришвинскому творчеству в экологическом аспекте.
Заслуженно утверждалось в последние годы в науке о литературе внимание к личности М.М. Пришвина-философа, наблюдаемое в исследованиях Н.КИванова (89), С.Г. Семеновой (195), Ю. Линийка (125), И.К. Кучмаевой (119). Философское зерно пришвинского творчества сразу увидел и Г.Д. Га-чев и поставил М.М. Пришвина, подобно А.С. Пушкину, «первым в своем веке» (56,104). Такое обращение к наследию мыслителя зачастую непосредственно связано с открывшимися читательской аудитории его дневниками.
Однако разноплановый и детальный анализ художественных произведений И.А. Бунина и М.М. Пришвина до настоящего времеїш не дополнен основательным освоением их дневникового наследия: оно изучено фрагментарно и односторонне.
Последнее тем более закономерно, что на современном этапе развития науки не получили должного исследовательского внимания проблемы, связанные с дневниковым жанром в целом. Частные аспекты, выявляющие своеобразие этой разновидности мемуарной литературы, появлялись в работах
5 А.Афиногенова (14), H. Банк (18), А. Бека (24), А. Бочарова (36), B.C. Голуб-цова (60), О.Г.Егорова (79), Д.Кипа (98), Н.Л. Лейдермана (123), Т.А. Мара-ховой (139), Л.Я. Явчуновского (259). Затрагивались отдельные вопросы жанра и в периодически возникавших дискуссиях. Например, «Круглый стол» журнала «Вопросы литературы» (№ 4, 1974) с участием А. Гладкова, Н. Голубенцева, В. Каверина, В. Карднна, М. Кораллова, Л. Лазарева, А.Ланщикова, С. Макашина обсуждал локальные проблемы мемуарной литературы: пределы субъективности жанров; фактографичность дневников, мемуаров, автобиографий; проблемы авторского «проявлення» в тексте. Такая избирательность в исследовании законов дневникового жанра объясняется, на наш взгляд, как причинами объективного, так и субъективного планов.
Так, в изучении дневников к наиболее существенным и значимым причинам последнего порядка можно отнести не только неразработанность самой теории дневника, обилие и несистемность выделяемых признаков, отсутствие единой классификации, но и недооценку самих его литературных возможностей. В то время как еще В.Г. Белинский рассматривал жанровые разновидности мемуарной литературы в качестве особого вида искусства слова с главенствующей авторской установкой на образное воспроизведение жизни и причислял их к разряду документально-художественных произведений, «стоящих на грани романа» (25,372). В свете подобного утверждения важно, что самостоятельным и «особым видом литературы» называет писательские дневники О.Г. Егоров (78), И. Янская (261). Их родство с автодокументальной прозой очевидно для Л. Гаранина (55). Как явление, близкое художественной прозе и публицистике, анализируется жанр в работах Г. Газданова (54), Л. Гинзбург (58), Л. Левицкого (121). Интересно утверждение и А.Гладкова, хотя и признающего свою точку зрения «самой крайней», но убежденного, что мемуарные жанры (в том числе и дневник) - «самый необходимый род литературы», не жанр, а род именно потому, что «знает много жанров» (59, 122). А В. Кардин принципиально подчеркивает, что к мемуар-
6 ным жанрам «прнчастны и проза, и драма, и поэзия, и сценарий. Они стоят на стыке литературы и истории, поставляя материал и той и другой» (93,78).
В таком понимании дневника исследователи во многом совпадают со справедливым утверждением Ю. Лотмана о «полнфункцнональной» жизни текста «в реальной жизни культуры» (134,7). Именно этот факт позволяет сегодня многим ученым говорить о внеродовых формах художествешюй литературы (В.Е. Хализев, 239,317), промежуточных жанрах (Л.Я. Гинзбург, 58,137), нечеткости идентификации структур, не имеющих «твердых границ и правил» (И. Шайтанов, 247,50).
Малонзученность дневников И.А. Бунина и М.М. Пришвина во многом объясняется и еще одной немаловажной причиной - долгой изолированностью от читателя и купюрностыо изданий. Следует отметить, что н на настоящий момент исследователи не имеют доступа ко всему дневниковому наследию мастеров слова, так как значительная часть архива Ив. Бунина находится за пределами страны, а наследие М. Пришвина опубликовано разрозненно и частично.
Существующие же традиции рассмотрения дневников писателей, по нашему мнению, вполне вписываются в разработки биографического плана, поскольку дают возможность углубить и значительно расширить фактографические сведения о писателях, взглядах на явления общественного, литературного, нравственного, бытового характера. В таком ракурсе отдельные дневники художников предстают во внесших неоценимый вклад в бунннове-дение трудах А.К. Бабореко (15), Л. Долгополова (75), В.Н. Муромцевой-Буїпшой (153), О.Н. Михайлова (146). Ранний дневник И.А. Бунина в аспекте установления типологических связей между жизненными реалиями и художественными произведениями анализировался Н.Г. Крюковой (111). Особый интерес вызывал у ученых «дневник» революции - «Окаянные дни». Ему были посвящены статьи, направленные на выявление поэтики записей, их включения в контекст творчества И.А. Бунина, специфики авторского выражения в тексте (С.В.Грншнна (68), О.Н.Михайлов (147), Н.В.Мочалова (151),
7 К. Ошар (162), Р. Риникер (187), К. Эберт (252), Л.Н. Юрченко (257)). Были выделены н отдельные аспекты «дневника революции»: публицистичность (И.В. Новикова (159)), интертекстуальность (С.Л. Андреева (8)) и др.
Дневники М.М. Пришвина со времени их публикации были удостоены ббльшего внимания. Анализ документов с точки зрения обнаружения особенностей их структурно-стилевой организации представлен в научном труде Е.И. Днбровой, НЛО. Донченко (74) и в целом ряде отечественных исследований (Т.Т. Давыдова (71), А.И. Павловский (163), Н.В. Реформатская (186). Неоценимый вклад в изучение дневников М.М. Пришвина внесли Я.З.Гришина, В.Ю. Гришин, Л.А. Рязанова, что обнаруживается в обстоятельных комментариях к дневникам в собраниях сочинений М.М. Пришвина, к публикациям документов в журналах «Октябрь» (1989 - № 7; 1990 — № 1; 1993 - № 10; 1999 - № 8), «Литературная учеба» (1991 - № 3,4), «Человек» (1995-№5).
Однако и в этой области зачастую под исследованием дневников многими учеными понималось изучение (в широком смысле) непосредственно «выраставших» из записей художественных произведений писателя, которое обозначалось в их работах как «исследование дневниковых книг». В таком освещении творчества М.М. Пришвина дневники представали в качестве материала для определения художнической системы мастера слова, выражешш его творческого метода и черт индивидуальности (И.В. Анненкова (9), Р.А.Соколова (206), Л.Е. Тагнльцева (216), Л.В. Юлдашева (254)).
В связи с последним фактом весьма примечательно высказывание самого М.М. Пришвина о своеобразии своего таланта: «Это вышло из литературной наивности (я не литератор), что я главные силы свои писателя тратил на писание дневников» (172,VIII,549). Так «выделывает» он из записей «капель» («Лесная капель»), чтобы «из этих штучек составить «Дневник писателя» (172,VIII,535). Из дневников в художественные произведения просачиваются и многочисленные образы-символы писателя.
Актуальность данного исследования обусловлена прежде всего мало-изученностыо дневникового наследия И.А. Бунина и М.М. Пришвина, отсутствием научных работ, содержащих целостный сопоставительный литературоведческий анализ документов с точки зрения их социокультурного и философского содержания, соотнесения личностного бытия их авторов в аспекте преломления темы «Человек и мир».
Обращение к такой фундаментальной проблеме отнюдь не случайно, поскольку соотношение человека и мира, по сути, - генеральная линия всей русской литературы, понимание «человека» и «мира» - основа русской философской мысли.
Слову «мир» в жизни человека принадлежит огромная роль. Примечательно, что «мир» в широте употребления носителей языка вмещает в себя мировое пространство и мирскую жизнь, и категории нищенства («пойти по миру»), н понимание общности, отказ от одиночества («всем миром»), сущность созерцания («не от мира сего») и власти («сильные мира»), представление о смерти («в мир иной») и т.д. Такая семантическая ёмкость слова, на наш взгляд, напрямую соединяется с сущностной идеей дневников писателей в ее авторском понимании.
Так, отдавая предпочтение дневнику («одна из самых прекрасных литературных форм» (42, VI, 359)), Ив. Бунин замечал, что в нем «надо кроме наблюдений о жизни записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихн», то есть проявления мира (113,115). М. Принципі, называя дневник «величайшим из документов», рассматривал его форму как «журнал жизни». Тем самым и Бунин, и Пришвин не просто сопоставляли, но и отождествляли дневник и содержание человеческой жизни в мире в самом правдивом ее изображении.
«Мир» в дневниках художников не только слово, но и образ, богатый многими смыслами, которые, не совпадая друг с другом, сходятся вместе как родственные один другому под общей идеей. На пути соотношения общего и частного в сторону конкретизации «мир» существует в них во всей спек-
тральной широте своего языкового значения: как совокупность всех форм материн в земном и космическом пространстве (Вселенная) и отдельная область Вселенной - «земная плоть мира»; «мир» в сожитии людей (культурный мир среды, міф семьи) и «мир» жизни существующих явлений и пред-метов (мир детства, внутренний мир человека, мир художника, мир слова и т.д.). К тому же, как и художественное произведение, дневник открывает и самые «общие социальные, религиозные, политические, нравственные модели мира, при помощи которых человек на разных этапах своей духовной истории осмысливает окружающую его жизнь» (Ю.М. Лотман, 136,262).
Вместе с тем на основе семантической антонимии появляется в диев-
пиках и образ мира как противопоставление войне (соглашение и согласие), расширяющееся до стилистически высоких и вселенских «спокойствия» и «тишины». Не случайно, именно это разграничение понятий закреплялось исторически и в графическом облике слова, свойственном орфографии XIX века (разному написанию соответствовала вариация значений: «мірь» - «весь
свет», «все люди»; и «мнръ» - «отсутствие войн, согласие, тишина, покой») (С. Бочаров, 37,7). В таком широком едином понимании определения «мира» обращаемся мы к исследованию дневников И.А. Бунина и ММ. Пришвина.
«Мир» рассматривается нами и в литературоведческом своем значении как «міф дневника» и «мир писателя». Первое закономерно включает в себя не только «материальные данности», но и психику, сознание автора, его «душевно-телесное единство», составляя реальность как «вещную» (пассивную и безгласную), так и «личностную» (активное и говорящее бытие) (В.Е.Халнзев, 239,157).
В отличие от художественного произведения «мир» дневника во многом формируется самим временем, точнее ходом человеческой жизни. Как часть в целое, с преобладанием центростремительных сил, в него входят
* подневные записи, часто представляющие собой законченные в формально-
содержательном аспекте тексты, включаются вставные новеллы, сюжеты от
дельных произведений, пейзажные и портретные зарисовки, письма, «чужое
10 слово» (М. Бахтин), полноценные художественные образы. Автор дневника всегда художник в восприятии мира - отсюда непредумышленная художественность, образность его восприятия и образность в видении других. Как писала о дневниках М. Пришвина В.Д. Пришвина, «они были кладовой <...> тут собиралось все: темы, философские записи-обобщения, записи художественных детален, подслушанного народного слова», - и всё это отражалось «на фоне личных переживаний и общественных событий <...> с точностью летописца н неутомимостью непосредственного участника - творца и художника собственной жизни» (175,205).
Но, вместе с тем, «мир» дневника писателя хранит следы творческой личности, скомпоновавшей и организовавшей его поэтическую структуру с ее особым фоно-графическим осуществлением - стилем. Дневник воспроизводит не только реальный мир - материальный (природу, вещи, события, людей в их внешнем и внутреннем бытии и т.п.), но н мировоззренческий. Естественными формами существования этого мира являются время и пространство. Наша задача заключается как раз в том, чтобы передать своеобразие «преобразования внешнего факта» в документе (Д.С. Лихачев, 126,75), а также увидеть н обозначить его влияние на творческую личность автора.
«Мир дневника», таким образом, понимается как личностное бытие («внутренний мир») его автора и одновременно как форма отражения реального мира (исторического, отдельного человека и его окружения и т.д.). Не случайно, благодаря способности заключать жизнь в свойственную его дарованию форму - форму дневника - М.М. Пришвин создает «вечную форму своего личного бытия» (Выделено мною. - М.Ш.) как необходимое звено той цепи, которая соединяет «всякое настоящее прошлого со всяким настоящим будущего и называется культурой» (172,VIII,185). В том же ключе рассуждает и И.А. Бунин, отмечая, что «во все времена и века <...> томит каждого из нас желание говорить о себе - вот бы в слове и хоть бы в малой доле запечатлеть свою жизнь» (41,382). Дневник же как никакая другая литературная форма способствует воссозданию мира своего автора в наиболее полном
И масштабе, поскольку он есть способ обретения единства со всем миром, соединения человека (автора) с ним сквозь призму собственного «я». Известно, что И.А. Бунин вёл дневники в течение всей жизни, ММ. Пришвин - непрерывно с 1905 года (наследие составляет более 30 томов).
Научная новизна диссертационного сочинения в избранном аспекте анализа заключается в том, что, согласуясь с задачами, стоящими перед современной наукой, осуществляется исследование дневников И.А. Бунина и ММ. Пришвина как самостоятельного литературного явления. Впервые в рамках работы дневники рассматриваются как способ самопознания и средство познания мира, что позволяет осмыслить бытие человека и мира в контексте творческих и духовных искании художников.
Проводимое нами изучение дневникового наследия писателен тем более значимо, что до настоящего времени практически не предпринималось попыток (за исключением двух статен А.Н. Варламова (44), (45) и главы диссертационного сочинения Г.П. Климовой (100)), сопоставления дневников И.А.Бунина и М.М.Прншвнна в поисках сходных констант «внутренних» миров их авторов. Не находил отклика в опровержении и утвердившийся «миф» об исконной чуждости мастеров слова, во многом закрепившийся благодаря высказыванию «тематически близкого» М.М. Пришвину писателя И.С. Соколова-Мнкнтова. Как отмечал в свое время последний, «Пришвин был не похож ни на какого другого писателя <...> И в человеческой, и в писательской жизни шел Пришвин извилистым сложным путем, враждебно несхожим с писательским путем Ивана Бунина - ближайшего земляка (быть может, в различиях родового и прасольского мещанского сословий скрывались корни этой враждебной непохожести)» (50,63).
Интересно, что обоюдное негативное отношение к такого рода «критикам» испытывали оба художника. Как подчеркивал Ив. Бунин, «критики говорят о поэте только то, что он сам им надолбит» (42,VI,393). М. Пришвин же констатировал, что «огромное большинство ошибочных суждений о писателях <...> зависит оттого, что о поэзии судят с точки зрения
12 потребителя, а не созидателя» (172,VIII,352).
Выскажем предположение, что повод в оценке самих себя как писателей «враждебных» часто давали общественности и сами мастера слова.
В своих дневниках И.А. Бунин не посвятил ни одного слова М. Пришвину ни как земляку, ни как художнику, хотя известно, что Иван Алексеевич вообще был необыкновенно скуп на похвалы современникам (либо не писал ничего, либо очень часто категорично и резко их оценивал). Эту его черту комментировала в воспоминаниях и В.Н. Муромцева-Бунина. Говоря о независимом характере мужа, обязательном делении всех знакомых на «друзей» и «врагов», она замечала, что все могло начинаться и с «физического, неприятия человека, а затем почти всегда это неприятие переходило и на его душевные качества» (153,96).
М.М. Пришвин, напротив, отвел Ив. Бунину значительное (в содержательном аспекте) пространство записей. Однако непостоянство его суждении в отношении «земляка» приводит и в его дневниках к образованию широкого спектра смыслов, что так же, как и бунинское молчание, способствует возникновению неясности позиции пишущего.. Обращаясь к эволюции при-швннского взгляда, выделим в текстовом массиве дневников наиболее важные моменты для осмысления взаимоотношеїшй современников.
Так, впервые имя Бунина появляется в дневнике Михаила Михайловича в 1915 году. Оно фигурирует в описании присутствующих в салоне Ф. Сологуба: «Бунин - вид, манеры провинциального чиновника, подражающего петербуржцу-чиновнику (какой-то пошиб)» (169,1,121). Вместе с тем, при внешнем (почти бунинском, «физическом») неприятии обнаруживается и глубинное тождество Пришвина с Буниным в оценке увиденного, очевидное при сопоставлении их дневников. В прншвннском участники салона воспринимаются как «величайшая пошлость, самоговорящая, резонирующая, всегда логичная мертвая маска <...> пользование <...> поиски популярности...(Горький, Разумник и неубранная голая баба)» (169,1,121). В бунинском
13 аналоге посещение порождает близкие ассоциации, где за безвкусием одежды автор видит бездумность слов: «Заседание у Сологуба. Он в смятых штанах и лакированных сбитых туфлях, в смокинге, в зеленоватых шерстяных чулках. Как беспорядочно несли вздор!..» (42,VI,355). Примечательно, что о М.М. Пришвине, хотя бы в качестве публики, И.А. Бунин не упоминает.
Еще острее неприязнь и плохо скрываемое чувство соперничества возникает в более поздней н чуть ли не самой знаменитой записи М. Пришвина от 20 апреля 1919 года: «Второй день Пасхи. Читаю Буїпіна - малокровный дворянский сын, а про себя думаю: я потомок радостного лавочігака (испорченный пан). Два плана: сцепиться с жизнью местной делом или удрать» (169,11,277). В ней особенно отчетливо фиксируется словесно овеществленное самим автором и подслушанное другими то самое различие «родового и прасольского мещанского сословий. Однако, остается практически незамеченным главный вопрос, поднимаемый автором дневника в этот период жизни, даже в звучании совпадающий с бунинским (остаться в России или эмигрировать). Правда, для М.М. Пришвина, как справедливо отмечают исследователи его наследия Л.А. Рязанова, Я.З Гришина, В.Ю. Гришин, «удрать» никогда не соотносилось с эмиграцией, а скорее было формой выражения невозможности продления «нечеловеческого» существования» в революционной действительности» (169,11,353).
«Враждебность» или полное равнодушие могут быть усмотрены и в дневниковой записи от 1 февраля 1921 года. В ней, несомненно, для себя, а не просто из честолюбия, Пришвин перечислит писателей, с которыми виделся лично (более 50 имен), но Бунина среди них не окажется. Вместе с тем бунинская оценка собственного творчества для М. Пришвина ценна необык-новешю. Примером тому служит бережно сохраненное высказывание И.А.Бунина-художника о пришвинскнх книгах. В изданных после смерти М.М. Пришвина «Глазах земли», построенных на материалах дневников последних лет, находим запись: «Как Бунин любил крик перепела! Он восхи-
14 щался всегда моим рассказом о перепелах» (173,VI,344). К творчеству же старшего современника ММ. Пришвин обращается в течение всей жизни.
М.М. Пришвин отмечает в дневнике 1920 года изучение с учениками дорогобужской школы рассказа И.А. Бунина «Илья-пророк» (172,VHI,125). В 1926 году он записывает о «Митиной любви», сравнивает произведение с приторным ликером («До неприятности всё близкое (елецкое) и так хорошо написано, будто не читаешь, а ликер пьешь» (172,VIH,176). Но подобная категоричность скорее подчеркивает не «малокровность» художника, а прнво-ДІГГ к признанию величины его таланта в мастерстве воссоздания атмосферы прошлого, колорита времени. Еще противоречивее выглядит пришвннское дневниковое признание 2 сеіггября 1943 года, если не кардинально противоположное в отношении к И.А. Бунину, то существенно для нас бесценное: «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его как самого близкого мне из русских писателей. Для сравнения меня с Буниным надо взять его «Сон Обломова-внука» и мое «Гусек». «Сон» тоньше, нежнее, но «Гусек» звучнее и сильнее. Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельней н сильнее. Оба они русские, но Бунин из дворян, а Пришвин из купцов» (50,64).
Пришвин вновь повторяется, утверждая различия, но они уже не носят антагонистического характера как ранее, тем более «враждебного» в интерпретации И.С. Соколова-Микнтова. Скорее наоборот. Относя к И.А. Бушшу культуру, традицию, чувственность и дворянское происхождение, а к себе -жизнеспособность («звучнее и сильнее»), жизнерадостность и самостоятельность, М.М. Пришвин не противопоставляет себя, человека и писателя, современнику, а сопоставляет себя с ним, заявляя художнической общностью понятия действительно для обоих родовые (что намного цеішее, чем различия сословные) - творчество и «духовное» едшіство (русскость).
Совсем другой Бунин возникает в поздних дневниках Пришвина. Окончательно видоизменяется и само отношение к нему, точнее обнажается, освобождаясь от запретов, истинное его восприятие. И если в 1920-х годах И.А. Бунин не упоминался вовсе, а в 1943-м - М. Пришвин определял его ме-
15 сто как писателя «самого блігзкого <...> из русских писателей», то в конце жизни (1952 г.) М.М. Пришвин признает И.А. Бунина одним из немногих писателей живущих: «...От всех писателей эпохи символизма остались только Блок и Бунин <...> какие-то раздетые мудрецы - голые люди, как и все люди в бане, а одежд их больше никто не носит. Задала же баню мудрецам революция, <...> но с нами остались живущие: Есенин, Клюев <...> п Горький, и Бунин, и я сам, и друг мой Ремизов? Кажется, нет: он тоже в мудрецах остается» (172,VIII,591). Оценка тем более высокая, что М. Пришвин записывает свое имя следом за именем современника, признавая тем самым торжество родственной сопричастности. Так постепенно Иван Бунин становится «простым» писателем, что в авторском понимании является высшим проявлением таланта, поскольку только простота создает «жизнь, пробивающую себе дорогу в вечность», и дарует творцу бессмертие и друга-читателя.
Более того, «живущим Бунин», обретает в дневниках М.М. Пришвина не просто статус современника, предопределенного пространством и временем (страной, эпохой, жизнью), но воспринимается и величиной вневременной и внепространственной. Потому искренне записывает художник слова в том же дневнике 1952 года, что «есть люди, такие как Ремизов или Бунин, о них не знаешь, живы ли, но их самих так знаешь, как они установились в себе, что не особенно важно узнать, живут они здесь с нами или там, за пределами нашей жизни, за границей ее» (173,VI,645). А ведь после революции И.А.Буннн действительно оказался, как интуитивно точно отметил М.М.Пришвин, за пределами «общей жизни» для всей России, но не круга жизни самого писателя и многих его читателей.
Таким образом, в подробном рассмотрении дневникового наследия М.М. Пришвина очевидным представляется нам его внимание к И.А. Бунину-человеку и признание его как писателя. Именно этот факт, по нашему мнению, является главным, скрепляющим столь разные творческие личности началом, в котором находят точки соприкосновения общности биографические, бытийные, мировоззренческие, писательские. Поэтому нет ничего уди-
16 внтслыюго в реакции уже тяжело больного Пришвина на смерть Бунина, так описанной Ф.Е. Каманиным в своих воспоминаниях: «Я - не знаю уж, как это вышло, - спросил у Валерии Дмитриевны, читала ли она сообщение, что в Париже умер Иван Бунин. Спросил очень тихо, и так же тихо она ответила, что нет, не читала, ей не до газет теперь. И тут Михаил Михайлович, хоть и не смотрел на нас и слух у него давно уже сдал, сделал шаг ко мне:
- Что, что ты сказал?
Я молчал, потерявшись, но он запрокинул голову и с невыразимой тоской несколько раз повторил:
- Бунин умер... Бунин умер!.. А-а!... В Париже, в чужой земле. Бунин
умер, а-а!» (50, 121). Причем, как видим, Ф. Каманина поразила не столько
сама реакция, сколько тот факт, что, не слыша и не видя собеседников,
М.М.Пришвнн интуитивно почувствовал свершившееся и уже непоправимое
несчастье и принял его как потерю родного и близкого человека, просто, без
сетований и соболезнований. Подобное предположение подтверждается и
средствами языка: не случайно при воссоздании эмоциональной речи Ми
хаила Пришвина очевидец синтаксически передает и его растерянность (в
многоточии), и неверие (в повторении), и понимание масштабности случив
шегося (в восклицаниях), и трагедии для русских и самого Бунина («в чужой
земле»), и, наконец, смирение (в бессильном «а-а»).
М.М. Пришвин пережил И.А. Бунина лишь на два месяца и умер в земле родной.
Обозначая объектом изучения дневники мастеров слова, мы не ограничиваемся, несмотря на их полифункциональность, тематическую обширность, философскую и художественную насыщенность, временными рамками. В попытках комплексного освоения материала предметом исследования избирается рассмотрение обобщенной картины мира и места человека в нем, основ и проблем их существования. Вследствие такого подхода к изучению дневников И.А. Бунина и М.М. Пришвина целью исследования выдвигается доказательство наличия глубинной духовной связи между современниками
17 посредством выявления доминантных констант их человеческих и художни-ческих миров.
Цель исследования определила его главные задачи:
обосновать необходимость научного внимания к биографическим параллелям дневников И.А. Бунина и ММ. Пришвина, содержащим схожие жизненные коллизии и родственные личностные характеристики авторов;
проследить в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина пути формировать целостного отношения к Бытшо, нравственно-эстетических взглядов, неповторимого художественного стиля;
найти точки соприкосновения писателен в определении ценностных основ личности художника и его роли в полноценной «жизни» слова;
раскрыть бунинское и пришвинское понимание любви через анализ содержательно-изобразительных начал их дневниковых записей;
выявить типологические связи дневников с фундаментальными авторскими положениями о мире и человеке, нашедшими полновесное отраже-ime в художественном и публицистическом наследии писателей;
проанализировать философскую насыщенность дневников в собственно авторском осмыслении бытия русского человека, в чувствовании жизни и отношении к смерти;
- показать многогранность и сложность подходов И.А. Бунина и
М.М.Пришвина к проблеме постижения нравственных основ русского чело
века в трагические периоды истории через трактовку русского национально
го характера, его цельности и противоречивости.
Теоретико-методологической базой диссертации являются достижения научной мысли в области литературоведения, философии, эстетики и культурологии. Специфика темы потребовала обращения автора работы к целому комплексу методов, предполагающему использование элементов проблемно-хронологического, сравнительно-типологического и структурного методов литературоведческого исследования, принципам комплексного, содержательно-функционального и жанрово-стилистического анализов.
Применение системного подхода в изучении дневников И.А. Бунина и М.М. Пришвина позволило оперировать элементами историко-культурного и формального методов, опираться на положения в трудах М.М. Бахтина, В.В.Кожинова, Ф. Лежбна, М.Ю. Лотмана, В.Е. Хализева, на исследования по эстетике и психологии творчества В.Г. Белішского, Н.Н. Волкова, Л.С. Выготского, В.В. Есипова, И.К. Кузьмичева, А.Ф. Лосева.
Текстологический анализ дневникового наследия писателей направлен на выявление подтекста записей разных лет путем построения ассоциативного ряда, связывающего с художественными произведениями их авторов, а также многогранным историческим, литературным, культурологическим наследием нашей эпохи, требующим универсального подхода.
Частично реализуются в работе методы философского анализа текста, возникшие в русской философской критике благодаря трудам Н.А. Бердяева, С.Н.Булгакова, И.А. Ильина, B.C. Соловьева, С.Л. Франка.
В качестве дополнительных источников привлекаются сочинения по истории, языку и культуре русского народа Д.С. Лихачева, Н.И. Костомарова, Ю.М. Медведева, Н.М. Шанского, философские труды Н.А. Бердяева, О.Н. Вернадского, И.А. Ильина, В.В. Розанова, Н.Ф. Федорова, Г.П. Федотова, П.А. Флоренского, Е.Н.Трубецкого, П.Б. Струве, К.Г. Юнга.
В контекст предпринимаемого изучения также включаются дневники Л.Н.Толстого, воспоминания, письма и критические статьи современников писателей: Г.В. Адамовича, Ю. Айхенвальда, А.В. Бахраха, Н.Н. Берберовой, Б.К. Зайцева, Г.Н. Кузнецовой, Т.Д. Муравьевой-Логиновой, В.Н. Муромцевой-Буниной, И.В. Одоевцевой, К.Г. Паустовского, В.Д. Пришвиной, И.С.Соколова-Мнкнтова, Ф.А. Степуна, А.Т. Твардовского, А.А. Ухтомского.
Диссертация общим объемом 236 страниц состоит из введения, трех глав (каждая из которых делится на параграфы), заключеїшя и библиографического списка, насчитывающего 261 наименование.
Биографические параллели дневников сквозь призму ценностных основ духовного мира И. А. Бушша и ММ. Пришвина
Еще К.Г. Паустовский отмечал существование главного начала, объе диняющего «враждебные» писательские и человеческие миры И.А.Буннна и М.М.Пришвина, - землячества. «Пришвин, - писал Константин Георгиевич, - происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин» (164,5). Немые свидетельства «корневого родства» содержатся и в дневниках каждого в описании елецкой земли, в упоминании топонимических особенностей края и имен ближайших соседей. Однако сам факт рождения еще не обуславливает родства духовного. Выскажем предположение, что объединяли Ивана Алексеевича Бунина и Михаила Михайловича Пришвина не только общие корни, но и родственные личностные характеристики, и история семьи, и человеческий мир, биогра фическую (человеческую) общность которых открывают нам дневники. Подобным несомненным «биографическим» и глубоко личностным сближением мы считаем, например, детские открытия собственной неповторимости, посетившие каждого в одном и том же возрасте (восьми лет) и ос-ветнвшие дальнейший жизненный путь.
Таковы бунинское признание о поразившей в детстве страсти выдумывать и пришвішское воспоминание о рождении сказки. «...Я был в детстве и отрочестве правдив необыкновенно, - запишет И.А. Бунин. - Как вдруг случилось со мной что-то непостижимое, будучи лет восьми, я вдруг предался ни с того ни с сего страшной бесцельной лживости ... И длилось это с год, и кончилось столь же внезапно, как и началось. А возвратилось, точнее говоря, начало возвращаться, - в форме той сюжет н о й «лжи», которая н есть словесное творчество, художественная литера тура, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать как-то совершенно само собой, став на всю жизнь только писателем» (153,31). (Разрядка И.А. Бунина. - М.Ш.). Это бунинское «ни с того ни с сего» будет сопровождать художника и в течение всей жизни, находя отраже-ниє в его дневниках как объяснение собственного озарения. Так представилось: «вечер после грозы и ливня на дороге к ст. Баборыкиной. И небо и земля - все уже угрюмо темнеет. ... Кто-то на крыльце постоялого двора возле шоссе стоит, очищая с голенищ кнутовищем грязь. Возле него собака ... Отсюда и вышла «Степа» ... «Музу» выдумал, вспоминая мои зимы в Москве на Арбате ... В феврале 1938 г. ... вспомнил вдруг давние зимы в Васильевском и мгновенно в уме мелькігула суть «Баллады» - опять-таки нистого ни с сего» (7.5.1940) . (Выделено мною. - М.Ш.).
М.М. Пришвин же доверит дневнику детское впечатление от именин Федора Петровича Корсакова (старика, похожего на Фета), которое в записи 1907 года приобретет форму миниатюры, повествующей об истоках «сказоч ности» писателя.
В центре организации сюжета окажется «поющая» кружка (подарок старику), предлагаемая входящему и преображающая каждого при соприкосновении с ней (гость вздрагивал, удивлялся, смеялся, и все смеялись, и даже старик «улыбался издалека-издалека»). Причем уже тогда эта улыбка старика для Пришвина была не равнозначна смеху окружающих, а детская шалость была наполнена особым смыслом. Далекая волшебная кружка сказочным образом открывала в каждом взрослом и серьезном человеке затаившегося ребенка, а смех роднил собравшихся, ведь каждый из смеющихся уже знал ее тайну, но всякий раз постигал ее заново. «Эту кружку подарил кто-то, очень тонко его (старика. - М.Ш.) понимающий», - запишет в дневнике взрослый М.М. Пришвин, а для восьмилетнего Пришвина («крошечного мальчика») «этот огромный великан, старый и почтенный огромный Фет», которому было более восьмидесяти лет, навсегда останется «большой волшебной кружкой» (16.5.1907). Так, в молчании улыбки, происходило соединение тайной старика и ребенка и передача жизненного опыта: теплый ток шел от сердца к сердцу, и в нем «расцветала свободная личность».
В свете происходившего странными и чужими казались Пришвину-мальчику рассуждения гостей о цели воспитания детей: барыня с лицом Петра Великого предлагала «не детство иметь в виду, а старость»; мадам Хво-щннская - «не детство и не старость, а средний возраст», и только упрямая молодая мать отвечала: «Детство!». А самому Пришвину вспоминалась запрокидывающаяся большая серьезная голова старика, вылетающее синее кольцо дыма из рыжеватых усов и короткий разговор: «Затянулся?» -«Затянулся. Силюсь...» - «А в нос умеешь?» - «Нет.» - «Вот смотри. А кольцами?». Как слышался и заговорщический шепот «громадного» Федора Петровича: «Молчи, пожалуйста, молчи», - и молчание (16.5.1907).
Заключенный в детстве договор молчания войдет в жизнь художника и воплотится в его сказочном восприятии мира, соединяя неразрывным кругом единства всё живое в нераскрытой тайне небывалого, кристаллизуясь в убежденности сохранения в душе ребенка и желании передать знание другу.
Любовная линия дневника как исповедь души автора
Рассматриваемые в биографическом аспекте дневники И.А. Бунина и М.М. Пришвина, кроме соотнесения жизненных перипетий, несомненно, интересны и как повествование о душе. Поэтому в передаче стремлении их авторов понять и объяснить самого себя, свою жизнь, отношения с другими людьми и откровенно рассказать обо всем документы равносильны исповеди. Такая исповедь как форма самораскрытия автора дневника представляет собой, по справедливому замечанию В.И. Чудиновой, «своего рода замещение церковного таинства», «житейскую» исповедь (245,2). Не случайно в этом аспекте жанр рассматривался исследователями как своеобразная форма ((лирической прозы» интимного, исповедального характера (Р.Уэллек, О.Уоррен,230,92), «элемент духовного быта» (О.Г. Егоров,78,112), форма «феноменологам художественного сознания» (Я.Гришина и В.Гришин, 69,162). Вследствие чего дневнику, как подчеркивает В.Е.Халнзев, присуще искусство самопознания авторов и «воссоздание ими собственной личности и судьбы» в сосредоточении не на сущности мира, а «на пребывании в нем человеческой индивидуальности, на ее существовании» (239,50). Подобное понимание сути дневітка находит отклик и в исследованиях Л.Я. Гинзбург, тонко подметившей, что «образ человека строится в самой жизни», а «житейская психология откладывается следами писем, дневников, исповедей и других «человеческих документов» (58,12). В результате дневник отражает душу художника-автора, его мировоззрение и мировосприятие, создавая образ человека в мире. В таком понимании возникает постижение жанра и следование ему в записях художников, обнажающих их личностные феноменологические характеристики.
Так, И.А. Бунин выказывает желание в моменты душевной пустоты создать, подобно Флоберу, «Книгу ни о чем», «без всякой внешней связи, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть» (29.10/9.11.1921), и определяет «Любовь» как «более всего святое свойство души» (29.12.1885). Известно, что и М.М. Пришвин утверждает, что «дневники пишутся с целью самопознания и что процесс писания таких дневников есть разговор с самим собой» (20.9.1951). А в 1942-м году замечает о душе («душа - это внутренний мир человека, это, что он сам знает о себе»), попутно подчеркивая, что «знал о ней с очень далекого времени, почти с детства» и что детское «стремление любить и было действием души» (26.8.1942). Таким образом, и Бунин, и Пришвин, признавая исповедальное начало жанра в обнажении души, обосновывают любовь ее константой. В чувстве любви, как наблюдали мы ранее, объединяют для себя оба отношение к семье, роду, дому. Дневнику поверяют писатели и первые тайны влюбленности. Более того, именно признаниями в любви и душевными переживаниями открываются оба дневника.
Уже в ранних дневниках И.А. Бунина, написанных в откровенно доверительном и эмоционально-возвышенном тоне, мы обнаруживаем «излияние нежных чувств» и оговорку: «может быть, некоторым, случайно заглянувшим ... в сердце», оно покажется смешным. Однако, здесь же, не боясь осуждения со стороны «заглянувших», автор заявляет о потребности любви и горестно вопрошает: «Но кого?» (декабрь, 1885).
Постепенно крепнет и обретает силу убеждение в том, что любить означает жить и трепетать на ветру «как молодая травка» в ожидании ее. Бунин так записывает об этом в раннем дневнике: «Что меня ждет? ... я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко, и даже по временам я плакал так сладко, сам не зная от чего ... во мне закипало радостное чувство молодости ... непременно я полюблю...» (декабрь, 1885). И как будто единственному другу доверяет ему и переживаемый восторг от полноты ощущений и захватывающих чувств: «...Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! ... Да! Пиша эти строки, я дрожу от упоения! От горячей первой любви!...» (29.12.1885). В отношении последнего признания, примечательно, что ценность и значение его не померкнет с годами, а останется незыблемой для Ивана Алексеевича на всю жизнь. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует авторское отношение к записям тех лет: переписав спустя более полувека дневник с «истлевших, чудом уцелевших клочков» конца 1885, начала 1886 и конца 1887 годов, И.А. Бунин «с болью сердца поцеловал и сжег их» (8.3.1941).
«Чистая» и «божественная» любовь подталкивает юношу и к важнейшему открытию основ своего поэтического естества (некоего «святого», «первобытного состояния души»), формирующего индивидуальность художника. «Любовь тесно связана с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский...», - отмечает писатель, подчеркивая, «поэты все плачут! ... о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим грешно!».
Чувственное восприятие мира и специфика его изображения в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина
Цельность и естественность мировоззрения И.А. Бунина и М.М. Пришвина в отношении природы отмечали многие современники писателей. О бушшском чувстве природы писал А.А. Блок: «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, - мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко, и красочные, слуховые его впечатлешш богаты...» (34,141). Бунин-ское «обостренное чувство природы и величайшее мастерство изображения ее в поэзии» отмечал и А.Т. Твардовский (218,70). К.Г. Паустовский, в свою очередь, выделяя, единые истоюі талантов художников, отмечал, что и М.Пришвин, как и Ив. Бунин, умел «воспринимать природу в органичной связи с человеческими думами и настроениями» (164,5).
Рассмотрению различных аспектов природной темы в творчестве мастеров слова посвящены достойные пристального внимания научные изыскания И.С. Альберт, В.Н. Афанасьева, А.А. Волкова, И.П. Карпова, Т.А. Нико-новой, О.В. Сливицкой, Л.А. Смирновой, О.В. Солоухиной, Р.С. Спивак, О.Н. Михайлова; Т.Я. Гринфельд-Зингурс, Г.А. Ершова, Н.И. Замошкина, И.А.Зотова, ВЛ. Курбатова, И.П. Мотяшова, М.Ф. Пахомовой, СВ. Красновой, А.Д. Тимрота, Г.А. Токаревой, Г.П. Трефиловой, А.И. Хайлова, Т.Ю.Хмсльшщкой, К. Янович-Страды. Обобщая предшествовавшие и современные исследования о «природном» чувстве писателей, предпримем попытку рассмотрения особенностей дневникового своеобразия его проявления.
Действительно, в своей жизни И.А. Бунин не раз высказывался о пристрастном отношении к природному миру. Как, например, делился он мыслями с И.В. Одоевцевой: «Я любіш, я просто был влюблен в природу. Мне хотелось слиться с ней, стать небом, скалой, морем, ветром ... выходил утром страстно взволнованный и шел в лес, как идут на любовное свидание» (161,283).
Признавал всегда Иван Алексеевич и тот факт, что вобрал в себя простор степных полей и очарование родной земли в юном возрасте, благодаря вынужденному пребыванию в деревне и несмотря на материальное неблагополучие семьи. Косвенное подтверждение возникшему чувству мы находим в ранних дневниках писателя в поэтически-восторженной россыпи описаний близлежащих сел Елецкого края. Озерки, Бутырки, Скородное, Васнльев-ское-Глотово, Измалково, Огневка, Колоптаевка становятся главными объектами авторского внимания и в записях 1910-1912 гг., однако в них автор уже проведет разделение между истинно природным великолепием и убожеством крестьянской жизни. С удивительной точностью воссоздаст художник природные особенности ландшафта и других стран, занося их в дневник во время путешествий в Крым, на Кавказ, в Сирию, Палестину, Египет. К изображению природного мира обратится И.А. Бунин и в эмиграции.
Примечательно в этой связи, что и М.М. Пришвин, касаясь в ранних дневниках важности земельного вопроса для существования семьи, также не обойдет стороной природного окружения, восхищаясь соловьиными трелями, посаженными у пруда деревьями и выращенным матерью садом в Хрущеве Намного позднее Михаил Михайлович отметит, вспоминая свое сближение с природой, сколько «этому счастью помогла ... бедность: нищенское существование до революции обрекло на деревенскую жизнь...», и захочет жить, как в природе, «эстетически, то есть свободно» (3.3.1937). Как и Бунин, он включит в днсвішки путешествий описания природного своеобразия посещаемых мест, передавая не только увиденное, но сопровождая запечатленное собственным представлением о нем.
Любовь к природе нс только всегда дарила И.А. Бунину и М.М. Пришвину возможность эстетического любования. Природа спасала обоих в минуты горя, служила залогом творчества и вдохновения. Поэтому не единожды И.А. Бунин возвращается в своих дневниковых записях к воспомннанням о Кавказе как символе счастья молодости: «... Кавказ, молодость, молодые утренние снега. Весь мир, вся жизнь - счастье» (7/20.2.1922). М.М. Пришвин находит в природе ту же спасительную «Зеленую Дверь», открывая которую каждый способен посмотреть на траву-мураву и отдохнуть: «Человек иногда из своей лично-мучительной жизни, как в окошко, выглянет в жизнь вокруг себя с травой-муравой, с букашками и таракашками ... значит дух освобожденный увидит действительность» (17.2.1937).
Наблюдения над миром в течение жизни определили и многие мировоззренческие установки писателей, органично влились в произведения, становясь подчас наряду с человеком главным действующим лицом.
Так, высоким «мастером пейзажа», «изобразителем природы» называл Ивана Бунина Ю. Айхенвальд, подчеркивая, что он «себя природе не навязывает, и все-таки невольно, от прикосновения его осторожной и безошибочной кисти, обнаруживается естественная связь между явлением пейзажа и душою поэта, между беспристрастной жизнью природы и сердцем человеческим» (4,118). В том же ключе рассуждал и известный исследователь наследия М.Пришвина К. Янович-Страда: «Для Пришвина природа никогда не служила ни фоном для внешних событий, ни проекцией душевных настроений или метафизических видений» (260,318). У Пришвина «не очеловечивание природы», - писал и В. Кожинов, - а «человечность природы и прнродность человека» (168,70).
В дневниках же понимание «человечности» природы через трепетное отношение к ней зачастую является критерием определения и внутреннего мира самого человека. Из них становится очевидным, что по-особенному И.А. Бунин относился к племяннику Коле Пушешинкову, свободно «читавшему» столь любимую писателем звездігую карту неба, часто с тоской вспоминал писатель о долгих прогулках по «звездным дорогам» с братом Юлием.
Осмысление человеческого естества через отношение к смерти
На протяжении всего времени ведения записей И.А.Бунин и М.М.Прншвин задаются вопросом о человеке, его сознании и возможностях, его жизни и ее чувстве. Так, органично в дневниковое наследие художников вплетаются ежедневные размышления о бытии человека.
Раздумья же в этом аспекте обнаруживают явную дневниковую параллель: естественным для каждого писателя становится обращение к проблемам человеческого существования. И одной из важнейших среди них они выделяют трагическую предопределенность бытия человека на земле.
Из размышлений о смерти, в сущности, рождается и вся философия дневников, поскольку сама «философия есть спрашивание о смерти, о «самом главном» (Л.В. Карасев, 92,101). Впрочем, вопрошанне о бытии и смысле человеческой жизни являлось отличительной особенностью русской философской мысли в целом. В дневниках и писатели обращаются к постижению значения смерти в определении основ человеческого существования.
Как и философы, художники стремятся осмыслить итоги мировой истории и жизни человечества. Ведь, как точно отмечает СВ. Перевезенцев, «познание итога человеческой жизни - это познание Божественного замысла» (167,123). В поисках же смысла каждый стремится обрести не только истину, но и спасение.
Так, с особым чувством И.А. Бунин анализирует в собственных дневниках проблему «исчезання» человека из мира. Кропотливо собирает он и записывает примеры из жизни людей, подвергшихся этому страшному испытанию. Фиксирует проведенный двумя венскими студентами опыт: «решили удавиться, чтобы их вынули из петли за мгновение до смерти ... испытали ослепительный свет и грохот грома» (30.7.1940). Похожее состояние переживет сам писатель летом 1934 года в Грассе у калитки виллы «Бельведер»: «...Вдруг исчез, совершенно не заметив этого, - исчез весь в мгновение ока ... даже не поймал этой секунды ... Внезапная смерть, вероятно, то же самое» (1934). (Выделено И.А. Буниным. - М.Ш.).
Не единожды повторяет автор дневника, что «евреям с древности предписано: всегда (и особенно в счастливые дни) думать о смер-ти»(28.7.1940). И тут же замечает, что, по сути, «под знаком смерти» осознает себя всю жизнь. Подобное бунинское ощущение отмечала в воспоминаниях и В.Н. Муромцева-Бушша, подчеркивая, что «всякую смерть в детстве и в раннем отрочестве, когда все события, если и не стираются, то уходят куда-то под спуд, он переживал с необыкновенной остротой и болью и долго после не мог прийти в себя» (153,70).
Однако существенно, что в мировосприятии писателя смерть изначально не ощущалась чем-то трагическим, поскольку воспринималась абсолютно внешне, либо с обрядовой стороны. Она завораживала физическим преображением тела и будоражила душу внутренне потому, что казалась непонятной, «непостижимой», чуждой самой человеческой жизни.
Возможно, поэтому «особенно потрясает» в юности внезапная смерть жизнерадостного А.И. Пушешникова (Алексей Иванович, выведенный в рассказе «Антоновские яблоки» в лице Арсения Семеновича Клементьева, был для подростка своеобразным олнцствореігаем самого «физического» чувства жизни). Имешю в отношении этого события, воспрішятого глубоко личностно, но все же чуждо, обнаружим запись в позднем дневшіке писателя: «Смерть Алексея Ивановича Пушешникова ...весной 1885 года... Замечательней всего то, что мне и в голову не приходило, что и я умру. Вернее, может быть, и приходило, но все-таки ничуть пе касаюсь меня» (30.7.1940). (Выделено мною. - М.Ш.).
Более того, осознание бренности человеческого существования в юности носило скорее мистический оттенок. Элементы такого постижения главенствуют в содержании раннего дневника И.А. Бунина, в структуре внутренних связен которого доминирует принцип ассоциативности.
Ассоциации возникают по общности пространственно-временных (ночь, луна) и звуковых (плач ребенка, колокольчик) характеристик, во внешнем проявлении выражаясь в открытом параллелизме происходящего в природе н душе человека (набегают облака и воспоминания; темнота в комнате и исчезновение), в недоговоренности, прерывистости записи, смешении временных пластов (сна и яви). Такова одна из записей 1885 года: «...Я все еще не спал...на луну ... набегали облачка ... В памяти у меня пробегало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная... Я был тогда в саду... И снова все перемешалось. .. ... Вдруг все изменилось, я встал и огляделся: я лежу на траве в саду у нас в Озерках ... Тихо ... где-то тихо плачет ребенок и далеко несется по заре, словно колокольчик, голос его. Вдруг из-за кустов идут мои прежние знакомые ... Вдруг они нагнулись и подняли... гроб ... Вдруг все потемнел о... ... ... Далеко где-то звенит колокольчик... и... я проснулся: в комнате так же темно, луна не светит ...»(29.12.1885).
Внезапность и одновременно случайность всего воспроизводимого в дневнике проявляется и в обилии многоточий, незаконченности предложении, присутствии односоставных конструкций, употреблении наречий пространственно-временного плана (вдруг, далеко, где-то). Видение же смерти, точнее образа ее, в статичных атрибутах гроба и кортежа граничит скорее не с ужасом, а с удивлением от несовместимости душевных порывов и внешне чуждого овеществленного ее присутствия.