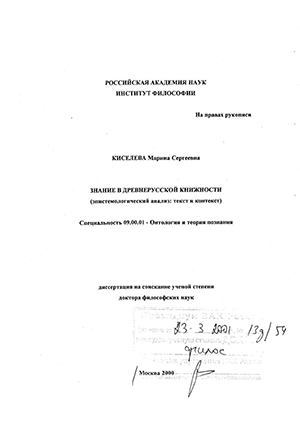Содержание к диссертации
Введение
Раздел первый. Двоеверныи контекст древнерусской книжности
Глава I. Знание о жизни и смерти: реконструкция языческого и христианского контекстов 48
1. Устный и письменный текст как способ различения контекстов 48
2. «Мера» жизни и смерти: устный текст и языческий контекст 53
3. Знание о смерти и вера в вечную жизнь: книжный текст и формирование христианского контекста 68
Глава II. Книжность как христианское вероучение и феномен «двоеверия» 87
1. Христианская книжная культура и языческая почва 87
2 Книжное знание в былинном эпосе Киевской Руси 94
3. Формирование двоеверного контекста древнерусской культуры 103
Раздел второй. Образовательный контекст древнерусской книжности
Глава III. Проблема трансляции знания: языковые ситуации и модели средневекового образования 111
Глава IV Типология учительства в культуре Древней Руси XIII-XVI вв 127
1. Учитель-книжник как проповедник: учение о «должном» 128
2. Учитель как писатель и миссионер: учение о «сущем» 143
3 Учитель-«знаток»: влияние греческой и западной учености 157
Раздел третий. Идеологический контекст древнерусской книжности
Глава V. Знание как идеологема: книжники и светская власть 166
1. Князья и книжники в Киевской Руси 166
2. Русь и татары: представления книжника о чужеземной власти 173
2.1. Идеологема христианской жертвенности и идеологема компромисса 175
2.2. Формирование идеи национальной независимости 182
3. Книжник в роли идеолога (Московская Русь) 185
4. Идея «самодержавия» и трудности ее идеологического оправдания. Политическое знание и зарождение авторского текста 191
Глава VI. Знание о вере: книжники и церковная власть 205
1. Раскол и конец древнерусской книжности 205
2. Знание как проблема русской культуры: новые книжные тексты и деформация древнерусского контекста 229
- Устный и письменный текст как способ различения контекстов
- Книжное знание в былинном эпосе Киевской Руси
- Князья и книжники в Киевской Руси
- Знание как проблема русской культуры: новые книжные тексты и деформация древнерусского контекста
Устный и письменный текст как способ различения контекстов
Пограничная ситуация в культуре сама по себе есть проблема для исследования. Знание, выступающее как особым образом организованная деятельность, в переходные периоды развития культуры, берет на себя роль проводника нового, а также использования его в установлении норм и правил новой культурной эпохи. Знание о чем бы оно ни было, и к какой бы области культуры не принадлежало - сакральной или светской, - всегда фиксацируется посредством языка. Язык - создатель, выразитель и носитель устного или письменного текста заключает в себе множество проблемных ситуаций, исследуемых в разных гуманитарных науках. М. Хайдеггер в «Письме о гуманизме», определяя самое широкое значение языка, писал: «Язык есть дом бытия, живя в котором, человек эк-зистирует, поскольку, оберегая истину бытия, принадлежит ей»74. Посредством знания, выраженного через язык, человек стремится наиболее близко подойти к «истине бытия», заключая всякий раз свои приближения к ней в текст. Текст, в свою очередь, представляется в двух принципиально разных формах, как устный и письменный, и играет разные роли в человеческом обществе, формируя разные контесты. Текст письменный сообщает знанию устойчивость и гарантирует его воспроизведение в неизмененном виде на протяжении определенного времени. От чего здесь могут зависеть изменения, мы сейчас не будем обсуждать. Знание в дописьменных культурах фиксируется существенно иначе. Его способ существования гарантирован коллективной памятью и актуализируется в ритуалах, обрядах, заговорах, праздниках, приметах, пословицах, поговорках, сказках и т.п., а если в целом, то в мифе как устном тексте, который сказывается, а потому в нем заключены все смыслы и значения, сопровождающие человека как в земном, так и неземном мире. То, что здесь называется устным текстом ближе к тому пониманию существа языка, которое Хайдеггер называет «казом». «Язык говорит, поскольку, достигая в качестве каза всех областей присутствия, он дает явиться или скрыться в них всему присутствующему. Соответственно мы слушаем язык таким образом, что даем ему сказать нам свой сказ»75.
Очевидна существенная разница в организации текста устной и письменной культур. Эта большая и сложная проблема, имеющая объемную литературу в современной лингвистике и философии постмодернизма76, интересует здесь нас лишь постольку, поскольку дальнейшая задача исследования состоит в нахождении способа вхождения в языческую культуру Древней Руси с тем, чтобы сравнить ее по основному параметру отношения к жизни и смерти с культурой раннехристианской, структурируемой на Руси посредством книжных текстов и, следовательно, поддающейся анализу именно через тексты, оставшиеся от XI-XII веков. Будем помнить также, что наше знакомство с устными текстами осуществляется посредством их поздней записи: строго говоря это письменный текст, замещающий когда-то существовавший устный.
Различение письменного и устного текстов возможно в нескольких аспектах: композиционном, коммуникативном, содержательном. Подробно эти аспекты анализируются в работе СЮ. Неклюдова, где устный текст рассматривается как сиюминутное сообщение, ориентированное на получение «выводного» знания, которое однако не является законченной и самостоятельной информацией. В этом сообщении непременно содержатся фрагменты предшествующей информации, которые удерживаются в оперативной памяти, а также представлены «фоновые» знания или «предзнания», представляющие «ментальные репрезентации традиции» . Механизмом соединения всех указанных компонентов является повтор, который обнаруживается на всех уровнях устного текста. Благодаря повтору не только формируется композиция фольклорного памятника, но, что существенно важно, отрабатывается содержательная сторона, включается в работу «фоновое знание», составляющее содержание коллективной памяти. Иными словами, повтор, зафиксированный исследователем, дает возможность двигаться вглубь коллективной памяти, фиксируя ее содержание. Однако знание ли составляет это содержание и правильно ли думать, что устный текст репрезентирует знание в соответствующей ему форме?
Устный текст возникает тогда, когда его проговаривают вслух. Собственно здесь в чистом виде присутствует та «одновременность говорения и слушания», о которой писал Хайдеггер, как «слушание языка, которым мы говорим» Возможность вернуться к уже сказанному произвольно, по желанию слушателя для индивидуального закрепления исключается, так как тогда прерывается поток говорения и теряется то, о чем сказывается. Но повторы, составляющие необходимую структуру текста, как бы восполняют эту потребность. Повторы, являясь опорой для говорящего, когда тот ведет свою речь, работают не только в синхронном, но и в диахронном аспекте, собственно точнее сказать, что тот и другой не разделяются в тексте, а следовательно, воспроизводят контекст, в котором также нет разделения на «настоящее», «прошлое» и «будущее». Пожалуй, в самом общем виде можно говорить о том, что для устного текста нет контекста, или что текст сказанный не отличим от его контекстной природы. По Хайдеггеру, «сказ» есть «каз». В силу этого трудно предположить, что знание есть цель и смысл устного текста. Скорее, устный текст есть представление (показ) контекста, а контекст -«предсказанность» текста.
Повторы являются опорой и для слушающих: многократно повторяя важнейшие смыслы, они втягивают самого слушающего в текст. Естественный контекст устного текста - миф как способ жизни, но миф и есть Сказанное и Услышанное Слово. Можно поэтому предположить, что анализ «устного текста» есть попытка проникновения в контекст культуры мифа, движение к онтологии языческого бытия.
Абсолютная ценность содержания устного текста и неотличимость от контекста делает его сохранным и в переходное время постепенного распространения книжного текста, и в более поздние периоды. Фиксация, т.е. перевод устного текста в запись есть, по мнению Неклюдова, следствие ослабления коммуникативной возможности и информационной наполненности устной традиции, с одной стороны, и практической потребности в сохранении знаний, особенно нужных в жизни, с другой. Важно помнить различие между записанным устным текстом и письменным, изначально создававшимся как книжный текст.
Книжный текст, пришедший в Древнюю Русь из христианизированных балканских земель, никогда не ориентировался на практические потребности, его обращенность к Богу и только через Бога к земным заботам формировала иной контекст, отличая «настоящее» от «прошедшего» и от чаемого «грядущего». Различение синхронии и диахронии в пределах книжного текста, требовало от читателя или слушателя, ибо по большей части эти тексты читались вслух, самому отличать должное от имеющегося, хорошее от дурного, праведное от неправедного и т.п., т.е. вынуждало к самостоятельным усилиям, к работе с текстом, хотя бы к выучиванию молитв, а не только к коллективному проживанию ритуалов и праздников, связанных устным текстом. Только в этих координатах текст не сливался с контекстом, а стал способен к его формированию, усложнению, а затем и к собственному изменению, на основании изменившегося контекста.
Устный текст всегда в настоящем, ибо он говорится и тут же выслушивается, и потому его контекст всегда вместе с ним. Книжный текст всегда историчен, когда-то создан. Сакральный книжный текст или дан непосредственно Богом ( так Моисею Бог дал «две скрижали откровения, скрижали каменые, на которых написано было перстом Божиим» (Исх 31, 18)) или передан людям как «учение»: Христос учил Словом, которое затем записали евангелисты и апостолы (здесь можно видеть проблему преобразования сказанного Слова в Слово записанное). В любом случае Священный письменный текст связан со Священной историей, а потому располагается не только в земном времени. Его содержание связывает небо и землю, обращено от земли к Богу, создавшему человека, судящему его и дающему ему милость. Самая главная коммуникация такого текста - трансцендентная. Христианские тексты полнятся утверждением истины, в Евангелиях Иисус «истинно говорит», «учит» людей, сообщая им заповеди, укрепляя веру. Истина как вера и знание, объединненное в книжных текстах в слове «вероучение» наилучшим образом отражает внутреннюю связь верующего сердца и думающего разума, познающего мир, устроенный Богом. Учитель - Бог, вера в него есть учение, которое требует совсем иной связи, чем та, которая обеспечивается устным словом. Евангелисты, записавшие Новый Завет, даровали верующим благо постоянной, устойчивой и надежной связи с Божественным Словом. Священный книжный текст - текст, писаный верующим, предназначенный верующему и дающий человеку знания по вере его. Следовательно вера и знание, знание как вера, невозможность знания вне веры - сюжеты, которые не может не включать в себя христианский письменный текст. Возвращаясь к поставленной проблеме различения устного и письменного текстов, заметим, что в современной литературе по вопросу о связи веры и знания возрождается позиция религиозных русских философов начала века (С.Л.Франка, И.А.Ильина), смысл которой состоит в определении христианской веры как особого типа «достоверного знания, опирающегося на живой религиозныи опыт человека» . Не разделяя этой позиции в целом, отметим, что для христианской средневековой культуры знание безусловно составляло необходимое содержание христианского вероучения, о котором еще пойдет речь.
Книжное знание в былинном эпосе Киевской Руси
Былинный эпос Древней Руси, наполненный как мифическими существами (Соловей-разбойник, чудовище-великан Див, Змей, Тугарин змеевич и т. п.), так и историческими лицами (киевский князь Владимир Красное Солнышко, его ближайшие родственники), имел, конечно, разные уровни архаики, но приобретал свой законченный вид в пространстве христианизирующейся культуры. Древнерусские богатыри — добры молодцы — побеждают нечистую силу, обороняют Киев-град, меряются друг с другом силой, сватаются и т. п., то есть действуют, как и положено эпическим персонажам. Однако даже в самых ранних былинах цикла «старших богатырей», как только речь идет о вере героев, мы находим не языческих богов, а свидетельства распространения христианской веры.
В былине «Святогор и Илья Муромец» братство богатырей сопровождается характерным действием:
Они друг другу порассказалися,
Золотыми крестами поменялися...132.
Такими же братьями «крестовыми» становились в былинах Добрыня и Илья, Добрыня и Дунай.
Любимейший народный богатырь Илья Муромец, как известно, получил исцеление от сидения немощного тридцатилетнего и свою силу от «калик пере-хожих-переброжьих». Вот запись из «Беломорских былин» того места, где описывается, как счастлив отец Ильи, узнавший об исцелении сына:
Он бежал-то скорешенько тут, скоро из циста поля;
Он хвалу-то приносил Богу небесному.
Во-вторых-то он царицы, Божьей матери,
Во-третьих-то всё калик да перехожих:
Они были у меня да не просты люди,
Не просты были люди, да всё святы отцы:
Исьцелили у меня сына единого ш. Это не единственная былина о подвигах Ильи, где действуют калики. Особый сюжет связывает Илью и калик в былине о победе над Идолищем, причем в царьградской версии (когда Идолище засел не в Киеве, а в Царьграде) Илья спасает веру, колокольный звон и церковное пение. В.Я.Пропп считает, что это более поздняя былина, сложившаяся, в отличие от киевской версии, не в среде крестьян, а в среде паломников, самих «перехожих калик». Для нашего дальнейшего анализа очень существенно следующее рассуждение исследователя: «Странствующие исполнители были также паломники, которые пели преимущественно духовные стихи , добывая этим самым себе пропитание во время долгого пути, но могли петь и былины. Былины они, однако, пели не в том виде, в каком они бытовали среди народа, а переделывали их соответственно своему мировоззрению. Так возникают такие песни, как „Сорок калик с каликою". Так возникает царьградская версия былины об Илье и Идолище, так возникает ... былина о том, как перевелись на Руси витязи, как они были наказаны Божьим гневом» Ь4 (курсив мой. —М.К.).
Сцена прощанья Ильи Муромца с родителями сопровождается вполне христианскими наставлениями ехать в стольный Киев-град к князю Владимиру и «крест-то класть по-писаному, вести поклоны по-ученому». Богатырь отправляется к князю Владимиру с совершенно определенной целью — «послужить ему верой-правдой, постоять за веру христианскую» 135. Его набожность выражается не только умением креститься «по-писаному» и класть поклоны. Илья как может борется с язычеством. Известно, что предметом поклонения язычников были деревья, в особенности дубы. Дубовые рощи были местом, куда приходили волхвы, где проводились празднества. И вот Илья по дороге в Киев
У колодезя срубил сырой дуб,
У колодезя поставил часовенку,
На часовне ставил свое имечко:
«Ехал такой-то сильный могучий богатырь,
Илья Муромец сын Иванович»136. Внимание к личному имени— также свидетельство христианизирующейся Руси, да и пространственно-временная ориентация Ильи задана христианской службой137. Муромец мерит пространство и время от «заутрени» до «обедни»:
Ай ты, славныя Владимир стольнё-киевской!
Я стоял заутрену христовскую во Муромли,
Ай к обеденки поспеть хотел я в стольнёй Киев-град... ш Обратим внимание на имя другого любимого в народе богатыря. Доб-рыня — добрый, имеет отчество Никитич («Никита» с греческого переводится как «победитель»). Борясь с нечистой силой, богатыри любят заключать договоры, пытаясь призвать нечисть к порядку поначалу мирным путем. Вот и Доб-рыня из змееборческой былины, победив первый раз Змея, кстати сказать, «пуховым колпаком земли Греческой», заключает с ним договор, по которому фологической традицией, и с народной христианской. Былины. М, 1988. С. 107. Там же. С. 108.
Интересно сравнить с записью под 1143 г. из Новгородской летописи, комментированной Д. С.Лихачевым: «„...стояше вся осенина дъждева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгь". Обращает на себя внимание в этой записи в определении времени христианского Филиппова заговенья языческим „Корочюном"» {Лихачев Д. С. Литература эпохи «Слова о полку Игореве»// ПЛДР. XII век. М., 1980. С. 9). Добавим также, что Н. С. Трубецкой, анализируя текст «Повести временных лет», показывает, что до 1016 г. в ней использовались легендарные устные предания: их «ясно видно по стилю и содержанию многих сообщений о событиях данного периода. На них отпечаталось их происхождение из народного эпоса» (Трубецкой П. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 560 и далее).
Змей обязуется «не летать да на Святую Русь» ь9. В следующем бою, после нарушения договора со стороны Змея Добрыне помогает глас с неба, указующий место расправы над Змеем: «бей копьем да во сыру землю». Безусловно, здесь в былине воспроизводится христианская пространственная ориентация. Характерно, что Добрыня, слушаясь голоса с неба, смело идет в норы к змею, избавляя из полона русских людей, очищая «матушку сыру-землю» от змеенышей. Богатырь связует собой небо и землю, подчиняясь небесному гласу, как христианизированный герой, он успешно действует на земле, но не теряет способность проникать и в ее недра, как герой мифический. Женитьба Добрыни на «поленице» Настасье, языческой богатырше («привез себе-ка супротивную») предполагает крещение невесты, и лишь затем венчание:
Провели же ее да в верушку крещеную.
Принял тут с Настасьей по злату венцу...140
Один из почитаемых богатырей—
Алеша Попович (сын попа), представляясь князю Владимиру, говорит:
— Меня, асударь, зовут Алешою Поповичем,
Из города Ростова старова попа соборнова ш.
В «Сборнике Кирши Данилова» приводится вариант (всего известно 40 вариантов записи) змееборческой былины о борьбе Алеши Поповича с Тугарином-змеем142, в которой перед решающей битвой Алеша молится со слезами, прося у Бога дождь, чтобы змей замочил свои бумажные (и вовсе поздний вариант) крылья:
Тут Алеша всю ночь не спал,
Молился Богу со слезами:
— Создай, Боже, тучу грозную,
А и тучи-то з градом дождя!
Алешины молитвы доходны ко Христу.
Дает Господь Бог тучю з градом дождя,
Замочила Тугарина крылья бумажные143.
Особенно интересен для нашей темы сюжеты, связанные с грамотностью и ученостью былинных богатырей. Дело в том, что родители активно обучали своих богатырских сыновей грамоте, богатыри же любили составлять письменные договоры и просто делать надписи, как, например, Дунай, написавший на своем шатре «золотыми литерами»:
Еще кто придет ко черну шатру, —
Да живому-то назад будет не уехати,
Не бывать тому да на Святой Руси,
Не топтать тому будет да зеленой травы
Да не слушивать четья-пенья церковного,
Да того же звону колокольного144. Связь письменного умения с христианской культурой очевидна. Вспомним, что именно во времена Владимира летопись отмечает образование школ и собирание туда детей, о которых плакали матери как о мертвых. Эпические богатыри являют образец смелости и здесь, в овладении грамотой. Характерен в этом отношении финал былины «Бой Добрыни с Дунаем». Прогневавшись на богатыря Дуная, князь Владимир распорядился запереть его «за три железные двери» в «глубок погребок», дать ему «свечи воску ярого» и еще дать книг « да сколько надобно»145.
Пожалуй, самым интересным в сюжете об образованности и грамотности богатырей является фрагмент из былины «Волх Всеславович». Ее герой — образец пограничья двух культур: языческой и христианской. Вот как протекало его учение:
А и будет Волх семи годов. Отдавала его матушка грамоте учиться, А грамота Волху в наук пошла; Посадила его уж пером писать, Письмо ему в наук пошло.
Князья и книжники в Киевской Руси
Идея о том, что русская культура наследовала византийскую традицию подчинения патриарха царской власти, вполне укоренилась в нашем сознании и воспринимается как достаточное историческое основание и оправдание зависимости русской церкви от государства. Но посмотрим на этот факт пристальнее. Ведь христианство пришло на просторы Древней Руси, когда централизованное государство здесь еще не существовало и о царе русские люди даже не помышляли. Проблему можно скорее увидеть в том, как был воспринят на Руси византийский образец, каким образом случилось так, что русская культурная почва закрепила эту традицию и приумножила ее плоды238. Попробуем, не ограничиваясь историей русской церкви, обратиться к текстам древнерусских книжников, видя в них не столько свидетелей-летописцев начальных веков русской истории, сколько ее выразителей, исполнявших роль идеологов при церковной и светской власти.
Жития, летописи, изборники, богослужебные книги, поучительные слова и «военные повести», сказания и «путешествия» — все это «литературные памятники», однако те же самые произведения являются единственными источниками по реконструкции общественных идей и настроений, образования и знания в далеком прошлом. Древнерусская книжность являлась одним из способов передачи и сохранения христианской веры, церкви и монастыри выполняли ту же задачу. Но древнерусская книжность была единственной формой существования, передачи и сохранения знания, ибо, как мы уже могли убедиться, никаких иных форм (образовательных, теологических, научных) в Древней Руси не сложилось. Внутри этой учительной позиции постепенно выкристаллизовывалась иная, противоположная ей по сути.
Книжник был еще и идеологом. Он давал советы князьям, а затем, до поры, и царям, оценивая события, принимая на себя роль ответчика перед Богом, а со временем приобретая вкус к непосредственному участию в политических событиях. Идеология довлела русской книжности. В киевский период книжники искали образцы святости и находили их прежде всего среди князей. Это понятно, ибо именно от князя и его ближайшего окружения исходила инициатива христианизации русских земель. Более того, сама проблема взаимоотношения двух властей, духовной и светской, была задана русской культуре ситуацией принятия христианства князем Владимиром. Об этом прямо писал митрополит Иларион, сподвижник Ярослава Мудрого, в «Слове о Законе и Благодати» (XI в.): «И не бы ни единого же противящася благочестному его повелению, даже аще кто и не любовию, нъ страхом повельвшааго крещаахуся, понеже бе благоверие его съ властию съпряжено» (12: 592, курсив мой. — М. К.). Успех этой деятельности формулируется Иларионом кратко, с восхищением и даже вопрошающим недоумением: «...како бремя греховное расыпа, не единого обративъ человека от заблуждениа идольскыа льсти, ни десяти, ни града, на всю область сию» (12: 594). Но князья не только поддерживали церковь, они склоняли голову перед Богом и его земными служителями. Сын Крестителя князь Ярослав Мудрый известен по «Повести временных лет» своим вниманием к церковным уставам, попам, черноризцам, читающим книги днем и ночью, собирающим писцов и переводчиков, чтобы засеять «книжными словами» сердца верующих людей. Заботясь об укреплении веры в своей семье, внук Ярослава князь Владимир Мономах завещал своим детям чтить «епископов, попов и игумнов» и сам, выступая в роли книжника, пишет «поучение», настроившись на учительный лад под влиянием читанной Псалтыри: «Вземъ Псалтырю, в печали разгнухъ я, и то ми ся выня: „Векую печалуеши, душе? Векую смущаеши мя?" и прочая. И потомь собрах словца си любая, и складохъ по ряду, и написах: Аще вы последняя не люба, а передняя приймайте. „Векую печална еси, душе моя? Векую смущаеши мя? Уповай на Бога, яко исповемся ему"» (1:392).
Митрополит Иларион, составляя свое «Слово» на злобу дня — о том, что получила Русь при крещении и как вписались родные земли в общину христианскую, — немало внимания уделяет прославлению князя Владимира и его последователя и сына князя Ярослава. Собственно, Иларион впервые осмысляет отношение князя и церкви. Князь — просветитель, «учитель», по всей земле воздвигший церкви Христу и поставивший «служителей Ему». Вместе с тем, Илариону как книжнику любопытно, каким образом уверовал сам князь, а затем распространил свою веру по всей подвластной ему Руси. Награждая Владимира эпитетами «вместилище разума, средоточие милости», Иларион неутомимо ищет ответ на вопрос, почему все-таки вселился в него «разумъ выше разума земленыихъ мудрець» (12: 593).
Митрополит понимает, что на русской земле во времена Вла-димира нельзя быть свидетелем деяний Христа и его учеников. Так как же можно было уверовать, «не видев Бога»? Сравнивая князя с сильными мира сего, жившими во времена Христа, Иларион понимает, что даже тогда не все следовали Его заветам. Были и такие, кто предавал Христа. Что же позволило князю Владимиру стать последователем Христовой веры? Ответ Илариона определен и выдержан в уже отмеченной нами просветительской традиции. Именно разумом своим, считает книжник, князь Владимир постиг высшую Божественную мудрость и принял новую веру в свои земли. Не могу не привести это рассуждение без перевода, ибо при переводе возникает невольная модернизация текста: «Ты же, о блажениче, ... притече къ Христу, токмо от благааго съмысла и остроумна разумевъ, яко есть Богь единъ творець невидимыимъ и видимыим, небес-ныимъ и земленыимъ, и яко посла въ миръ спасенна ради възлюбленаго Сына своего. И си помысливъ, въниде въ святую купель» (12: 593).
Однако же есть и исторический образец, которому, по мнению Илариона, следовал князь Владимир. Это римский император Константин. Именно к нему митрополит приравнивает Владимира и умом, и любовью к Христу, и «почтительностью к служителям Его». Сравнивая Владимира с Константином, автор не может не отметить главное: «Онъ въ елинОхъ и римлянОхъ царьство Богу покори, ты же въ Руси. Уже бо и въ онехъ и въ насъ Христос царемь зовется» (12: 594). В этой формуле отношений двух властей впервые у русских книжников провозглашается соединение власти небесной и власти земной (земные царства покоряются Христу, зовущемуся царем). Это и есть общее, что, на взгляд книжника, делает естественным стремление князя к Богу и оправдывает принудительное крещение им своих подданных. Так поступали все правители, создавая законы своему народу, укрепляя христианство, следовательно, так и нужно поступать князю, думающему собственным умом. И отношения князя и церкви тоже строятся по образгіу Константиновых деяний: «Подобниче великааго Коньстантина, равноумне, равнохристолюбче, равночес-тителю служителемь Его. Онъ съ святыими отци Никеискааго събора законъ человОкомъ полагааше, ты же съ новыими нашими отци епископы сънимаяся чясто, съ многымъ съмерениемь съвещавааше, како въ человецехъ сихъ ново познавшиихъ Господа законъ уставити» (12: 594, курсив мой. —М. К).
Скорее всего, Иларион понимает под законом не только уставлення христианские, которые следует привить народу как правила новой жизни, чем, как мы видим, в равной степени озабочены как церковь, так и князь. Важно, что в это же время закладывается и правовое пространство, возникает собственно законотворчество светской власти. И нельзя не заметить, что церковь, исходя из своих имущественных потребностей, инициировала эту деятельность. Современный исследователь древнерусского княжеского права, анализируя «Устав» князя Владимира, прямо указывает на эти причины: «учреждением десятины и судебных прав церкви — и была создана, по нашему мнению, основа устава князя Владимира. Это была уставная грамота о материальном обеспечении, изданная князем Владимиром в начале XI века» 2j9. Акт о десятине первоначально относился только к церкви Богородицы в Киеве, акты о церковных судах касались всех епископий, соединившись в «Уставе» князя Владимира они распространили свое действие на все русские земли.
В текстах древнерусских книжников не могли не остаться результаты этой и подобной ей деятельности светских властей. Более того, появился образец благодарения-поощрения, адресованный князьям Он касается как повседневной жизни князей, так и их прямых заслуг перед церковью. В «Повести временных лет» под 1107 годом описывается победа над половцами, после которой князь Святополк (из Ярославичей) пришел в Печерский монастырь на заутреню. Летописец поясняет: «Такъ бо обычай имеяше Святополкъ: коли идяше на войну, или инамо, толи поклонивъся у гроба Феодосиева и молитву вземъ у игумена, ту сущаго, то же идяше на путь свой» (1: 274).
Знание как проблема русской культуры: новые книжные тексты и деформация древнерусского контекста
Осознание властями необходимости развивать в собственном государстве образование, а следовательно, грамматические и другие науки породило новое отношение к книге и ее содержанию. Церковный раскол отразил распутье русской книжной культуры. Дальнейшее существование книги определялось двумя возможными движениями: или вслед Аввакуму, презирая «внешнюю мудрость» и читая «почасту», исправлять себя по Божьей премудрости, заключенной в Писании и иных очень малочисленных книгах288, или предполагая, что разум человека способен к научению помимо Божественных книг, обучаться прежде всего языкам, а затем и иным наукам. Аввакум в «Книге толкований» именно так заостряет проблему, приводя комментарии на высказывание: «Взыщите премудрости, да живи будете» из Книги Премудростей Соломона. Противники Аввакума «немцы» (т.е. иностранцы), сторонники «латинской» мудрости, видят в этом «взыскании» путь к образованию разума, научению его, только тем. и будет жив человек. Аввакум же обвиняет их в главном и основном — незнании. Сторонник образования и церковных реформ митрополит Павел, знаток латыни и польского, «не знает Писания, дурак, ни малехонько!» — считает протопоп. По Аввакуму, премудрость есть только Божья: «любы, милость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, вся сия исправляти в ведении и разуме духовнем, и не примешивати блудень и похотей внешних к духовному жительству» . Именно к этим проявлениям Божьей премудрости должен приобщаться человек. Итак, русские книжники второй половины XVII в. разделились на два враждующих лагеря: «Для традиционалиста Аввакума „премудрость" — это нравственное совершенство, а для его оппонентов — некий интеллектуальный феномен, „наука", знание как таковое... Для Аввакума книга— духовный наставник, а для новаторов — ученый собеседник»290.
Вместе с тем заложенная новаторами программа секуляризации человеческого разума на ранних этапах вовсе не предполагала отказа от богословия. Но это богословие основывалось на новых принципах, которые можно обнаружить в характерной для «мудрствующих», по определению Аввакума, книге «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого, вышедшей в специально устроенной для автора Верхней (дворцовой) типографии. В посвящении своего труда царю Федору Алексеевичу автор заявляет о необходимости перелагать псалмы рифмами для лучшего их пения и понимания, что уже сделано в других языках для удобства:
И разумъ сокровенный спону содеваеть,
Чтый бо ли поющъ псалмы, со трудом той знает.
Темъ во инехъ язьщехъ в метры преведени,
петровских реформ. Л., 1984. С. 168).
Разумети и пети удобь устроени (12: 159). Разум у Симеона Полоцкого и его последователей ни в коем случае не отделен от Божественных проповедей, но и новизна провозглашается смело и определенно: разные слова и рифмы лишь позволяют глубже понять «само сущее»:
Темъ не дивися, видя ино слов —
Разумъ единъ есть, речение ново
Светлости ради ли за нужду меры,
Толкъ отверзаеть сих сокровищъ двери» (12: 161). Критика по отношению к своим противникам была свойственна не только протопопу. О своем неприятии позиции староверов Симеон Полоцкий заявляет в обращении к «благочестивому читателю» своей Псалтыри. Не нужно быть «общником» раскольникам, «всю мудрость в себе заключенну мнящым», являясь на самом деле «пребезумным сущымъ». Кто же читатель, которого желает видеть Симеон? Это — «не словъ ловитель, но ума искатель», который может извлечь пользу из чтения Псалтири — «прилежно разсуждати требе».
Для понимания судьбы древнерусской книжности после никоновских реформ важно уяснить расстановку сил. Мы уже видели сколь долго и безуспешно взывал Аввакум к царю Алексею Михайловичу, к нему же обращался поп Лазарь, «Ответ православных» дьякона Федора, подписанный всеми пусто-зерскими узниками, прежде всего обращен к властям. Совершенно ясно, что Алексей Михайлович, как и его преемник, выбрали иной путь книжной России. Несмотря на критиков Полоцкого291, стоит помнить, что именно Симеон был приглашен в качестве учителя к царевым детям, именно Симеону было поручено писать послесоборное обличение раскольников, трактат «Жезл правления», именно для Симеона была устроена специальная дворцовая типография и, наконец, именно Симеон оставил после себя не только громадную библиотеку с книгами разных авторов на нескольких языках, но и собственное огромное литературно-поэтическое наследие, написанное «нашим славенским в рифмехъ». Но не только Симеон Полоцкий противостоял древнерусской книжной и обрядовой традиции староверов. Мы уже упоминали, что Аввакум высоко ценил «старопечатные» книги, которые претерпели определенную книжную справу. Нужда в исправлении книг не могла не привести «ревнителей древлего благочестия» к усвоению «всех книжных плодов церкви киевской»292. И это был один путь, который не мог не повлечь за собой перенесение принципов киевской учености на московскую почву. Но был и другой: исправление книг требовало сверки их с первоисточником, а следовательно, привлечением к справе греческих книжников. Они, как и киевские монахи, принесли на Печатный двор и в Кремль греческий язык, свои обычаи. Казалось бы, и то и другое влияние абсолютно православное и волноваться за сохранение традиции не стоит. Однако на деле очень быстро выяснилось совсем иное.
Дело в том, что православные малороссы и русские, проживавшие на территории Речи Посполитой и успевшие еще к началу XVII в. обзавестись школами и коллегиями, не могли по многим причинам не поддаться влиянию латинской учености. И Киевское Богоявленское братство, устроившее школу (1615 г.) и типографию, издававшую переводы с греческого, и особенно учрежденная Петром Могилой Киевская коллегия (затем Киево-Могилянская академия) не избежали польско-латинского влияния, особенно влияния иезуитских школ, широко распространившихся в Польше. Их образовательная система строилась по образцу западноевропейской схоластической учености. В то время как в Европе развивалась секуляризованная наука и философия, славяне перенимали средневековые ученые традиции, в чем можно усмотреть гарантию заимствования такой книжной киевской мудрости Москвой.
Кроме того, существовали и чисто практические причины необходимости введения школьного образования в среде малоросов внутри польского государства. Об этом пишет А. С. Лаппо-Данилевский, приводя соображения Сильвестра Коссова29", известного учителя киевской школы: «Русские люди, по его мнению, нуждаются в латинских училищах для того, чтобы бедную нашу Русь не звали глупою Русью, чтобы русский человек мог пользоваться латинским языком „для диспутов" и „для судебных нужд", которым в Польше нельзя удовлетворить без знания латинского языка»
Киевская образованность распространялась и за пределы своей среды. Непосредственное знакомство с ней царя Алексея Михайловича состоялось скорее всего в его польских походах: в Полоцке он познакомился с Симеоном, который поразил царя своими литературными и учеными способностями. Следствием присоединения Малороссии и расширения московско-польских отношений стала полонизация верхушки московской знати. Да и царь, пригласивший Симеона учителем к своим детям, показывал прочим пример. Лап-по-Данилевский собрал свидетельства, характеризующие «польские» интересы царя: «Сам царь Алексей Михайлович даже назван был разгневанным патриархом «латиномудренником», явно сочувствовал новому просветительному движению, Он любил блеснуть книжной речью и интересовался, между прочим, польскими книгами и приказал перевести один сборник средневековых католических легенд и новелл с польского на славяно-русский язык»295.
За католической Польшей открывалась вся Европа. И как прежде Владимир крестил Русь, определив ей место среди других христианских народов, так и теперь «тишайший» самодержец Московский Алексей Михайлович взял ориентир на образование и просвещение своего государства, чтобы сделаться достойным царем всего православного мира среди иных европейских христиан. Наиболее приближенные к царю бояре с явно «западнической» ориентацией составили ему в этом деле надежную опору.