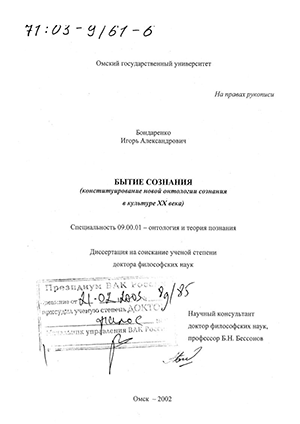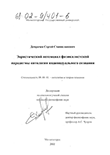Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Антропологическая катастрофа, или ситуация разрушенного бытия сознания 24
1.1. Акт философствования как условие сознательной жизни 24
1.2. Онтологическое измерение сознания как универсальный топос любой культуры 34
1.3. Изменение характера духовного производства и места мыслителя в культуре конца XIX- начала ХХ вв 43
1.4. Текст как «opera operans» 56
Глава 2. Проблема бытия мысли в неклассической философии 78
2.1. О нерефлексивном основании рационального 78
2.2. Проблема онтологии сознания в экзистенциально антропологическом направлении современной философии 101
2.3. Бытийствующее сознание как самоосновное явление 129
Глава 3. Вызревание «расширенной» онтологии сознания в неклассической науке 144
3.1. Многомерная методология и космологическое измерение человеческого сознания 153
3.2. Индивидуальность наблюдения в квантовой механике и проблема бытия мысли 158
3.3. Психоаналитическая ситуация «расщепления» патогенных образований сознания в новом опыте сознания 193
Глава 4. Онтология сознания ноосферы 217
4.1. Индивидность природы ноосферы 217
4.2. Эмпирические обобщения как воплощения целостности сознания ноосферы 233
4.3. Событие «вечного сознания», или о метафизическом пространстве ноосферы 261
Глава 5. Универсальная топология жизни сознания 287
5.1. Жизнь сознания как прорыв в историческую форму 291
5.2. Неизбежность феноменологической дескрипции сознания 312
Заключение 351
Литература 357
- Онтологическое измерение сознания как универсальный топос любой культуры
- Проблема онтологии сознания в экзистенциально антропологическом направлении современной философии
- Эмпирические обобщения как воплощения целостности сознания ноосферы
- Неизбежность феноменологической дескрипции сознания
Онтологическое измерение сознания как универсальный топос любой культуры
Речь идет о духовной ситуации европейской культуры в конце XIX - начале XX вв., символизированной проблемой «Запад - Восток». Что имеется в виду? Если понимать символический, а не географический смысл терминов «Запад» и «Восток», то, несомненно, будет проступать смысл, связанный с тем, что они обозначают разные состояния человека и человечества, вечные моменты их жизни. «Детское состояние» синкретической, почти утробной сбитости и невыраженности человеческой формы1 символизировано «Востоком», а «взрослое состояние» - держание человеческой формой жизненных усилий, внутри которых и существует история, задается символом «Запад». Здесь же проступает еще одна оппозиция - соотношение истории и стихии, свободы и органического, природного. Таким образом, в начале века ясно обозначилась дилемма «свободы (внутреннего) и естества (природного, внешнего)». Европа (прежде всего Австрия, Франция), а позднее и Россия в конце XIX - начале XX веков встретились со «своим Востоком», пытаясь всмотреться в его Лик и преодолеть его (только в России, пожалуй, речь шла о попытке вообще уйти от синкретизма «начинающей» культуры в историческое существование, включившись тем самым в общее духовное дело Европы).
Уже Ф. Ницше предупреждал: если вы думаете, что силой общественно выработанных норм или форм (религии или искусства) можно преодолеть стихию человеческой органики или человеческой природы, то вы глубоко заблуждаетесь. Все это ненадежно и не самодостаточно. «Шевелящийся хаос» органики трансформируется и преодолевается как-то иначе, причем нет гарантированного механизма очеловечивания человека (правда, поиски такого механизма в истории никогда не ослабевали). Опыт человечества подсказывает нам, что здесь дело обстоит как-то иначе, стоит лишь приостановить действие в себе неких готовых словесных форм (в смысле социализации или приобщения к культурным нормам). И мы начинаем понимать, что есть какие-то невидимые законы бытия, которые не следует нарушать, а прояснять эти законы позволяет все тот же язык метафизики.
Ранее было введено представление о самоосновных явлениях как о таких, которые есть в человеке, но от него не зависят. Допустим, угрызения совести -это состояние, которое мы не можем усилием воли вызвать. Оно либо есть, либо его нет. Человек, который испытывает совестливые состояния, отличается от того, у кого этих мучений нет. Эти вещи и называются свободой. В основании человеческого бытия лежит свободное состояние. Свобода состоит в осознании того, что действует через тебя, но не могло бы быть лишь результатом человеческого усилия и понимания. Такого рода осознание может быть затруднено и даже в определенные исторические периоды становится невозможным. Нечто подобное произошло в конце XIX - начале XX вв. в Европе и России, что я уже назвал антропологической катастрофой. Мы ранены в бытии, но не замечаем этого, точнее, боимся признаться в этом. Первым, кто поставил этот диагноз европейской цивилизации, был Ф. Ницше. Словами безумца из работы «Веселая наука» он утверждал: «Бог мертв» (что символизировало какую-то остав-ленность нами бытия, забвение опыта бытия). Термин «антропологическая катастрофа» ввел М.К. Мамардашвили. Смыл его состоит в неспособности человека проникнуть к бытию (а значит и к себе) по причине идеологической непроницаемости человеческой жизни1, ведь способом существования бытия является некое сознание как некая со-держащая форма.
Идеологизированный человек стремится к тому, что должно быть, но не знает того, что есть. Фактически мною вводится следующее различение. Есть какое-то сознание (первичное определение которого уже было дано в 1.1), к которому мы не можем прийти, продолжая и для (в смысле дления) свои естественные, психологические свойства и качества; к нему мы не можем прийти и опытным путем. Об этом сознании мы можем говорить и понимать его, если уже понимаем его. Это сознание нельзя ввести определением (оно вводится фактически, как практическое событие). Оно должно быть, а мы можем его лишь принять как то, что уже есть (если есть, т.е. открылось нам как наличествующее). Следовательно, иметь сознание - значит иметь тавтологию: сознаю, потому что уже сознаю. Сознание - это всегда взаимоотношение с иным, чего нельзя предположить, но что есть, потому что уже есть. Вот это уже и есть возможность сознания. Следовательно, сознание есть некоторая связность или точка (место) связи с иным (не иной вещью или другим человеком. Под иным здесь нужно услышать свое иное, то, что древние греки называли «меоном», угадывающимся «сквозь» наличную ситуацию). Это сознание можно назвать сознанием бытия (онтологически укорененное сознание) или бытийствующим сознанием, ибо является основанием для самого себя, что есть внутри своего собственного воплощения (вот и получается, что сознание действительно можно определить лишь рекуррентно, как возможность большего сознания). Причем бытийствуя внутри своей же собственной реализации (воплощения), сознание не может быть по частям. Принимая сознание, мы должны принять и то, что оно всегда целостно, всегда некая всесвязность. В этом смысле не бывает много сознаний, сознание всегда в единственном числе, одно. Можно говорить и о другом сознании. Назовем его онтическим сознанием: своеобразный дубль, зеркальное отражение случившегося опыта бытийственного сознания. Момент дублирования называется идеологическим моментом любого сознания и мысли, а общественная идеология производна от понятого таким образом удвоения в сознании и мысли. Мир Зазеркалья (мир абсурда) - идеологизированный мир человека, внутри которого невозможно услышать зов бытия, не удается коснуться его. Подобно тому, как не может попасть, хотя и стремится, в замок землемер К. из романа Ф. Кафки «Замок». Бытийственое сознание как бы прикрыто онтическим сознанием, порождая мир имитаций и абсурда (принципиально неопределимый и неописуемый).
В культуре XX в. явственно проступает неклассическая ситуация какого-то сдвига в сфере бытийных актов первовместимости мира (опыт бытия), кото 38 рые либо вообще отсутствуют, либо редуцированы (сами бытийные акты невидимы, но видимы следствия их случания или неслучания), поэтому опыт бытия начала века требовал и все еще требует (в каком-то смысле по нарождавшимся бытийным задачам мы находимся еще в начале XX века) своего понимания, извлечения. Опыт же извлекается созданием или кристаллизацией неких структур, а неструктурированный опыт обречен на разрушение и «вечное повторение пройденного».
Итак, совершаются (или не совершаются) какие-то акты первовместимо-сти мира, предполагающие состояние сознания (подобные акты целостны. То же, что есть целиком - это бытие, а вот способ, каким эта целостность бывает, и есть сознание бытия) и извлечение этого опыта в виде создания структур «доопределения» (М.К. Мамардашвили) мира, структур опыта мира, которые не совпадают с содержанием бытийного опыта. Мир определяется в актах первовместимости (или не определяется, если эти акты не происходят), и мы его уже можем понимать, ибо в актах первовместимости мира содержится предпонимание мира. Августин, обращаясь к Богу, говорит: «Поскольку ты видишь эти вещи, они есть». Если выделить философское содержание этого утверждения, то оно может быть прокомментировано следующим образом. «Видеть в Боге» или «видеть глазами Бога» - значит пребывать в каком-то другом режиме, режиме «совершенных предметов» (Р. Декарт), акт же видения един, а увиденное и есть существующая вещь, которую можно понимать и рационально описывать. Все - в настоящем этого режима бытия, режима полноты. Значит, виденное одновременно уже и понятое (имеется в виду некое предпонимание или такое понимание, когда требуется еще извлечение этого понимания. Вот такой парадокс. Мы понимаем то, что уже поняли, не иначе). Введенное различение сознания, которое принципиально двоично -бытийственное сознание и эмпирическое (онтическое), неразрывно связано с принципом или постулатом (онтологическим допущением) неразрывности, континуума «бытия-сознания».
Проблема онтологии сознания в экзистенциально антропологическом направлении современной философии
Неклассические философы, особенно в ее экзистенциально-антропологическом крыле (к которому принадлежат «философия жизни или культуры», «новая метафизика», феноменология, герменевтика, экзистенциализм, философская антропология, персонализм), хорошо осознают онтологический характер своей задачи, а потому нередки противопоставления онтологии и гносеологии, обвинения классической философии в гносеологизме и гипертрофии теоретико-познавательной активности человека, когда субъект - это то, «что все познается, а само никем не познаваемо»1. Следовательно, «надо отказаться от примата познания, если мы хотим учредить это познание»2. Предшествующая философия, философский идеализм, считает Ж.П. Сартр, знают «лишь познающее сознание и не задаются вопросом о бытии самого сознания...», здесь знают бытие, «поддающееся познанию (то бытие, которое может стать объектом), другими словами, только познанное бытие, а это значит, что бытие в идеализме «измеряется познанием»1. Научное познание, утверждает А. Бергсон, только относительно. «Все интеллектуальные конструкции - из опыта готового мира»... «Такого рода познание в принципе относительно, поскольку зависит от выбранной системы координат, точки зрения, ракурса рассмотрений»2. Наука и не может быть эталоном истинного познания, ибо, считает Э. Гуссерль, в ней содержатся непроясненные допущения3. Подобными высказываниями можно заполнить не одну страницу текста. За критичным пафосом неклассической философии по отношению к науке и обвинениями в гносеологизме классики нужно увидеть стремление к восстановлению необъективирующего мышления в онтологическом описании". Необходимым моментом такого мышления является редукция и ясность сознания (экзистенциальное просветление, которое есть следствие прояснения, а не познания своей экзистенции)5.
Фактически неклассическая философия пытается воссоздать утерянные образцы грамотного философствования, вместе с тем порождая новые проблемы и трудности, ибо выполненный философский акт содержит всю философию.
Что, несомненно, сложно, а потому этот акт как бы рассыпается по ведомствам родственных течений и направлений.
Тезис современных мыслителей о том, что бытие познающего остается невыясненным - слишком броский, чтобы быть верным. Как раз начиная с Декарта, мы имеем дело не только с глубоким и успешным опытом трансцендентального сознания в физике и математике, но и с прекрасным примером удачной и грамотной метафизики, обосновывающей бытие познающего из очевидности сознания и непроницаемые связности. Начиная с работ «философов культуры», философия выступает не столько умственным усилием и теоретической задачей, сколько является средством практическим, меняющим «неподлинное существование» на подлинное. В этом смысле мыслитель и тот, кто обращается к его трудам, в полной мере ответственны за свою жизнь, ибо в совместном труде со-мыслия они строят индивидуальные интерпретации и версии своей жизни на опыте свободы, который всегда вне опыта1. Ведь самопроизвольный опыт и есть основной признак живого и свободы, как считают А. Шопенгауэр и А. Бергсон. Человек - «абсолютное бытие» и может полагаться только на себя (не полагаясь ни на какие внешние нормы. Из норм, если хорошо подумать, можно усмотреть - ничего невыводимо). Человеческая реальность - самоос-повная реальность, а человек свободен. У него «нет никакой природы» . Бытие человека - это прерывание естественно данного, в том числе и возможностей психики и социальных объединений. Человек - это «дыра в недрах бытия»3.
«Философы жизни» говорят о многомерности сознания4, фундаментальные образования сознания почти неразличимо совпадают с жизнью (понятой не биологически). Живым в «философии жизни» называют прежде всего самопроизвольное, то, что не вытекает из предшествующих естественных состояний и нельзя получить желанием, вывести или предположить. Живое - это то, что спонтанно случается. Но это и длительность, ибо в нее мы не можем поместиться нашими понимательными возможностями, т.е. остановить длящееся и различить самотождественное в исследовании, что как раз предполагают традиционные понятийные конструкции. Нужен другой инструментарий, считают философы, нужна «новая метафизика», которая стремится передать не идеи, а состояния, «из которых» возможно усмотрение невыразимого и неартикули-руемого1. А. Бергсон говорит о реальности как о «потоке», которая есть «непрерывная струя постоянно нового»2. Сознание, не расположенное перед миром, а живущее в мире (не в том смысле, что есть всегда как предзаданная сущность или субстанция, а что рождается. Все живое когда-то рождается и умирает. Бессмертно лишь то, что никогда не рождалось. Вместе с тем оно вечно, если есть существо, готовое начать все заново, действовать и думать так, что еще ничего не произошло. Тогда и возможна возрождающаяся жизнь сознания как некая возобновимая вечность) является пространством полноты, а следовательно, перед нами онтологическое образование, в котором возможно видение того, что есть, т.е. действительности.
Для экспликации этого сознания нужен иной язык. Существовавшие и во многом сохраняющиеся способы понимания сознания строятся на базе дихотомии субъекта и объекта, часто воспроизводится основная посылка классической философии о данности сознания. А. Шопенгауэр критикует философов-современников за то, что они утратили способность говорить о скрытой сущности мира, воспринимая от науки ее методы выражения и обоснования знания. К сущности мира как чистому стремлению, считает философ, нужно идти не через познание (с его неизбежным делением на субъект и объект). Философия, в отличие от науки, не должна ничего объяснять, но должна схватывать «что» мира1, его самопроизвольный свободный акт мира, не имеющий ни причин, ни оснований . Об этой трудновыразимой сути мира, которая не является его субстанцией, «философы жизни», персоналисты, продолжая линию романтиков в философии3, предпочитают говорить по аналогии с человеком. Так, человек -это прежде всего существо волящее, или свободное (свободные явления наука выразить бессильна). А. Шопенгауэр не столько критикует науку и ее методы, сколько не согласен с философами, которые ссылаются на науку там, где это делать непозволительно. Свобода воли человека является объективацией воли1. Можно сказать и так: воля человека есть воплощение идеи воли (волю не нужно понимать в виде субстанции, которой присущи какие-то свойства и характеристики. Это чистое становление. Или идея воли2. Перед нами традиция восприятия существа мира как непрерывного становления, идущего от романтиков, без ее объективации и натурализации, одновременно - антитеза фихтевско-гегелевской традиции онтологизации и натурализации трансцендентальных понятий). Иначе говоря, в неклассической философии воссоздается кантовский тезис о едином основании человека и мира, которое возникает, если случается взаимодействие человека и мира. Об этом основании мы знаем лишь потому, что оно уже имеет место. Есть вещи, которые для нас совершенно недостижимы, при условии, если мы их уже не знаем, уже нам не открыты, поскольку это «уже» и есть возможность нашего сознания. Мы всегда рассуждаем во след событию чего-то, что в нас, но более нас. На философском языке это нечто и называется бытием. В основе нашей сознательной жизни (науки, философствования) лежат какие-то далее неразложимые вещи, которые мы можем лишь принять и описать. Это и есть свободные явления (свобода - это нечто в человеке, что не зависит от него самого). Так, бытийной основой феномена человека является нравственность, выступающая обобщенной и выделяющей характеристикой феномена человека как такового. Но нравственность, настаивает А. Шопенгауэр вслед за И. Кантом, невозможна без предположения свободы воли. Если бы человек становился тем, что он есть благодаря познанию и существующим представлениям, нормам, «он приходил бы в мир как нравственный нуль!»3.
Эмпирические обобщения как воплощения целостности сознания ноосферы
Еще в 1926 г. в работе «Биосфера» В.И. Вернадский вводит положение о том, что в основе естествознания и научной работы в целом лежат эмпирические факты и основанные на них научные эмпирические обобщения1. В связи с эмпирическими фактами и эмпирическими обобщениями В.И. Вернадский говорит даже об особой логике - логике естествознания, которую лишь предстоит создать, ибо «логики естествознания нет». Именно отсутствие последней и не позволяет философам и аналитикам видеть основные образования науки. «Говоря о науке обычно - особенно люди сторонние ей - забывают о том, что составляет ее основное содержание, основы научного искания - научные факты и построенные на них эмпирические обобщения»2. Новую, нарождающуюся логику естествознания В.И. Вернадский называет логикой понятий-вещей, в отличие от традиционной логики, которой пользуются в теоретической части науки и философии (ее Вернадский называет логикой понятий-слов). Логика современного естествознания - логика понятий-вещей не является какой-то новой логикой. Это скорее логика забытого описательного естествознания, методы и «научный аппарат» которого были оттеснены теоретической работой с понятиями. Логика современного естествознания по своему содержанию более всего подобна работе ученого-натуралиста, мышление которого связано не со всем Космосом, а с его определенной частью - природой, понятой как биосфера (другие оболочки Земли или другие части Космоса требуют иной логики). Хотя сами натуралисты могут и не употреблять термина «биосфера». Вот, положим, Гете, которого В.И. Вернадский считал одним из трех, помимо Платона и Леонардо да Винчи, крупным натуралистом и мировым писателем, у которого научное творчество и писательство были «совместны и одновременны». Гете как ученый не был признан немецкими учеными-современниками1, и не только потому, что не принимал математического естествознания, критически относился ко всякого рода приборам (будучи очень близоруким, Гете даже не носил очков, ибо это могло исказить его восприятие природы, его «чувство» природы и неразрывность натуралиста с ней. «Минерал, растение, животное, горная порода, почва, биоценоз, географический и геоморфологический ландшафт, геохора, река, озеро ... и другие частные явления природы прежде всего сами по себе привлекают натуралиста. Их точное, научно проверяемое описание, их полный учет, превращение их в научно наблюдаемое явление, порождающее главным образом глаз, но сверх того в меньшей степени слух, является основной работой натуралиста»2). Он не принадлежит к натуралистам-мыслителям, которые расширили научное понимание природы введением новых методов исследования или умелым истолкованием отдельных проблем (подобно Пастеру, Фарадею или Левингуку), он не оставил точных описаний природы, которой сейчас уже не существует, у Гете не было художественно написанных естественнонаучных трактатов. И все же в его научной работе «имеется здоровое зерно», причем такое, которое сам Гете не видел, ибо не было причин видеть то, что уже было в его работах1. В.И. Вернадский эту мысль выражает так - Гете бессознательно толковал природу как целое и неделимое пространство-время2.
Попробуем задержать свое внимание на этом моменте. Ведь ученый-натуралист имеет дело с чередой эмпирических проявлений вещей, в том числе и с живыми организмами (понятие «живое вещество» Гете не употреблял). Но каким образом можно прийти от этой череды явленности к целостности природы? Вещь встроена в бесконечное количество связей и отношений и непонятно, на каком эмпирическом факте нужно остановиться, чтобы утверждать целостность природы. И в этом смысле она невыводима из имеющегося материала, хотя уже есть (вспомним ситуацию с Эдипом. Это одна и та же ситуация. Истина уже есть, она уже смотрит на нас, но мы ее не видим. Дело в нас, надо как-то увидеть то, что увидеть, понять или знать практически невозможно. Передать это знание или понимание нельзя. Ведь предсказатель Тиресий, намекал Эдипу об истинном положении дел и чуть не поплатился за это жизнью. Есть такого рода явления и факты, которые знать и понимать нельзя в принципе, если уже не знаем, если они уже нам не открыты). Понимание и знание лишь может возникнуть, если проделал какой-то путь, который я должен пройти сам. На себе. Не иначе. Я должен затратиться, и тогда понимание, знание случается в конце этого пути. И то, если повезет, ибо многое должно сойтись, что соединить сознательным усилием эмпирического сознания невозможно). Проявления вещей могут не иметь ничего общего с сутью того, что происходит. В.И. Вернадский и пытается показать, что Гете уже понимал природу целостно (и именно поэтому природа для Гете «есть только биосфера»3), хотя сам этого не видел, не осознавал.
А. Эйнштейн, как-то отвечая на вопросы анкеты, говорил о трех типах ученых, которые работают в науке. Одни ученые обладают выдающимися способностями, и наука для них - средство разрешения различных интеллектуальных задач или некая интеллектуальная игра, требующая и огромного напряжения. Такие люди, говорит Эйнштейн, нужны в науке. Другие - талантливые люди, занимающиеся наукой так же, как они, могли заниматься чем-нибудь другим, приносящим им средства существования. Таких в науке большинство, и они по праву здесь работают. Но есть третья категория ученых, к которой, вероятнее всего, относил себя и А. Эйнштейн. Для них наука является чем-то, что прерывает естественное сцепление событий обыденной жизни и является средством попадания в другую размерность жизни1.
Иначе говоря, необходимы рассуждения о такой стороне науки, которая непосредственно не видна, но позволяет человеку как-то трансформироваться. Эту мысль В.И. Вернадский передает следующим образом: «Науки и научные организации создались, когда личность стала критически вдумываться в основу окружающих знаний, и искать свой критерий истины. Мы можем говорить о науке, научной мысли, их появлении в человечестве - только тогда, когда отдельный человек сам стал раздумывать над точностью знания и стал искать научную истину для истины, как дело своей жизни, когда научное искание явилось самоцелью»2. Сам Вернадский сторонился метафизических рассуждений, но вольно или невольно, особенно когда ему приходилось разбираться с историей научных знаний и логикой естествознания, метафизика и онтология науки «всплывала». И он как честный исследователь просто фиксировал этот факт. Как и подобает натуралисту. Вот он, осмысливая принцип симметрии в науке и философии, говорит: «Для нас, натуралистов, развитие мысли в ходе времени неизбежно представляется такой же частью изменения природы во времени, какой является эволюция химических элементов»1.
Таким образом, биогеохимическое представление об истории научного знания ничем не отличается от других естественных процессов. Научное знание с позиций биогеохимика - «явление природы» и проявление организованности биосферы (ее этапа в развитии - ноосферы). «Если в явлениях духовной жизни человечества есть коренные отличия от других природных явлений, он (натуралист. - И.Б) этого различия не увидит постольку, поскольку они подчиняются его эмпирическим обобщениям. Они выявятся, если останется не подчиняющийся законностям эмпирического знания остаток. Другого научного подхода к изучению природных процессов для натуралиста нет»2. Рост (усиление) сознания, допустим, расценивается натуралистом как прочие эмпирические факты и может войти в эмпирические обобщения. Однако в деятельности натуралиста В.И. Вернадский признает эмпирически необъяснимый момент, когда «бессознательно и независимо от его воли» на него и его суждения «влияет большее целое, чем то, которое в данный момент охвачено научным мировоззрением»3. В своей научной работе - установке научных фактов и основанных на них эмпирических обобщениях - натуралист исходит из огромного, «иррационального», только частично прояснимого дальнейшей эволюцией мысли, области или поля. И это не столько то, что мы обычно связываем с интуицией, чувством такта, чувством меры, красоты и др. Мы должны ввести какие-то метафизические допущения, чтобы понять процедуру установления или открытия научного факта. Либо мы останемся с подобными констатациями: «Всякая попытка логически определить целиком условия установления - открытия - научного факта, вполне выяснить, что такое факт, научно установленный, и что такое факт или явление, им не являющийся, всегда обречена на неудачу. Изучение истории науки указывает на изменение представлений о научном установлении факта со временем, об эволюции этого понимания и о том, что оно никогда не охватывалось логическими формулами»1.
В своих научных работах, в дневниковых записях, письмах В.И. Вернадский указывает на особое состояние духа, которое не удается выразить в словах (часто в связи с этим им вспоминается «Silentium» Ф. Тютчева). То, что думается в такие напряженные моменты духа, всегда как-то ускользает от словесного выражения (и именно потому, что то, что ускользает - невербально, вне слов. Такова его природа и об этом можно говорить лишь иносказательно. Просто потому, что мы не можем размерностью нашего человеческого устройства воспроизвести то, что внутри нас, но одновременно является больше чем мы, некая сила, связывающая нас со всем миром), а будучи высказанным теряют свою истинность бесконечной длительности. «Мысль изреченная есть ложь». Лето 1893 г. (Москва). В.И. Вернадский записывает в дневнике: «Мне кажется, точно во мне идут совсем разные процессы мысли - то какими-то бессознательными для меня путями выясняются внезапно разные обобщения, наведения, картины - как касающиеся научных, так и философских или общих идей, - а частию является полная неумелость и апатия в их проведении»2.
Неизбежность феноменологической дескрипции сознания
Сознание в философии принадлежит к такого рода явлениям в человеке, которые невозможно знать в принципе, что означает: нельзя прийти к ним простым продолжением наших психических свойств или породить своей мыслью. Они должно случиться как факт или «практический разум», действующий своим фактом случания. Поэтому, когда оно случилось, выступает схождением многого, чего нельзя соединить мыслью. Необходимым моментом такого соединения будет темнота непредзаданного и непредуготованного. Нужно позволить быть естественной темноте или пустоте (естественная темнота, или тень - это символ отсутствия готовых значений и готового знания). Сознание мы можем узнать только «после» случившейся темноты, ибо сознание есть место, куда входит свет. Можно сказать и так: сознание это место работы света (свет, понятый как первосвет) и если случился такой свет, нужно работать, нельзя откладывать (речь о работе души и понимания), ибо понимание своего действительного положения извлекается только из индивидуальной пустоты или темноты, под знаком интенсивности или пафосности, страсти сознания и только в этом свете, «которым зорок близорукий» (Данте). Образ пути или символ пути - это символ духовного вызревания, совершаемого на свой страх и риск, но перед ликом Бога, целого, Одного, который и есть свет на пути, место работы света, которое и есть, одновременно, место сознания. Итак, сознание «говорит» страстью сознания, некой нудительной силой поиска утраченного, или состоянием «философского беспокойства и недомогания»1. Страсть не нужно понимать как какую-то чувственность и экзальтацию, она вообще никакого отношения к психологическим свойствам человека не имеет. Если хотите, то можно сказать, что это онтологическая размерность человека. Страсть онто-логична, а на онтической стороне жизни она выступает в виде пафоса. Индийский мыслитель и просветленный мастер Дж. Кришнамурти говорил, отличая сознание от чувственности: «Страсть - нечто совершенно иное; она не является ни продуктом мысли, ни воспоминанием... страсть не является и печалью. ... В страсти нет потребности, а потому нет и борьбы. ... Страсть - это свобода от «я», которое и есть центр осуществлений и страданий. Страсть не требует, потому что она есть... Страсть есть суровость самоотречения, где нет ни «вас», ни «меня»; поэтому страсть представляет собой сущность жизни... она являет собой тотальный отказ от «я» и его времени»1.
Трудность обнаружения сознания в том, что всегда успевает произойти замещение сознания его же образованиями, и мы всегда думаем «вслед событию» (М. Хайдеггер), когда, как говорил Аристотель, первое «по природе» (по существу, в бытии) есть позднейшее для нас. Постепенно наращивая образы (двигаясь сразу как бы во все стороны), пока еще очень метафорично, я ввожу тему сознания, «прикрытое» самим способом своего существования в мире, или тему экранирования мира как закон существования самого мира и сознания, связанный с нашим способом «размещения» в мире. Человек, если он самоопределился в мире, а значит может его понимать и жить в нем достойно, сразу оказывается в ситуации экранирования, выраженной в невозможности прийти к чему-то, что перед нами и нас касается, продолжая наши естественные способности. Следовательно, есть нечто, знание чего для нас принципиально невозможно, если мы уже не знаем. Так вот сознание и есть то, что мы знать не можем, если уже не знаем, и дело заключается в том, чтобы принять феномен сознания и всмотреться в то, что мы принимаем. Способом всматривания в случившийся феномен сознания выступает феноменологическая философия.
Экранирование сознанием самого же себя стало осмысливаться в науке и философии с возникновением «неклассических» ситуаций в конце XIX - начале XX вв., когда потребовалось включить «жизнь сознания» в картину мира научного мышления. Проблемой стало само бытие сознания (бытие мысли), которое не может быть «схвачено» обычными процедурами и мыслительными конструкциями. Из классических «сетей» науки и философии сознание ускользало, а видеть сознание мешала наша предметная картина мира, «работающая» в науке и в повседневной жизни. Для прояснения сознания потребовалась редукция этой привычной картины. Что здесь имеется в виду? Для этого вспомним, что в философии со времен Платона было понято следующее: чтобы говорить об эмпирических вещах (постоянно меняющихся и несовершенных) общезначимо, универсально необходимо посмотреть на эмпирические предметы и вещи через призму неких конструкций или идеальных предметов, соотнесенность с которыми меняет наше видение. Идеи (формы) Платона не есть какие-то материальные предметы, но являются интеллигибельной материей, неким умопостигаемым средством или условием, позволяющим понимать вещи и высказываться о предметах доказательно и рационально, когда мы можем мир «разворачивать», «переформулировать» на понимательных и контролируемых основаниях (именно поэтому о мире мы можем говорить в терминах науки. Правда, Платон и другие античные мыслители не задали четкую и проверяемую процедуру получения такого видения в эмпирической жизни). Кроме того, научные утверждения о вещах мира возможны потому, что мы можем их создать. Иначе говоря, для того чтобы немного помочь себе в рассуждении, я ввел абстракцию, или принцип, который можно назвать объективацией. Смысл этой абстракции в том, что если я пытаюсь научно рассуждать о вещах, то я совершаю какую-то процедуру (она не всегда проговаривается, но имплицитно содержится в любом состоявшемся научном дискурсе), связанную с приданием каким-то состояниям моего сознания и опыта свойств, присущих миру вне этих состояний. Это вынесение в действительность не любых состояний сознания и опыта, но лишь тех, о которых я могу говорить доказательно, опытно их проверять. Процедура объективации определяется тем, что я назвал сознанием бытия или рефлексивным сознанием (трансцендентальным сознанием).
Мы уже знаем, что в классической философии (прежде всего в философии Р. Декарта, И. Канта, немецкой классической философии1) осознанием себя в мысли в качестве мыслящего человек тем самым организует себя в качестве существующего, который соразмерен исследуемому, а значит понимает и мыслит об этом исследуемом, и это организовывание и называется трансцендентальным сознанием или сознанием бытия (Кант называл его «общим сознанием» или «я мыслю»). Ведь я могу и не существовать (не жить), когда я просто произношу какие-то умные слова или повторяю чьи-то умные мысли. Меня нет, я «заслонен» этими готовыми словами и значениями (в дзен буддизме говорят об отождествлении), срабатывающими во мне, через меня задолго до того, как я это осознал, поэтому возникает отождествление с произнесенным. Совсем другое дело, когда я пришел в движение сознания бытия (в аристотелиевом смысле как бытие движущегося, что и обозначалось греческим «Energeia». Быть в движении - это не просто двигаться, это слово обозначает деятельное бытие1. Некое дление в бытии. Я немного изменю это утверждение: мы произвели какие-то действия и возникло дополнительное измерение, измерение бытия (если возникло, ибо не обязательно возникает, но случается, если случилось спонтанное трансцендирование), а введением абстракции трансцендентального сознания я проясняю то, что в моей деятельности кристаллизовалось, «выпало в осадок» в виде опыта мира. Мы как бы дважды встречаемся с миром: один раз спонтанно и стихийно в бытийном измерении, а второй раз - восстанавливая происшедшее на контролируемых, сознательных основаниях, т.е. в научном дискурсе. Но я могу восстановить спонтанно случившееся «касание бытия» лишь потому, что ввожу понятие трансцендентального сознания (или сознания бытия), которым я могу видеть случившееся трансцендентальное расширение (если оно случилось, то мы уже в тавтологии сознания и не можем сказать как это касание произошло. Либо нам придется, как говорил Кант, обращаться к чему-то сверхъестественному, не иначе).
Итак, мы имеем дело с миром, который нам явлен через модели и схемы нашей деятельности, а затем, случившись как-то, чем извлекается опыт бытия, сами эти модели и схемы являются элементами мира. Модели фактов сами становятся фактом, существуют. Иначе говоря, действия мира в качестве явленных предметов и вещей (а ведь вещи сами по себе не есть явления) существуют как реальность, а не наше представление. Существует физически прослеживаемая история «бывания человека в движении», его участие в познаваемом мире (а не просто в познании. Речь не идет о «теории познания» или «истории науки». Ведь эти «истории» есть наши, пусть и объективные, знания, а здесь мы говорим о том, что существует в самом познаваемом мире человек как участное существо, который самим этим участием в мире способен его понимать и воспроизводить на контролируемых и сознательных основаниях. Это участие человека дополнительно к самому содержанию познания, из него не вытекает. Кант его определял через «формы созерцания», каковыми являются пространство и время, а Декарт - «естественной геометрией». Причем не понятия пространства и время, а те пространства и время, в которых мы разворачиваем мир или условия знаний о мире. Мы ими познаем. Они выступают структурой и условием восприятия и вообще познания вещей и процессов, в которых сам человек существует как естественное, натуральное образование. Явленный мир, мир познания, в этом смысле не имеет своего пространства и времени (я хочу это повторить во избежание недоразумений). Эти пространство и время задает человек, и они в свою очередь, случившись, уже являются элементами мира, правда такими, которые кое-что уже скрывают, экранируют, когда мы уже чего-то не можем.