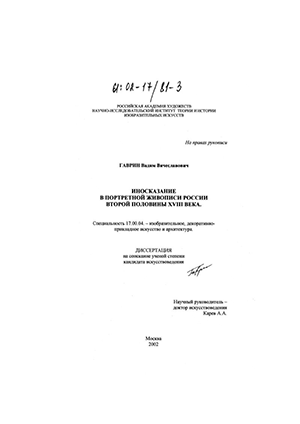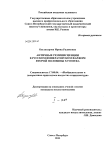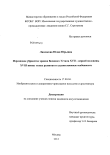Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I: "Венценосна добродетель!": риторика императорского портрета 32
1. Традиции конного изображения и триумфального шествия в портретах Екатерины II 32
2. Императорское изображение в аллегорической композиции .. 53
3. Иносказательность изображений Екатерины Великой в парадном портрете 63
ГЛАВА II: "Подпора царственного зданья...": портрет государственного деятеля как иносказание 129
1. Портретная репрезентация монарха - образец для подданных 129
2. Портреты членов царского дома: аллюзии на престолонаследие 153
3. Образ вельможи перед кумиром 163
Заключение 187
Примечания 193
Библиография 2
- Императорское изображение в аллегорической композиции
- Иносказательность изображений Екатерины Великой в парадном портрете
- Портреты членов царского дома: аллюзии на престолонаследие
- Образ вельможи перед кумиром
Императорское изображение в аллегорической композиции
Говоря условно, пути автора, сочинителя XVIII в. (дедуктивному - от риторической инвенции до элокуции) в контексте данной диссертации противостоит направление научного поиска (индуктивное - от "целесообразной формы" произведения, от элокуции и диспозиции, к его финальному "моралите" - источнику изобретения). Оно видится актуальным для исследователя, стремящегося «вернуть образу право на смысл, в равной мере подчиняющий себе и предмет изображения, и способ его творческого освоения...».50
По мысли М. Фуко, в классическую эпоху (XVII - XVIII вв.) «искусство языка сводилось к способу "подать знак", то есть обозначить какую-либо вещь и разместить вокруг нее знаки, ... назвать, а затем посредством одновременно украшающего и доказывающего удвоения поймать это название, замкнуть его и скрыть, обозначить его в свою очередь другими именами, которые были его отсроченным присутствием, знаком вторичного порядка, риторической фигурой, украшением».51
Не чуждый подобного искусства человек, обладающий даром «с первого же раза подметить сходство и различие явлений и решить, приложима ли к этим явлениям та или иная сентенция», охарактеризован Шамфором как «выдающийся».52 Но и такой уровень способностей в XVIII в., как свидетельствовал М. Фуко, в целом, не выходит за пределы исторически конкретного типа "мышления знаками", присущего этой эпохе.53 Для "острого" ума индивида Нового времени, совершенно естественно стремиться к синтезу семиотики (ср. с грасиановским "обнаруживает, схватывает...") и герменевтики ("познает и оценивает") в едином акте познания. И -тем самым - соответствовать просветительским представлениям о возможностях человеческого Разума, косвенно полемизируя с теми, кто усматривал антагонизм "остроумия" и "рассудительности". В интеллектуальной парадигме, синтезирующей названные качества, всякий предмет ("вещь") является, естественно, знаком чего-то иного и в этом "аллегорическом" статусе - удобным "эстетическим"55 поводом потолковать о высоких моральных идеях, о Добродетели.
Как известно, вполне профессионально оформленное и цельное в семиозисе пространство «изобразительной риторики» формируется в России на исходе первой половины XVIII века.56 Интенции аллегорического мышления (и язык его репрезентации), иконография и эмблематика европейского искусства, объединенные на теоретической платформе позднеренессансной иконологии и "науки сочинять..." в русле классической риторики, преображаются, давая новую жизнь образам, служащим "зерцалом" небезызвестного "екатерининского государственного мифа".57 Последний был важным идеологическим условием "синтеза искусств" эпохи Просвещения, под эгидой Риторики создавшей наиболее зрелые в своем "красноречии" формы изображения, в частности - портретные. Вышеизложенные обстоятельства повлияли на выбор хронологических границ (впрочем, довольно относительных) в обозрении предмета исследования.
Если пытаться аутентично представлениям людей исследуемой эпохи «брать вещи с должной стороны... »,59 стоит помнить пожелания идеологов "остроумия": Знать нрав тех, с кем имеешь дело, - чтобы понять их намерения (N.B.: "намерение" - важнейшая категория классической риторики: с нее и начинается авторство. - В.Г.). Зная причину, поймешь следствие, вначале исходя из причины, а только затем - из повода ... Учись разгадывать выражение лица, по внешним признакам читать душу .. .60 Как можно заметить, перед нами - по самому существу портретной репрезентации XVIII в. - некое подобие руководства для зрителей с выраженной в нем иконологической задачей.
Знаменательно, что вышеназванные интенции (от поэтики синтеза остроумия и рассудительности до применения к остроумию сравнения с молнией) сошлись воедино в державинском "Рассуждении о лирической поэзии", в частности - об "оде смешенной", в которой «стихотворец может говорить обо всем», действуя, конечно же, "иносказательно":
... - Похваляя героя, прославлять бога; описывая природу, проповедовать нравоучение и проч. Разность предметов производит разнообразие и рождает изобилие, оказывает остроту ума как молнию, от одного края неба до другого мгновенно устремляющуюся, что возбуждает удивление; но только тут весьма нужно здравомыслие, или логика. Поелику ж в таковых смешенных одах удобно помещаются похвалы иносказательные и намеки, которые, подобно тонкому благоуханию или тихой гармонии, издалече со стороны приносимыя, увеселяют более сердца чувствительные и благородные, нежели близкое и грубое громогласие, или густый фимиама дым, прямо в лице куримый, то они и нравятся лучше людям, вкус имеющим. Внезапное же совокупление всех далеких и близких лучей, или околичностей к одной точке есть верх искусства. Оно-то, потрясая душу, называется изящным или высоким.61
В размышлении державинской поэтики, демонстрирующей типичное умонастроение эстетиков XVIII в., его дедуктивный пафос и устойчивое риторическое намерение восходить к "общим местам", уместно добавить, что ей замечательно точно соответствует особая футжция "древностей", к числу которых живутций на рубеже XX -XXI вв. уже, пожалуй, способен отнести и портреты XVIII в. Какая-либо «старинная вещь - это всегда в широком смысле слова "семейный портрет"», который «в конкретно-вещественной форме... запечатлевает в себе некое достопамятное прошлое; на уровне воображаемого такой процесс соответствует устранению времени», а сама «старинная вещь выступает как миф о первоначале». Обаянием подобной мифологии «они (эти вещи. - В.Г.) приближают нас к некой оставшейся в прошлом эпохе, к "божеству", к природе...».63 Вполне логичным будет предположить, что роль старинных вещей в портрете XVIII в. брали на себя различные антикизированные и "готические" атрибуты-эмблемы, значимая иконография - «все те "околичности", которые так любили в XVIII веке»64. И не в последнюю очередь - за комплиментарную для модели портрета (и зрительской способности суждения) возможность приблизиться к первоначалу, к Добродетели, разнообразными атрибутами которой эти околичности являлись.
Иначе говоря, портретная репрезентация XVIII в. по-своему инспирирует «... стремление найти в произведении след творчества ... - это тоже поиски своих родовых корней и трансцендентной фигуры ... Отца - именно в нем источник ценности...».65 Такого рода устремленность, очевидно, важна в ситуации "обратного перевода", когда компетентный зритель, размышляющий о знаках, возвращается к исходному для инвенции портрета "совокуплению всех... околичностей к одной точке" - "punctum saliens" , "fundamentum inconcussum" в контексте европейской христианской культуры.
Иносказательность изображений Екатерины Великой в парадном портрете
Весьма сомнительная в глазах многих современников легитимность воцарения Екатерины II с первых же дней потребовала усилий обоснования, приобретших впоследствии программный характер. Риторика соответствующих текстов имела целью подтвердить законность притязаний бывшей немецкой принцессы на российский престол и разработать систему аргументации, доказательно изображающей и констатирующей такую преемственность. Текст портретного изображения этой поры, начиная с инвенции, предполагал подбор, усвоение (т.е. запоминание - "memoria"), расположение (dispositio) и т.д. эмблематически значимых атрибутов, иконографии, которые бы могли посредством "одновременно украшающего и доказывающего удвоения" представить риторическое намерение указанной программы. Наглядно продемонстрировать данный тезис может известный "Портрет Екатерины II в гвардейском мундире на коне Бриллианте"1 работы В. Эриксена, написанный по горячим следам известных июньских, 1762 года, событий государственного переворота.2 Просвещенный, проницательный и остроумный зритель, к которому и апеллирует изображение, думается, умел по достоинству оценить коннотации представления императрицы в роли, учитывающей иконографические аспекты целого ряда конных изображений Петра I3, императрицы Елизаветы Петровны верхом (и в гвардейском мундире)4, что на языке изобразительной риторики того времени способно прочитываться как почитание этих венценосных предшественников, как намерение утвердиться в их "роли", преемственно беря на себя заботы о благе Отечества, завещанные великим Петром.
В рассуждении упоминавшейся выше идеи костюмизации данная "иконографическая преемственность" разрешается иконологически: Екатерина II словно бы примеряет на себя атрибуты роли, в которой отныне намеренна выступать - в которой, по выражению П. Гольбаха (барона ДОльбаха), «каждый монарх стал богом», а господствовавшие традиции провозглашали монархов «представителями и подобиями божества, сделали их земными богами и бросили народы к их стопам».5 Величие роли, в которую вчерашняя великая княгиня впервые вступает (а здесь, в портрете - "въезжает" на коне Бриллианте), на наш взгляд, весьма искусно поддержано некоторыми "картинными" аналогиями, отражающими в целом вышеупомянутое тяготение портретной живописи к "картинности"6 и "аллегоризации" в исследуемую эпоху. Портрет, исполненный Эриксеном в условиях синтеза изящных искусств XVIII в., склонных к иносказательности, убеждает в своем качестве "конспекта ансамбля" или, иначе выражаясь, "фрагмента" некоего масштабного полотна. Если припомнить отечественные реалии и "гвардейские" "околичности" портрета - то, скорее, полотна батального. Говоря условно, Екатерина II "выигрывает" свою "Полтавскую баталию" в Петергофе, и благожелательному зрителю искусно предлагается употребить "способность суждения" для уяснения сходства легендарного сражения 1709 г. и "похода" на Петергоф 1762 г. по их значимости для судеб Отечества. Подобный программный смысл едва заметно резонирует в частностях, по едкому слову К.-К. Рюльера, "военного туалета" государыни: за важностью идеологических значений риторика поведения (таков был действительный костюм Екатерины), а затем и риторика живописи допустили присутствие в гвардейском декоруме "внештатных" для него ветвей с "древа [Юпитера]". Сведущим в иконологии и "фабульной истории" соподвижникам супруги Петра Ш, одержимым подобно ей "любовью к Отечеству", да и "нейтральным", но "просвещенным" созерцателям происходившего, могло быть известно, что «Любовь к отечеству изображается в мужеском виде, в венце из дубового листа...». По свидетельству самой Екатерины II, остальные "освободители своих сограждан из плена" последовали ее примеру в завершении своего "военного туалета": «...войска украсили дубовыми ветвями фуражки и шляпы - они затоптали ногами все новые одеяния, какия дал им
Петр III». Многозначительность театрализованной процедуры пере-одевания-"преображения" Екатерины, когда «молодая и прекрасная женщина принимала от окружавших ее чиновников шляпу, пшагу и особенно ленту первого в государстве ордена, который сложил с себя муж ее, чтобы вместо него носить всегда прусский»9, необходимо нуждается в проницательном наблюдателе "со стороны", которым и предстает в цитируемых строках Рюльер, тонко "уловивший" мысль-"антитезис" о восстановлении престижа ордена св. Андрея Первозванного в противовес пропрусским "тезисам" Петра III. Двойственным продолжает оставаться определение принадлежности мундира, в котором изображена воплощенная "Любовь к отечеству", к конкретному гвардейскому полку. Ряд исследователей, основываясь, возможно, на сведениях, почерпнутых из трудов А.Г. Брикнера, оригинальном прочтении "Записок" Екатерины II, кн. Дашковой (или иных источников, нам неизвестных) узнают в гвардейском костюме Екатерины II «мундир Преображенского полка».10 Неопределенную, но избавляющую от ошибки трактовку, говоря о «знаменитом полотне "Екатерина II в гвардейском мундире"», предложили О.С. Евангулова и А.А. Карев.11 Но "Записки..." в издании А.С. Суворина (1907 г.) (где Екатерина II следует обычаю века и пишет о себе в третьем лице) повествуют только о том, что «императрица в гвардейском мундире (она объявила себя полковником гвардии) верхом, во главе полков - выступила из города»;12 это нашло отражение и в письме Понятовскому («...я облеклась в гвардейский мундир, приказав объявить себя полковником при неописуемых криках радости» и далее - «... я опять села на лошадь, во главе Преображенского полка...» ). Примечательно, что развивавшая вместе с Екатериной II "идею костюмизации", сама бывшая переодетой участницей последнего в жизни Петра III - петергофского - "маскарада", кн. Дашкова в своих "Записках" прямо указывает лишь на фамилию, но не на определенный полк и сообщает что, «желая переодеться в гвардейский мундир, она (Екатерина П. -В.Г.) взяла его у капитана Талызина, а я, следуя примеру ея, достала себе от лейтенанта Пушкина, - двух молодых офицеров нашего роста».14
Портреты членов царского дома: аллюзии на престолонаследие
Если, действительно, "общее есть у стихов и картин", тогда, кажется, в аспекте предмета изучения общим можно считать это недоумение и нарочитую панегирическую путаницу в уже сформулированном выше вопросе: "Кто же в виде кого пребывает и - соответственно -изображается на портретах XVIII в.?
Известно, что поэтическое "видение ... чудесно" у Державина живописно в буквальном понимании слова: изображение "сошедшей со облаков жены" - царевны Фелицы - походит на рифмованное описание такого памятника русской портретописи эпохи Просвещения, как "Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия" работы Д.Г. Левицкого (начало 1780-х,
Задачи традиционной атрибуции портрета лишь сопутствуют изысканиям по избранному предмету и слишком далеко увели бы нас за рамки настоящего исследования, но все же нельзя не обратить внимания на некоторую, по нашему убеждению, иконологическую разноголосицу в атрибутах, окружающих изображение императрицы. Первоначальная инвенция портрета, замысленная при участии Н.А. Львова , надо полагать, от повтора к повтору - на протяжении 10 лет, с 1780-хх по 1790-е гг.. - могла претерпеть некоторые изменения "прилично обстоятельствам" политического и иного свойства. Чтобы указать на возникающие между вариантами портрета разночтения в иконографии и атрибутике, важно учесть письменное свидетельство самого Левицкого, который в 1783 г. описал свое произведение следующим образом: Середина картины представляет внутренность храма богини Правосудия, перед которой, в виде Законодательницы, ея императорское величество, сжигая на олтаре маковые цветы, жертвует драгоценным своим покоем для общаго покоя. Вместо обыкновенной императорской короны увенчана она лавровым венцом, украшающим гражданскую корону, возложенную на главе ея. Знаки ордена св. Владимира изображают отличность знаменитою за понесенные для пользы отечества труды, коих лежащия у ног Законодательницы книги свидетельствуют истину. Победоносный орел покоится на законах и вооруженный перуном страж рачит о целости оных. В дали видно открытое море, а на развевающемся российском флаге изображенный на во-енном щите Меркуриев жезл означает защищенную торговлю. Ряд вопросов, возникающих при попытке сопоставления литературного описания Левицкого и его же живописной лексики, предполагаемых датировок создания видоизмененных повторов, кажется, не отмечен пока опытами убедительного истолкования. Можно лишь догадываться, почему, к примеру, весьма подробное описание Левицкого, с которым по традиции соотносится вариант портрета 1783 г. из ГРМ, ни слова не упоминает о других орденских знаках - о цепи ордена св. Андрея Первозванного, которая заметна на этой картине. По меньшей мере странным кажется в условиях пиети-ческого отношения русской культуры XVIII в. к различного рода рангам и иерархическим степеням упоминание в тексте художника среди значимых черт портрета ленты младшего по отношению к андреевским регалиям ордена св. Владимира - так сказать, в обход, "не по чину", и при полном замалчивания какого-либо иконологического значения цепи высшего российского ордена для программы портрета, равно и самого факта присутствия андреевской цепи в портрете из Русского музея. Согласно распространенному мнению, именно этот вариант вдохновил Державина на "Видение Мурзы". Однако и "видение" певца Фелицы словно бы следует не означенному портрету 1783 г., а тексту Левицкого: упоминания удостоилась красная с черным окаймлением муаровая "радужная" лента ("Из черноогненна виссона, / Подобный радуге наряд / С плеча десного полосою / Висел на левую бедру"), но ни строки не посвящено регалиям главного ордена.
По всей видимости, исследователь обречен на трудности в истолковании такого рода сумятицы, когда интерпретации подлежат произведения, при сочинении которых комбинаторная свобода в расположении эмблем доходила до механицизма. Но при этом эмблематически "говорящие" иконография и атрибуты - не что иное, как зримые знаки "идей для сочинения картины." Поэтому за изменениями в диспозиции "живоподобий" желательно улавливать метаморфозы в "мыслях" первоначальной инвенции, которая заново редактируется "прилично случаю" (изменившейся ситуации заказа). Тогда, к примеру, инверсия в расположении корабля (внутрикартинное "слева направо" в портрете из ГРМ и противоположное - на варианте ГТГ), то появление (ГРМ), то отсутствие (ГТГ) "Меркуриева жезла"109, смена зубчатой "гражданской короны" (ГРМ) на антикизированную, без зубцов, - все эти обстоятельства заслуживают внимания как вероятные ключи к "чтению" "темных мест" программы портрета. Оценивая содержательность объяснений Левицкого в "Собеседнике...", кажется нелишним принять в рассуждение постулат Б. Грасиана (под актуальным для предмета изучения заглавием: "Хвала проницательному"): «Истины, для нас самые важные, высказываются лишь наполовину, но до чуткого ума они дойдут целиком...».ш
Образ вельможи перед кумиром
Нетрудно догадаться, что отнюдь не райская пристань ожидала, тех, словами А.В. Суворова, "варваров"-янычар, которые, например, терпя реальные поражения от великого русского полководца, ... метафорически проваливались с моста в море, в пучину коего, в свою очередь, их вполне реально погружали А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов и Ф.Ф. Ушаков. Такова подлинная цена величавого "миролюбия" эмблем портрета той, что в одном из вариантов названия данного полотна парадоксально поименована "миротворицей". Говоря по-другому, глядя на атрибуты, не следует слишком доверять глазам своим. Особенно, если зрение "признаком" своим имеет... радугу.
Согласно заявленным намерениям, обобщая опыт наших иконологических штудий на материале наиболее значительных, изощренных в иносказательности памятников отечественной портретописи второй половины XVIII в. - своеобразных "рудников" интертекстуальности, - воспроизведем констатацию А.А. Карева: «Язык парадного портрета по-прежнему остается возвышенно одическим, что сближает его с исторической картиной, однако образная структура его по сравнению с однотипными работами первой половины столетия изменяется прежде всего за счет более естественной трактовки ситуации позирования, более разнообразного и в то же время достаточно отточенного жеста, очень важного для парадного портрета. Усугубляется смысловая нагрузка на предметы и мотивы, сопровождающие портретируемого».
С позиций риторического дискурса подчеркнем, например, что не только в категориях художественного языка парадный портрет XVIII в. сближаем с исторической живописью, но и (что особенно актуально для нашей концепции) в центральной для риторики, в ча по стности - иконической, категории намерения. В этом смысле императив портретной репрезентации заставлял трактовать модель, исходя из понимания ее как "лица исторического"; причем со всеми метафизическими приемами уподобления славным предшественникам - прототипам в истории (священной, фабульной и сравнительно недавних событий). Однако в означенной исторической парадигме, сопряженной с законоправством меры, вкуса и приличий слишком явно воплощать собой легендарного героя древности невозможо без риска сделаться мишенью для острот. И в этом аспекте обретает новое звучание тезис Т.В. Яблонской о костюмированном портрете как "крайнем полюсе аллегорической живописи", если, конечно, принять специфическое толкование костюмного антуража как "гардероба" эмблематически значимого, драпирующего обиняки на сопоставления модели с кумирами иного и этого мира.
Из подобных связей, по нашему убеждению, и складывается панегирический программный текст, восстанавливаемый в упражнениях "обратного перевода". И если на протяжении XVIII в. ужесточаются нормативные эстетические требования все большего "натуроподобия" и всяческой естественности в трактовке ситуации позирования, тогда совершенно закономерным выглядит неуклонный (до начала XIX в.) рост иконологического престижа "отточенного" -сродни самому остроумию эпохи - жеста. Ради сохранения семиотической глубины в условиях возлелеянной классицистами внешней "благородной простоты" образа совершенствованию в способности как можно более ненавязчиво "изображать идеи" подлежали в портрете и мотивы предметной обстановки, вернее, все эмблемы, изображенные "под предмет из действительности".
В русле исследовательского интереса знаменательна общеевропейская (затронувшая и Россию) практика постепенного "вытеснения" из картинного пространства персонификаций отвлеченных понятий в виде живых людей и "перевод" этих антропоморфных "заочных" персонажей в более приемлемый для взыскующего правду натуры сознания людей эпохи Просвещения материал объемной пластики. Показательно, к примеру, что написанному И.-Б. Лампи Старшим "Портрету Екатерины II с фигурами Истории и Хроноса" (1792, ГРМ, эскиз) еще "приличны" одушевленные персонификации с книгой и косой, однако в 1793 г. этот же художник при создании "Портрета Екатерины II с аллегорическими фигурами Истины и Силы (Крепости)" (1792-1793, ГЭ) счел нужным представить данные идеи уже в бронзе и камне, каковы изображения льва и женской фигуры с колонной.206 Подобные метаморфозы "монументализации" аллегорических персонажей явственно не чужды целям эпохи Просвещения, которая в своем настойчивом программном устремлении к "древним добродетелям" стремилась к «чувственно-конкретному, археологически-точному оживлению античности».207
К этим устремлениям, что хотелось показать выше, примыкают иконологические приемы изобразительной риторики, содействующие репрезентации портретной модели как самоизваяния - некой "духовной статуи", изображающей собой не только себя (но -намеками - Фемиду, Минерву, Георгия Победоносца, атрибуты языческих божеств и христианских святых...). Кажется, есть возможность указать на редчайший пример представления модели в образе, комплиментарно для последней отводящем аллюзии на кого-либо еще, утверждающем идеи самодовления (самодостаточности), или, по пушкинскому слову, "самостояния", что потенциально чревато риторическими намерением уподобить портретируемого "Божеству".