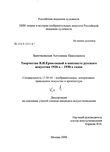Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Надо двинуть вперед искусство...» 7
Глава П. «Героический реализм» и «героический сервилизм» 40
Глава III. «Вуаль реализма» или кому принадлежит искусство» 70
Глава IV. Кто не с нами, тот против нас 148
Глава V. Апофеоз героизма 161
Заключение 170
Примечания 174
Библиография 206
- «Надо двинуть вперед искусство...»
- «Героический реализм» и «героический сервилизм»
- «Вуаль реализма» или кому принадлежит искусство»
- Кто не с нами, тот против нас
Введение к работе
Казалось бы, советское искусство периода 1920-1930-х годов превосходно изучено. До нас дошла масса документов, картин и скульптур, фотографий и журналов, монографий и опубликованных исследований. Тем-не менее, до сих пор ученому сообществу не была предъявлена работа, достаточно полно освещающая вопрос возникновения и функций героя в советском изобразительном искусстве. Между тем, эта проблема является одной из центральных для отечественного искусства 1920-х-1930-х годов. После Октябрьской революции преобразилась не только политическая: система -серьезным изменениям подверглись все области культуры. В течение ряда послереволюционных лет тысячи художников, литераторов, критиков и -политиков были вплотную заняты вопросами создания нового искусства, поисками адекватного отражения героического в контексте мятежной эпохи, а также формированием и выработкой универсального соцреалистического канона.
На примере изменяющегося подхода к изображению героя и героического в искусстве достаточно ясно предстает процесс модификации художественных систем, повлиявших на развитие той или иной культурной парадигмы. Именно понятия «герой» и «героическое» оказались в фокусе пристального внимания и «левых» художников-экспериментаторов, и реалистов, выступающих за литературную ясность сюжета. Целые «подразделения» теоретиков, пытающихся найти логическое обоснование советской доблести, стремились зарегистрировать постоянно трансформирующийся образ героя своего времени. «Героическое» явилось своеобразной точкой схода, фиксирующей социальную идентификацию населения, позволяющее массам ориентироваться и развиваться соответственно тому или иному сценарию. Таким образом, роль героя в искусстве стала необычайно важной и даже системообразующей.
Первые герои в советском искусстве появились сразу же после революции, словно бы подтверждая своим присутствием разрыв с существовавшей раннее традицией и наступление нового этапа. Однако, та невнятная и
неаргументированная классификация героического, что была принята в советском искусствознании, начиная со времен развитого соцреализма, вне всякого сомнения, нуждалась в переосмыслении и новой интерпретации. Предпринятая попытка взглянуть по-новому на наследие советского искусства достаточно наглядно демонстрирует стремление представить проблему героического с иных, аналитических позиций.
Отдельные вопросы, определенным образом связанные с вышеозначенной темой* были затронуты в- статьях- и- монографиях- художников и политиков, искусствоведов и литературоведов, социологов и драматургов, киноведов и историков. В частности здесь необходимо сослаться на работы: Л.И.Морозова (1995), И.Н. Голомштока (1994), В.З.Паперного (1996), Л.В.Максименкова (1997), Ш.Плаггенборга (2000), М.А.Чегодаевой (2001 и 2003), А.Д. Синявского (1967 и 2001), К.Кларк (2000 и 2002), Е.Добренко (1993), Х.Гюнтера (1994 и 2000), М.СЛебедянского (1999), К. Аймермахера (1998), Т.Дашковой (1999) и Б.Гройса (1993). Тем не менее, говорить о полной изученности темы «Герой и героическое в советском искусстве 1920-1930-х годов» было бы весьма опрометчиво, поскольку до сих пор никто данным вопросом систематически и серьезно не занимался, а сама тема не была изучена монографически;
Фактически, до настоящего времени не существовало исчерпывающего научного труда, анализирующего полный спектр разносторонних проблем, связанных с феноменом героя и героического в советском искусстве описываемого периода. Этим и определяется актуальность и научный интерес данного исследования, призванного восполнить пробелы в описании роли героя и героического в советском искусстве.
В диссертации рассматривается возникновение, развитие и метаморфозы образа героя, а также трансформация и отражение понятия героического = в советском искусстве 1920-х - 1930-х годов, начиная с первых послереволюционных лет. В центре внимания оказывается творчество художников-авангардистов (ВЛебедева, В.Козлинского, Н.Альтмана), художников Ассоциации Художников Революционной России (АХРР), художников объединения ОСТ, а также целого ряда существовавших авторов и художников, творивших в 1930-е годы в рамках соцреалистической традиции.
4 Целью диссертации является анализ возникновения и закономерностей формирования того или иного типа героя в конкретный исторический отрезок времени, а также выявление системы ролеобразующих связей, благодаря^ которым и осуществлялось успешное функционирование той или иной парадигмы. В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи:
1) Обозначить идеологические предпосылки появления нового типа героя, его
становления и последующего развития.
Определить место, роль итипологиютерояигероического в идеологическом и культурном контексте того времени.
Показать основополагающие направления мутации художественных форм в рамках советского искусства описываемого периода..
4) Исследовать взаимосвязи советского искусства и: а) предшествующей
традиции б) литературы в) партийных директив
5) Тщательно проанализировать специфику, закономерности и принципы работы
механизмов, призванных обеспечить эффективность художественного
воздействия на широкие массы.
На защиту выносятся следующие положения:
Создание к середине 1930-х годов канонического образа советского героя и понятия героического в советском искусстве были обусловлены, с одной стороны, установками партийной программы, приведшей в итоге к созданию социалистического реализма. С другой стороны - деятельностью литераторов, всячески развивавших и пропагандировавших в своем творчестве решения ВКП(б). И, наконец, конкретными историческими событиями, также повлиявшими на последующее претворение в жизнь культурных и социальных теорий.
Окончательно отказавшись от модернистской культурной модели к началу 1930-х годов, советское искусство начало реализовывать агитационно-пропагандистские задачи, обращаясь при этом к художественному языку, некогда разработанному в Академии Художеств, и наследию передвижников одновременно.
3) Специфика художественного изображения идеологизированного героя и
героического сводилась к созданию моментально идентифицируемого образа
5 или типичной ситуации, соответствующих ожидаемому результату. А именно -показу сочетания героического и типического.
Методологической основой изыскания является комбинированный тип искусствоведческого, исторического, культурологического и типологического подходов к теме исследования.
Теоретическую и методологическую базу диссертации составили положения, обозначенные в трудах Л.И. Морозова, И.Н. Голомштока, М.А. Чегодаевой, К. Кларку Л.В: Максименкова и Ш: Плаггенборга.
Роль источников сыграли многочисленные теоретические статьи, посвященные проблемам изобразительного искусства в специализированных журналах, каталогах, газетах, альманахах и сборниках начиная с 1918 года и заканчивая 1940 годом. Здесь следует назвать следующие издания: «Художник и зритель», «Искусство», «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ», «Бригада художников», «Искусство в массы», «Творчество», «Советское фото», «Революция и культура», «Печать и революция», «Красная новь», «На литературном посту», «Литературный критик», «Правда», «Известия». Также были изучены мемуары современников, записки и автобиографии художников, письма и воспоминания их родственников. Помимо этого, был исследован целый ряд исторических документов, опубликованных на страницах различных изданий, в том числе многочисленные партийные директивы. Дополнительно следует указать и на некоторые литературные тексты, оказавшиеся крайне важными для осмысления темы диссертации. Речь идет о: «Песне о Соколе» (1899), «Песне о Буревестнике» (1901), «Человеке» (1906), романе «Мать» (1907) А.М.Горького, «Цементе» (1925) Ф.Гладкова, «Как закалялась сталь» (1934) Н.Островского, «Железном потоке» (1924) А.Серафимовича, «Чапаеве» (1923) Д.Фурманова, «Разгроме» (1927) А.Фадеева, «Педагогической поэме» (1935) А.Макаренко. Среди воспоминаний художников можно выделить: «Записки скульптора» С.Д. Меркурова (1953), «Моя жизнь» И.Э.Грабаря (1937), «Автомонография» Ф.Богородского (1938), «Я очень люблю жизнь» С.А. Лучишкина (1988), «Из моей творческой практики» А.Дейнеки (1961). Кроме того, внимательного анализа заслуживают следующие публикации: «О старом и новом человеке», «Поколение героев», «Пролетарская ненависть», «О социалистическом
реализме» А.М.Горького, «Рождение героя» (1931) и «Героика масс и оптимизм борьбы» (1934) Е. Добина, «О показе героев и призыве ударников» (1931) Ю.Либединского, «Герой советского романа» И.Гринберга (1938), «Молодость» (1938) З.Кедриной, «Показ героев труда - генеральная тема пролетарской литературы» (1931) И. Макарьева, «О героизме и литературе» (1938) Р.Варта, «Героика, воплощенная в снимках» (1934) Л. Межеричера. Полный список литературы приведен в разделе «Библиография».
Практическая- значимость исследования заключается в аналитическом осмыслении малоизученных проблем современного искусствознания. Итоги и выводы данного изыскания могут быть использованы при подготовке лекционных курсов по истории советского искусства 1920-х - 1930-х годов и проведении спецкурсов и спецсеминаров по искусству XX века. Выводы диссертации представляют интерес для исследователей отечественного искусства и культурологов и могут быть полезны при изучении соответствующей проблематики.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы.
«Надо двинуть вперед искусство...»
К началу 1920-х годов формирование канонического образа советского героя еще не свершилось окончательно. Первые проявления художественных экспериментов отличались разрешенным и даже как будто поощряемым новой властью программным плюрализмом. В 1918 году нарком просвещения А.В.Луначарский в своей статье «Ложка противоядия» писал о том, что «комиссариат Просвещения должен быть беспристрастным в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопросов формы - вкус Народного Комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам! Не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной славой, либо модным успехом!».
Деятельность художников, с оптимизмом принявших революцию, подверглась достаточно подробному документированию и изучению. Вот как, спустя несколько лет после революции, описывал те времена А.В.Луначарский: «Владимир Ильич позвал меня и заявил мне, что надо двинуть вперед искусство, как агитационное средство, при этом он изложил два проекта. Во-первых, по его мнению, надо было украсить здания, заборы и т.п. места, где обыкновенно бывают афиши, большими революционными надписями. Некоторые из них он сейчас же предложил».
В самом начале 1918 года, благодаря стараниям новых властей был учрежден Отдел изобразительных искусств Наркомпроса. Главой отдела особым постановлением Художественной коллегии Наркомпроса был назначен художник Давид Штеренберг. Были созданы две арт-коллегии - Московская и Петроградская. В Московскую коллегию вошли художники Казимир Малевич, Владимир Татлин, Василий Кандинский, Илья Машков, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, а в Петроградскую - Натан Альтман, Владимир Маяковский, Николай Пунин, Осип Брик, Сергей Чехонин и др.4 Сейчас вполне закономерным может представляться вопрос: почему именно эти персоналии оказались на подобных ролях в контексте соответствующих революционных преобразований? Пожалуй, наиболее адекватно это положение вчерашних маргиналов прокомментировал небезызвестный критик того времени и впоследствии борец с лефовскими теориями В.П.Полонский5. В юбилейном (1927 года) номережурнала «Печать и революция» он писал: «Объявив войну классикам, восстав против власти старых ценностей, разрушая признанные каноны, революционизируя поэтические формы, футуризм привлек в свои ряды не только новаторов, ощущавших костенеющую мертвенность буржуазных эстетических форм. Он привлекал к себе недовольных вообще, непризнанных, оскорбленных, неудовлетворенных. Возникши в литературных кабачках и кафе, вне буржуазных салонов и редакций, футуризм вобрал в себя наиболее революционные элементы литературной богемы. Он сделался ее вождем, головным отрядом, буйным, дерзким, скандальным. Пафос новаторства, презрение к старым кумирам, ненависть к литературной аристократии — все это создавало в футуристической среде почву, благоприятную для усвоения революционной политической и экономической программы. По мнению Полонского это была «группировка, самая угнетенная в буржуазном обществе; она ничего не имела в настоящем и мечтала все получить в будущем. Ей нечего было терять, приобрести же она могла много. Оттого-то с первых дней Октября русский футуризм оказался на стороне революционной власти. А так как власть нуждалась в организаторах и руководителях первого разрушительного периода работы, эта роль естественно оказалась в руках футуризма. Из подвалов богемы русские футуристы перенеслись в роскошные залы академий».
Продемонстрировав свою лояльность, приняв революцию и получив полномочия, «левые» художники, преисполненные ненавистью к прошлому, получили не просто психологическую компенсацию, но и определенные авансы от власти. Однако, не желая воспроизводить новые, лишенные какой бы то ни было рефлексии очередные «тиражные» копии с «природы», футуристы занялись разрешением иных проблем: I. «Задача искусства - делать новые невиданные вещи. Художники должны идти на фабрики и заводы для творческой работы. Рабочие их ждут. И. Футуризм - идеология пролетариата. III. Футуризм и есть пролетарское искусство».
Так или иначе, но среди оформителей площадей и улиц Петрограда к первой годовщине революции были такие «левые» художники как Натан Альтман, Давид Штеренберг, Владимир Лебедев, а также А.Карев, В.Козлинский, К.Богуславская; С.Приселков и многие-другие: Тогда же в качестве новых героев в искусстве со всей очевидностью проявляются образы крестьян и рабочих, и возникает термин «герои труда».8 Особенной альтернативы здесь и не могло быть, ибо кто, кроме гегемонов революции мог удостоиться чести стать примером для подражания? Пожалуй, лишь особые авторитеты, чья жизнь и борьба могли послужить поводом для дальнейших размышлений.
«Героический реализм» и «героический сервилизм»
К началу 1920-х годов формирование канонического образа советского героя еще не свершилось окончательно. Первые проявления художественных экспериментов отличались разрешенным и даже как будто поощряемым новой властью программным плюрализмом. В 1918 году нарком просвещения А.В.Луначарский в своей статье «Ложка противоядия» писал о том, что «комиссариат Просвещения должен быть беспристрастным в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопросов формы - вкус Народного Комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам! Не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной славой, либо модным успехом!».
Деятельность художников, с оптимизмом принявших революцию, подверглась достаточно подробному документированию и изучению. Вот как, спустя несколько лет после революции, описывал те времена А.В.Луначарский: «Владимир Ильич позвал меня и заявил мне, что надо двинуть вперед искусство, как агитационное средство, при этом он изложил два проекта. Во-первых, по его мнению, надо было украсить здания, заборы и т.п. места, где обыкновенно бывают афиши, большими революционными надписями. Некоторые из них он сейчас же предложил».
В самом начале 1918 года, благодаря стараниям новых властей был учрежден Отдел изобразительных искусств Наркомпроса. Главой отдела особым постановлением Художественной коллегии Наркомпроса был назначен художник Давид Штеренберг. Были созданы две арт-коллегии - Московская и Петроградская. В Московскую коллегию вошли художники Казимир Малевич, Владимир Татлин, Василий Кандинский, Илья Машков, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, а в Петроградскую - Натан Альтман, Владимир Маяковский, Николай Пунин, Осип Брик, Сергей Чехонин и др.4 Сейчас вполне закономерным может представляться вопрос: почему именно эти персоналии оказались на подобных ролях в контексте соответствующих революционных преобразований? Пожалуй, наиболее адекватно это положение вчерашних маргиналов прокомментировал небезызвестный критик того времени и впоследствии борец с лефовскими теориями В.П.Полонский5. В юбилейном (1927 года) номережурнала «Печать и революция» он писал: «Объявив войну классикам, восстав против власти старых ценностей, разрушая признанные каноны, революционизируя поэтические формы, футуризм привлек в свои ряды не только новаторов, ощущавших костенеющую мертвенность буржуазных эстетических форм. Он привлекал к себе недовольных вообще, непризнанных, оскорбленных, неудовлетворенных. Возникши в литературных кабачках и кафе, вне буржуазных салонов и редакций, футуризм вобрал в себя наиболее революционные элементы литературной богемы. Он сделался ее вождем, головным отрядом, буйным, дерзким, скандальным. Пафос новаторства, презрение к старым кумирам, ненависть к литературной аристократии — все это создавало в футуристической среде почву, благоприятную для усвоения революционной политической и экономической программы. По мнению Полонского это была «группировка, самая угнетенная в буржуазном обществе; она ничего не имела в настоящем и мечтала все получить в будущем. Ей нечего было терять, приобрести же она могла много. Оттого-то с первых дней Октября русский футуризм оказался на стороне революционной власти. А так как власть нуждалась в организаторах и руководителях первого разрушительного периода работы, эта роль естественно оказалась в руках футуризма. Из подвалов богемы русские футуристы перенеслись в роскошные залы академий».
Продемонстрировав свою лояльность, приняв революцию и получив полномочия, «левые» художники, преисполненные ненавистью к прошлому, получили не просто психологическую компенсацию, но и определенные авансы от власти. Однако, не желая воспроизводить новые, лишенные какой бы то ни было рефлексии очередные «тиражные» копии с «природы», футуристы занялись разрешением иных проблем: I. «Задача искусства - делать новые невиданные вещи. Художники должны идти на фабрики и заводы для творческой работы. Рабочие их ждут. И. Футуризм - идеология пролетариата. III. Футуризм и есть пролетарское искусство».
Так или иначе, но среди оформителей площадей и улиц Петрограда к первой годовщине революции были такие «левые» художники как Натан Альтман, Давид Штеренберг, Владимир Лебедев, а также А.Карев, В.Козлинский, К.Богуславская; С.Приселков и многие-другие: Тогда же в качестве новых героев в искусстве со всей очевидностью проявляются образы крестьян и рабочих, и возникает термин «герои труда».8 Особенной альтернативы здесь и не могло быть, ибо кто, кроме гегемонов революции мог удостоиться чести стать примером для подражания? Пожалуй, лишь особые авторитеты, чья жизнь и борьба могли послужить поводом для дальнейших размышлений.
«Вуаль реализма» или кому принадлежит искусство»
Литературный труд после революции был напрямую связан с проблемой создания/формирования т.н. «нового человека» на руинах мутирующего государства. «В основу отбора «новых людей» с самого начала был положен классовый принцип. «Новый человек» понимался и трактовался как живое следствие особой, классовой природы пролетариата и отчасти крестьянства. На этой социальной базе он и должен был возникнуть. Притом возникнуть не в виде каких-то отдельных личностей, но в массовом проявлении».163 Большевики относились очень серьезно к этой теме, соответственно и выпуск той или иной печатной продукции был обусловлен целым рядом политических и социальных причин. Только в 1919 году Красная Армия получила 23 миллиона экземпляров разнообразной литературы, не считая листовок, воззваний и тому подобных брошюр. В 1924 году в СССР уже выходило 1120 всевозможных газет тиражом в 8,.1 млн. экземпляров. Тираж «Правды» в 1925 году превышал полмиллиона экземпляров. В 1932 году в стране насчитывалось уже 7 536 газет. Аналогичным образом дело обстояло и с книгами. Так, в течение 1932 г. в СССР вышло 50 973 наименований книг. Довольно оживленно функционировали библиотеки (в том числе передвижные), а также избы-читальни.
Согласно авторитетному мнению ряда исследователей, уже с начала 1920-х гг. в художественной литературе начался поиск новых методов создания художественных образов отдельных ярких образцовых персонажей.165 И здесь просто невозможно пройти мимо упоминания о романе Дмитрия Фурманова «Чапаев» (1923).
«Чапаев» был создан на основе реальных фактов. Как известно, Фурманов служил комиссаром в частях, которыми командовал легендарный Василий Иванович (1887-1919). В романе уделено много места не только персоне комдива, но и различным событиям 1919 года, историческим зарисовкам (например «Пилюгинский бой»), а также «проблемам нового бойца». «К литературе нельзя относиться мистически - это орудие борьбы» - говорил Фурманов.166 На страницах его романа были сопоставлены два типа красных командиров - Клычков и Чапаев. Клычков на-протяжении всей книги ведет с собой внутренний диалог относительно личности и роли Чапаева. Далеко не сразу осторожный Федор Клычков начинает испытывать к экспансивному Чапаеву душевное расположение, не отягощенное рефлексией. «Чапаев - герой, - рассуждал Федор с собою. - Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия...черт ее знает, куда она может обернуться! Бывали у нас случаи (разве мало их было?), что такой же вот славный командир, вроде Чапаева, а вдруг и укокошит своего комиссараГДа не какого-нибудь прощелыгу, болтунишку и труса, а отличного, мужественного революционера! А то, глядишь, и вовсе уйдет к белым со своим «стихийным» отрядом...
Рабочие —там другое дело: они не уйдут никогда, ни при какой обстановке, то есть те из них, что сознательно вышли на борьбу. Ясное дело, что и среди рабочих есть вчерашние крестьяне, есть и малосознательные, есть и «слишком» сознательные, ставшие белоручками... Но там, там сразу увидишь, с кем имеешь дело. А в этой вот чапаевской партизанской удали - ой; как много в ней опасного!».
На протяжении всего повествования Клычков постоянно размышляет на тему: является ли реальный Чапаев героем? «Эта тема имеет свою заданность, свое априорное решение - во что бы то ни стало Клычков хочет доказать, что Чапаев не герой. Героизм ассоциируется в его сознании со «сверхчеловеческим». Активное участие масс в революции и желание раскрыть ее народный характер — все это требовало, на взгляд Клычкова, полемики с легендой, со старым народническим представлением о герое и толпе». 68
Как бы то ни было, но после выхода в свет книга Фурманова стала сразу же чрезвычайно востребованной и популярной. За три года, разделяющие первую публикацию романа и смерть писателя (Фурманов умер в марте 1926 г.), «Чапаев» выдержал три издания, не считая бесчисленных перепечаток отдельных фрагментов в периодике.169 Писателем был создан аттрактивный и убедительный образ бесстрашного и несгибаемого бескомпромиссного советского воина, хотя и погибшего в процессе напряженного противостояния врагам, но, тем не менее, ни на секунду не усомнившегося в своей новой вере. Последний подвиг фистового кавалериста явился закономерным финалом его безукоризненной биографии.
В.И.Чапаев родился в бедной крестьянской семье, участвовал в 1-й мировой войне, в течение которой был награжден тремя георгиевскими крестами. В 1917 году Чапаев вступил в ряды компартии, затем был назначен командиром пехотного полка. В 1918 году он стал комиссаром внутренних дел Николаевского уезда. В том же году Чапаев сформировал красногвардейский отряд," подавляя кулацко-эсеровские мятежи. В 1919 году Чапаев уже руководил Особой Александрово-Гайской бригадой, затем командовал 25-й стрелковой дивизией, отличившейся во время контрнаступления на войска Колчака. После ночного рейда белогвардейцев на штаб дивизии в Лбищенске и неравного боя, Чапаев, израсходовав все патроны, пытался переплыть реку Урал, но погиб, сраженный пулей неприятеля.
По словам Фурманова: «Его славу, как пух, разносили по степям и за степями те сотни и тысячи бойцов, которые тоже слышали от других, верили этому услышанному, восторгались им, разукрашивали и дополняли от себя и своим вымыслом - несли дальше. А спросите их, этих глашатаев чапаевской славы, - и большинство не знает никаких дел его, не знает его самого, ни одного не знает достоверного факта... Так-то складываются легенды о героях. Так сложились легенды и о Чапаеве».
Кто не с нами, тот против нас
В 1936 году в Москве вышла из печати книга Анри Барбюса «Сталин». После разделов с заглавиями: «Революционер царского времени», «Гигант» и «Железная рука» следовала многообещающая глава под названием «Война с паразитической оппозицией». В ней со всей возможной очевидностью речь шла о главном предателе и враге молодого советского государства - Л. Д. Троцком. Общеизвестно, что вскоре после смерти Ленина конкурентоспособный Троцкий был нейтрализован Сталиным, ославлен и депортирован из страны. В 1928 году Троцкий был сослан в Алма-Ату, а в 1929 его обвинили в антисоветской деятельности, после чего он был изгнан из СССР. Спустя некоторое время, в 1932 году Троцкий был лишен советского гражданства. Долгие десятилетия Троцкий оставался главным врагом советского народа, сочетая роли «Иуды» и «козла отпущения» с миссией диверсанта. Его обвиняли в шпионаже, организации убийств, терроризме, вредительстве и т.д.
В книге Барбюса Троцкий представал средоточием всех бед, классическим антагонистом Сталина. По словам Барбюса, враждебность Троцкого была «до некоторой степени связана со всем складом его характера, с его нетерпимостью ко всякой критике... с его недовольством, что первое место не принадлежит ему нераздельно». Далее, в версии Барбюса, абсолютно по ветхозаветному «сценарию» (Каин-Авель), зависть заставила неудовлетворенного своим положением и источающего злобу, властолюбивого Троцкого плести интриги и порочить светлое имя и учение (т.е. заповеди) Ленина («Отца»). «Его злоба, естественно, находит самое сильное свое оружие в арсенале идеологии»/ Барбюс выразил не только принятое официальное мнение, но и по-своему сгустил краски. Так, в противовес неважному оратору Сталину, Троцкий «слишком любит говорить. Он опьяняется звуками собственного голоса. «Он декламирует даже с глазу на глаз, даже наедине с самим собой»...«Он пугается. Он всегда пугался»...«Из той же трусости он свирепеет, впадает в горячечные припадки левачества. Чтобы понять Троцкого, необходимо сквозь припадки ярости видеть его бессилие».342 Соответственно, Троцкий выступает у Барбюса как самовлюбленный, ни в чем не уверенный злокозненный невропат. В своей «Морфологии волшебной сказки» В.Я.Пропп превосходно описал аналогичный драматургический м( ханизм.
Итак, в какой-то момент развития сюжета в дело вступает «новое лицо, которое может быть названо антагонистом героя (вредителем). Его роль -нарушить покой счастливого семейства, вызвать какую-либо беду, нанести вред, ущерб». Затем, после ряда зловещих манипуляций «антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом». Для этого «прежде всего антагонист или вредитель принимает чужой облик»... «Вредитель, действует путем уговоров...», а также «действует иными средствами обмана или насилия». Мы тоже, со слов Барбюса уже знаем о способности Троцкого втираться в доверие к членам сталинской «большой семьи», умении маскироваться и наводить своими речами подобие гипнотического транса.343 Так, в рамках советской традиции было принято считать, что уже в 1924 году в своей статье «Уроки Октября» Троцкий извратил историю большевизма, намереваясь подменить ленинизм троцкизмом и стремясь захватить впоследствии ЦК в свои руки.
Далее, в схеме Проппа выявляется еще один «вираж»: «умирающий или умерший просит оказать услугу. Эта форма иногда также принимает характер испытания. Корова просит: «Не ешь моего мяса, косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай, каждое утро водой их поливай». Здесь с полным основанием можно вспомнить наследие Ленина и сталинскую клятву продолжить ленинские начинания. Само собой, Сталин оказывает услугу умирающему вождю мирового пролетариата.
Затем у Проппа «герой спасается от покушения на него, применяя средства враждебного существа к нему самому», «герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу». Далее «герой во время боя получает рану».345 В связи с этим однозначно приходит на ум «предательское» убийство С.М.Кирова. После убийства Кирова 1 декабря 1934 года Л.Николаевым уже 4 декабря газеты сообщили об аресте тридцати семи белогвардейцев (!), тайно проникнувших для этой цели в страну. Потом выяснилось, что помимо этого виновны еще 30 бывших «зиновьевцев» и члены «московского центра» (19 человек) во главе с Зиновьевым и Каменевым.346 Обвинения «троцкистского охвостья» в неподдающихся исчислению попытках покушения на Сталина всем хорошо знакомы по громким процессам, печальный финал жизни Троцкого также известен.
В конце концов, главный герой (Сталин) одерживал над врагами триумфальную победу. Таким образом, по словам Барбюса, «великий человек — это тот, кто, предвидя ход событий; не следует за ним, но опережает его и заранее действует против него или способствует ему. Герой не выдумывает неведомую землю,-— он открывает ее: Он умеет вызывать широкие движения масс — и все же эти движения остаются непосредственными: ибо ему ведомы причины. Правильно применяемая диалектика раскрывает все содержание человека и событий. При всех великих исторических событиях великий человек необходим, как организующая сила. Ленин и Сталин не создали историю, — они рационализировали ее. Они приблизили будущее».347
В 1930-е годы шпиономания и поиски врагов достигли невиданных масштабов. Малоэффективная политика в области промышленности и сельского хозяйства способствовала поискам виноватых. Лион Фейхтвангер писал о том, что «население охватил настоящий психоз вредительства. Привыкли объяснять вредительством все, что не клеилось, в то время как значительная часть неудач должна была быть наверное просто отнесена за счет неумения...Собрания, политические речи, дискуссии, вечера в клубах - все это похоже, как две капли воды, друг на друга, а политическая терминология во всем обширном государстве сшита на одну мерку».348 Побывав на громких процессах, Фейхтвангер испытал потрясение. В своей книге он недоуменно вопрошал: «Почему они не защищаются, как делают это обычно все обвиняемые перед судом? Почему, если они даже изобличены, они не пытаются привести в свое оправдание смягчающие обстоятельства, а, наоборот, все больше отягчают свое: положение? Почему, раз они верят в теории Троцкого, они, эти революционеры и идеологи, не выступают открыто на стороне своего вождя и его теорий? Почему они не превозносят теперь, выступая в последний раз перед массами, свои дела, которые они ведь должны были бы считать похватьными? Наконец, можно представить, что из числа этих семнадцати один, два или четыре могли смириться. Но все - навряд ли». Любопытно, что враги «плодились» прямо пропорционально ужесточению политики. Помимо того, что выявленный вредитель становился олицетворением всех зол и возможных грехов, он еще и эффектно подчеркивал добродетели подлинных героев. В 1934 году ответственный секретарь ССП СССР А.С.Щербаков, анализируя роман А.О.Авдеенко «Столица», и изданный позже (в 1936 году) под названием «Судьба», писал: «Фронт врагов на строительной площадке представлен куда более ярко и выпукло. Тут есть прямые агенты иностранного капиталагфилиал мощной организации вредителей; опутавшей своими сетями как центральные учреждения, так и стройку; белогвардейские агенты, опирающиеся на контрреволюционное казачество и кулаков; инертная, полувраждебная масса строителей — все это часто показано ярко, выпукло». В противовес героям враги-вредители обладали неуместным скептицизмом и ненавистью к социалистическому строю. Иногда они скучали по темному прошлому и тогда, зачастую уже в конце 30-х гг., вдруг появлялись какие-то недобитые белогвардейцы-реваншисты. Коллективным интересам врагами были противопоставлены личные, оптимизму - пессимизм и мизантропия, собранности воли - стремление к разрушению, открытости — ограниченность духовного мира и т.д.