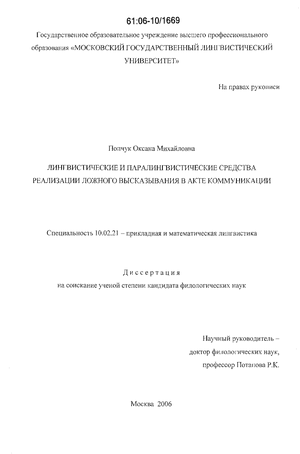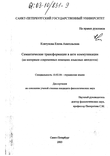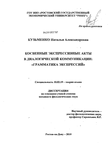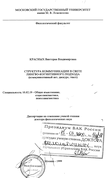Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Система человеческого общения как синтез вербальной и невербальной коммуникации 16
1.1 Социальная коммуникация как один из смысловых типов коммуникации. Уровни речевой коммуникации. "Коммуникация" и "общение" 16
1.2 Коммуникативные теории: теория речевой деятельности и теория речевых актов 20
1.2.1 Структурная организация и предметное содержание речевой деятельности. Говорение как один из видов речевой деятельности 21
1.2.2 Речевые акты. Понятия "искренность" и "неискренность" в теории речевых актов 27
1.3 Паралингвистические средства и их функции в речевой коммуникации 34
1.4 Эмоции и их роль в коммуникации 53
1.5 Прагматический аспект и модели коммуникации 68
1.6 Высказывание как продукт деятельности говорения и как коммуникативная единица. Понятие «ложное высказывание» 77
1.7 Выводы 82
Глава II. Категория «ложь» как объект междисциплинарного исследования 84
2.1 Понятия «истина», «правда» и «ложь» в философии 84
2.2 Лингвистический аспект проблемы лжи 94
2.3 Ложь с позиции психологических наук , 101
2.3.1 «Узкое» и «широкое» понимание лжи в психологии. Типология лжи 101
2.3.2 Мотивация сообщения ложных сведений 107
2.3.3 Особенности мыслительной деятельности при реализации ложного высказывания 115
2.3.4 Полиграфическое тестирование 118
2.3.5 Ложь и эмоции 120
2.3.6 Психолингвистические методы анализа речевых высказываний 139
2.4 Выводы 148
Глава 3. Ложное высказывание как средство косвенного отказа в праве на получение полноценной информации в художественной коммуникации 152
3.1 "Теория права" в коммуникации. Отражение теории в художественной коммуникации. Метод и материал исследования 152
3.2 Средства прямого, косвенного и потенциального отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой, Типы высказываний, передающих неполноценную информацию 174
3.3 Приемы речевого воздействия 189
3.4 Лингвистические и паралингвистические средства реализации ложного высказывания и других средств косвенного отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой 208
3.5 Выводы 223
Заключение 225
Список литературы 232
- Структурная организация и предметное содержание речевой деятельности. Говорение как один из видов речевой деятельности
- Прагматический аспект и модели коммуникации
- Лингвистический аспект проблемы лжи
- Средства прямого, косвенного и потенциального отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой, Типы высказываний, передающих неполноценную информацию
Введение к работе
Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению особенностей функционирования лингвистических и паралингвисшческих средств реализации ложного высказывания в коммуникативном акте. Ложное высказывание рассматривается при этом как компонент системы средств отказа партнеру по коммуникации в праве на получение полноценной информации/информации как таковой, что позволяет описать лингвистический и паралингвистический «портрет» не только говорящего, реализующего ложное высказывание, но и несколько тире - «портрет» говорящего (по Р.К. Потаповой), использующего различные средства отказа в праве на получение полноцепной информации/информации как таковой, одним из которых является ложное высказывание.
Несмотря на попытки регулирования процесса человеческого общения [Кант 1994, 1995; Lakoff 1973; Грайс 1985; Гордон, Лакофф 1985 и др.], ложь продолжает оставаться феноменом речевой коммуникации. Человек реализует ложное высказывание как в социально порицаемых, так и в социально приемлемых целях. Современные исследования показывают, что существует довольно широкий диапазон ситуаций, в которых ложь, согласно мнению большинства людей, является допустимой [Доценко 2000; Дубровский 1994; Знаков 1999; Щербатых 2000; Жиляев 2002]. По мнению П. Экмаиа, «ложь настолько естественна, что ее без обиняков можно отнести почти ко всем сферам человеческой деятельности» [Экман 2000: 18]. Проявление лжи и обмана наблюдается в различных областях социальной жизни человека: политике, бизнесе, военном искусстве, спорте, медицине и т.д. Поэтому, как считает Д. И. Дубровский, «любые попытки исключить их из нашей жизни являются утопичными, психологически неверными и бесперспективными» [Дубровский 1994:9].
Продолжая оставаться феноменом человеческого общения, ложь не может не являться объектом научного исследования. Сложность и
5 многоаспектность феномена лжи не позволяет рассматривать ложное высказывание только как объект лингвистического исследования, данное языковое и околоязыковое пространство по праву изучается и психологическими науками. Проблема истины / лжи входит в круг актуальных задач логики и юриспруденции. Кроме того, принадлежность лжи к философско-этическим категориям делает ее объектом философских исследований.
Несмотря на синонимичное употребление глаголов лгать, врать, обманывать, а также существительных неправда, ложь, вранье в реальном речевом общении, ученые все же пытаются разграничить данные понятия. Так, в психологии выделяют три признака, на основании которых можно судить о сходстве и различии лжи и ее основных смежных понятий -неправды и обмана. Данными признаками являются: фактическая истинность / ложность утверждения; вера говорящего в истинность / ложность утверждения; наличие / отсутствие у говорящего намерения ввести в заблуждение слушающего [Strichartz A.F., Burton R.V. 1990; Coleman L., Kay P. 1981; Знаков В.В. 1999, 2000]. Сущность лжи заключается в следующей комбинации этих признаков: фактическая ложность утверждения, вера говорящего в ложность утверждения, наличие у говорящего намерения ввести слушающего в заблуждение. Для понятий «неправда» и «обман» характерны иные комбинации данных признаков.
Обращаясь непосредственно к определению понятия «ложь», необходимо сказать об имеющем место различии в точках зрения ученых на объем данного понятия. Это различие вызвано тем фактом, что не все исследователи разделяют мнение о существовании трех дифференциальных признаков лжи, что позволяет, в свою очередь, говорить об «узком» (А.Ф. Стрихартц, Р.В. Бартон, Л. Коулман, П. КеЙ, В.В. Знаков и др.) и «широком» (П. Экман) понимании лжи в науке.
Не останавливаясь на «широкой» трактовке исследуемого феномена, приведем определение лжи, данное в словаре «Психология» под общей редакцией А.В Петровского, В.М. Ярошевского, отражающее, на наш взгляд, основные характеристики изучаемого явления (три дифференциальных признака лжи): «ложь - феномен общения, состоящий в намеренном искажении действительного положения вещей; ... ложь представляет собой осознанный продукт речевой деятельности, имеющий целью ввести реципиентов в заблуждение; как правило, ложь вызвана стремлением добиться личных или социальных преимуществ в конкретных ситуациях» [Психология 1990: 195]. Таким образом, исходя из данного определения, ложь - это и речевая деятельность, заключающаяся в намеренном искажении действительною положения вещей с целью ввести в заблуждение (речевая деятельность по производству ложного высказывания) и продукт этой деятельности (ложное высказывание).
Определение ложного высказывания, в свою очередь, было дано АЛ. Леонтьевым, A.M. Шахнаровичем и В.И. Батовым. Под ложным высказыванием, согласно мнению данных исследователей, понимается высказывание, в котором действительное положение вещей намеренно передается в искаженном виде [Леонтьев, Шахнарович, Батов 1977: 35]. Необходимо отметить, что данное определение не отражает такой различительный признак лжи, как наличие у говорящего намерения ввести в заблуждение слушающего. Вместе с тем намеренное искажение действительного положения вещей (но при отсутствии намерения ввести в заблуждение адресата) характерно и для феномена «вранье». В связи с этим представляется необходимым выработать синтетическое определение ложного высказывания с учетом трех дифференциальных признаков лжи. Ложное высказывание, таким образом, есть высказывание, намеренно искаженно описывающее действительное положение вещей с целью ввести в заблуждение партнера по коммуникации.
7 Заметим, что законное получение какой-либо информации предполагает наличие права (признаваемого источником информации) на ее получение или, другими словами, наличие законного доступа к информации (согласие партнера по общению на выдачу данной информации; владение паролем для доступа к БД). Прямой, косвенный или потенциальный отказ в сообщении полноценной информации/информации как таковой предполагает отказ адресату в праве на получение им данной информации или, говоря словами Бенжамена Констана, непризнание его «права на правду» [цит. по (Капт 1994)]. В рамках диссертационного исследования, таким образом, ложное высказывание рассматривается как средство непрямого (или косвенного) отказа адресату в праве на получение полноценной информации.
Проблема языкового манипулирования истиной и управления пониманием (частью которой является и проблема ложного высказывания) ставилась в работах Г. Лакоффа и Р, Лакофф (проблема влияния языка на общество), Д. Болинджера (лингвистические проблемы истины и лжи), Р. Блакара (язык как инструмент осуществления власти говорящего), Ю. Левина (проблема искажения истины в художественном тексте) и др. Результатом того, что наряду с собственно пропозициональной ложью интерес ученых привлекают различные приемы манипулирования истиной и управления пониманием, явился тот факт, что в литературе вопроса наряду с термином ложь [Sacks 1975; Вайнрих 1987; Болинджер 1987; Barwise, Etchemendy 1987] используются также такие термины, как неискренность [Austin 1971; Плотникова 2000]; ложная информация [Глаголев 1987]; обман [Trilling 1972; Vincent, Castelfranchi 1981; Basso 1987; Столнейкер 1985; Толстая 1995]; манипулирование истиной [Новосельцева 1997]; тенденциозное представление события [Рижинашвили 1994]; дезинформация [Свинцов 1982; 1990]; делание вида [Столнейкер 1985] и др. Такое терминологическое разнообразие не только свидетельствует об отсутствии устоявшейся традиции в исследовании вопроса, но и является показателем
8 того, что совокупность языковых феноменов, обозначаемых данными терминами, образует широкую проблемную область, выходящую за рамки исследования собственно ложного высказывания.
Рассмотрение ложного высказывания как одного из средств косвенного отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой служит основанием для изучения языкового феномена «ложное высказывание» и языкового феномена «не ложное, но являющееся средством косвенного отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой» в рамках одной работы. Кроме того, результаты исследования позволят ответить на вопрос, существует ли паралингвистическое основание для объединения данных речевых феноменов в одну проблемную область. В связи с этим необходимо отметить, что в нашей работе термин «паралингвистические средства» используется как в своем широком значении (отраженном в названии диссертации), так и в узком. В первом случае под паралиигвистическими средствами понимается совокупность всех невербальных знаковых средств, сопровождающих реализацию высказывания, во втором - параязык, как «дополнительные к речевому звуковые коды, включенные в процесс речевой коммуникации и могущие передавать в этом процессе смысловую информацию» [Крейдлин 2004: 27]. Ядро параязыка составляют артикуляторные, фонационные и просодические средства, формирующие денотативное и конотативное значение высказывания [Потапова 1998].
Итак, не вызывает сомнения, что в качестве передаваемо;'О объекта в акте коммуникации может выступать высказывание (продукт речевой деятельности), которому свойственна ложная предикативность. При этом передача данного объекта может быть намеренной и иметь цель ввести слушающего в заблуждение. А.Р. Лурия, определяя ложь как «мышление, построенное по другому принципу», считает, что оно «имеет свои формы, свои правила, свои приемы», которые могут быть обнаружены [Лурия 1927:
9 92], по нашему мнению, посредством анализа их языковой проекции. Другие авторы (О. Липпманн, Л. Адам; А.А. Леонтьев, A.M. Шахнарович, В.И. Батов; Л.Б. Филонов; А.Р. Ратинов; A.M. Столяренко) также признают наличие особенностей мыслительной деятельности при реализации ложного высказывания. Основная особенность при этом заключается в том, что в сознании говорящего происходит перемежение двух картин: истинной и ложной; они сопоставляются, из них при порождении высказывания выбираются и интерпретируются отдельные элементы (языковые средства). Ложная картина как менее яркая, не опирающаяся на следы-образы памяти реально виденного, тормозится более ярким конкурирующим истинным мысленным образом. Результатом подобной мыслительной деятельности становится сильный и устойчивый очаг возбуждения в высшей нервной деятельности человека. Данный очаг, в свою очередь, вызывает повышенную внутреннюю напряженность и мешает нормальному функционированию психики [Липпманн, Адам 1929; Леонтьев, Шахнарович, Батов 1977; Филонов 1979: Ратинов 2001; Столяренко 2001], что так или иначе может проявляться в вербальном и невербальном поведении человека в акте коммуникации.
Объект диссертационного исследования - ложное высказывание как компонент системы средств отказа партнеру по коммуникации в праве на получение полноценной информации/информации как таковой.
Предмет исследования составляют лингвистические и
паралингвистические средства реализации ложного высказывания (и других средств отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой) и особенности функционирования этих средств б акте коммуникации.
Основным материалом исследования послужили тексты художественной прозы русскоязычных авторов. Поиск единиц исследования проводился методом сплошной выборки. Объем выборки составил 475
10 печатных листов. Из вышеуказанного материала было отобрано 100 актов коммуникации, включающих ложные высказывания, другие средства косвенного отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой, а также средства прямого и потенциального отказа.
Анализ фактического материала проводился с применением комплексной методики исследования (использованием лингвистического и паралипгвистического видов анализа в рамках одной работы). Был применен системный метод анализа художественного текста, базой которого являются общелогические и общетеоретические методы. В рамках данного метода анализ текстов проводился поэтапно. На первом этапе было осуществлено моделирование ситуации, в основу которого был положен метод абстрагирования с введением определенного метаязыка. На втором этапе был проведен системный анализ модели (выделение в структуре акта коммуникации элементов вербального и невербального поведения говорящего, использующего средства прямого, косвенного и потенциального отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой, а также приемы речевого воздействия). Интерпретация полученных данных явилась заключительным этапом анализа.
Правомерность использования художественных произведений для анализа социального взаимодействия обосновывается, во-первых, теорией возможных миров [Карнап 1959; Целищев 1977; Lewis 1986; Столнейкер 1985], согласно которой истинность/ложность той или иной пропозиции может быть оценена с точки зрения положения вещей не в мире в целом, а в некоем возможном мире, с которым соотносится данная пропозиция; это, в свою очередь, дает возможность анализировать так называемые заданные миры, содержащие утверждения о гипотетических или воображаемых ситуациях. Вместе с тем фоном для разграничения истинных и ложных пропозиций в вымышленном мире служит не только его внутреннее
11 устройство, описанное писателем, но также факты реальною мира и система верований, принятых в обществе, в котором было создано данное художественное произведение [Lewis, 1983: 272].
Во-вторых, наряду с теорией возможных миров легитимность использования художественной прозы для изучения средств репрезентации эмоций в языке и околоязыковом пространстве доказывают современные исследования в области лингвистики, согласно результатам которых, реалистический художественный текст эквивалентен реальности в воспроизведении эмоциональных ситуаций [Романов 2004]. Идентичные эмоциональные ситуации в художественном тексте и действительносі'и (как она представлена в сознании рядовых носителей русского языка) имеют тождественное модальное эмоциональное наполнение, одинаковые формы и способы репрезентации эмоций и сходный поведенческий рисунок. Наблюдения над речью героев реалистических художественных произведений в эмоциональных ситуациях, следовательно, не менее объективны, чем наблюдения на речью людей в сходных ситуациях действительности. Объективность манифестации эмоций в художественной коммуникации релевантна для нашего исследования, поскольку эмоциональные реакции являются одним из средств объективации лжи.
И в-третьих, по словам П. Экмана, одного из ведущих специалистов по проблеме лжи, результаты его исследований данного феномена речевого общения «ничуть не противоречат ...художественным описаниям» [Экман 2000: 18].
Основной целью диссертации является исследование
функционирования ложного высказывания в тексте и описание лингвистических и паралингвистических особенностей его реализации.
Основная цель диссертации определяет постановку и решение следующих задач:
Теоретический анализ подходов к интерпретации понятия речевого общения как процесса исполвзования совокупности средств вербального и невербального каналов коммуникации;
Определение философско-этических характеристик феномена лжи;
Выявление лингвистических и паралингвистических средств реализации ложного, а также неложных высказываний, являющихся средствами прямого, косвенного и потенциального отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой в акте коммуникации (на материале специальных теоретических источников и текстов художественной прозы);
Определение структуры соотношения лингвистических и паралингвистических средств реализации исследуемых высказываний и выделение комплексов средств реализации данных высказываний;
Анализ исследуемого материала с учетом классификации и систематизации полученных данных.
Актуальность диссертации определяется необходимостью разработки теоретического и практического инструментария для осуществления верификации содержания высказываний в акте коммуникации с ориентацией на поиск критериев оценки их истинности/ложности.
Научная новизна диссертации заключается в следующем:
впервые ложное высказывание рассматривается как компонент системы средств отказа партнеру по коммуникации в праве на получение полноценной информации/информации как таковой;
впервые исследование ложного высказывания осуществляется с учетом контекста, формируемого иными средствами отказа партнеру по коммуникации в праве па получение полноценной информации/информации как таковой, а также приемами речевого воздействия;
- впервые в рамках одного исследования осуществляется изучение
особенностей функционирования лингвистических и
паралингвистических средств реализации ложного высказывания с
выделением комплексов данных средств.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что
результаты исследования ложного высказывания и взаимозависимости
вербального и невербального аспектов его реализации будут способствовать
дальнейшей разработке теории коммуникации, дискурсологии, теории
аргументации и теории лингвистической экспертологии.
Практическая ценность диссертации обусловлена возможностью применения полученных результатов в экспертно-следственной практике при работе с показаниями свидетелей и подозреваемых. Результаты анализа лингвистической структуры ложного высказывания, а также вербального и невербального контекстов, в которых реализуется данное ложное высказывание, могут найти применение в практике оптативных экспертиз. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в практической психологии.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается, с одной стороны, комплексной методикой исследования, основанной на объединении подходов и методов таких дисциплин, как философия, психология, психолингвистика, психофизиология, невербальная семиотика и риторика, с другой стороны, использованием в ходе исследования репрезентативной выборки, включающей 475 п. л. анализируемых текстов.
Основная цель и задачи исследования определили объем и структуру работы: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении обосновывается выбор темы, определяется материал исследования и методы его анализа, раскрывается новизна работы,
14 отмечается актуальность, теоретическая и практическая значимость исследования, формулируются цели и задачи диссертации, описывается структура работы.
Первая глава посвящена аналитическому обзору теоретической литературы по проблеме речевой коммуникации. Феномен речевого общения предстает в исследовании как синтез вербальной и невербальной коммуникации. В главе определяются функции эмоций в коммуникации. Изучение динамической стороны речи потребовало рассмотрения основных положений коммуникативных теорий (теории речевой деятельности и -теории речевых актов). Высказывание рассматривается как коммуникативная единица и как продукт речевой деятельности. Уточняется понятие ложного высказывания.
Вторая глава посвящена рассмотрению категории «ложь» как объекта междисциплинарного исследования, В историческом плане прослеживается исследование понятий «ложь», «истина» в философии. В рамках психологического аспекта определяется соотношение между эмоциями и ложью и, как следствие этого, между ложным высказыванием адресанта и его эмоциональными реакциями, сопровождающими это высказывание. Рассматриваются некоторые изученные на сегодняшний день языковые механизмы лжи.
Третья глава посвящена системному анализу художественного текста, содержащего акты коммуникации, включающие ложные высказывания, другие средства косвенного отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой, а также средства прямого и потенциального отказа. В ходе анализа выявляются особенности функционирования лингвистических и паралингвистических средств реализации исследуемых высказываний.
15 Заключение содержит основные выводы по результатам работы и
обобщение теоретических и практических положений настоящей
диссертации.
В списке литературы приводится список использованной в процессе
исследования литературы.
Структурная организация и предметное содержание речевой деятельности. Говорение как один из видов речевой деятельности
В отечественной психологии общепринятым является представление о трехфазной структуре любого акта деятельности: а) этап ориентировки и планирования, б) этап исполнения и реализации, в) этап контроля [Леонтьев 1999: 135]. Речевая деятельность человека также может быть представлена как последовательность этапов и фаз. Идея фазовой структуры «внутреннеречевого» этапа порождения речевого высказывания принадлежит Л.С. Выготскому [Выготский 1982]. Рассматривая такое порождение как процесс движения от мысли к слову, к внешней речи, Л.С. Выготский представлял его так: «от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем, в значениях внешних слов и, наконец, в словах» [Выготский 1982: 84]. Далее: «Мысль есть внутренний опосредованный процесс. Это путь от смутного желания к опосредованному выражению через значение, вернее, не к выражению, а к совершению мысли в слове» [Выготский 1982: 87]. И, наконец: «Мысль не есть нечто готовое, подлежащее выражению. Мысль стремится выполнять какую-то функцию, работу. Эта работа мысли есть переход от чувствования задачи - через построение значения - к развертыванию самой мысли» [Выготский 1982: 89].
Опираясь на эти положения Л.С. Выготского, А.А. Леонтьев предлагает следующую последовательность этапов (фаз) порождения речи [Леонтьев 1999: 135-138]. В начале движения лежит а) система мотивов. А.А Леонтьев расширяет понимание Л.С. Выготского, говоря не о мотиве как изолированном факторе, а о системе внеречевых факторов, образующих мотивацию речевого действия. На этом этапе осуществляется первичная ориентировка в проблемной ситуации. Мотивация и первичная ориентировка порождают б) речевую (коммуникативную) интенцию. Этот этап соответствует «смутному желанию» или «чувствованию задачи» Л.С. Выготского. Д.Н. Узнадзе говорит об этом, как о «воображаемой» или «мыслимой ситуации» [Узнадзе 1966: 407].
Согласно А.Н. Леонтьеву, следует разграничить мотив и потребность. Потребность опредмечивается в мотиве, а мотив - «это объект, который отвечает той или иной потребности и который, в той или иной форме отражаясь субъектом, ведет его деятельность» (цит. по [Леонтьев 1999: 137]). Согласно А.А. Леонтьеву, на этапе «мотива» мы имеем дело, строго говоря, с потребностью, а не с мотивом. Переход от первого ко второму и связан с понятием речевой интенции. Этот этап Л.С. Выготский называет этапом «мысли». А.А. Леонтьев называет его этапом «речевой интенции». И на этом этапе, когда четко выделилась коммуникативная задача, происходит вторичная ориентировка - в условиях этой задачи.
Следующий этап - это этап в) внутренней программы речевого действия. Он соответствует у Л.С. Выготского «опосредованию мысли во внутреннем слове». На этом этапе происходит опосредование речевой интенции личностными смыслами (в понимании А.Н. Леонтьева и А.А. Леонтьева), закрепленными в тех или иных субъективных (но, являющихся результатом интериоризации объективных внешних действий) кодовых единицах («код образов и схем» Н.И. Жинкина). Программирование есть процесс опосредования речевой интенции кодом личностных смыслов. На данной стадии происходит отнесение содержания будущего высказывания к действительности и выбор тех средств, которые эту действительность адекватно выразят. Посредством внутренней речи (Л.С.Выготский) или внутреннего программирования (А.А. Леонтьев) осупіествляется «мысль», происходит связь между порождающей мысль интенцией и развертыванием мысли при помощи объективного языкового кода. Переход к коду, в свою очередь, осуществляется поэтапно: сначала происходит переход от смыслов, закрепленных в субъективном коде, к значениям «внешних» слов реального языка («перевод» с субъективного кода смыслов на объективный код значений, опосредование речевой интенции «значениями внешних слов»), а затем - «превращение грамматики мысли в грамматику слов». Это этап г) -реализация внутренней программы. Данный этап предполагает два относительно независимых процесса - семантическую реализацию и грамматическую реализацию.
Кроме двух указанных процессов, входящих в этап г), А.А. Леонтьев выделяет еще процесс акустико-артикуляционной и моторной реализации программы (опосредование мысли во «внешнем слове» по Л.С.Выготскому), за выбором синтаксической структуры высказывания и непосредственно предшествующий следующему этапу, а именно этапу д) - звуковому осуществлению высказывания. Этот заключительный этап предполагает, в свою очередь, процесс «моторного программирования» («моторный План»), который накладывается на процессы семантико-грамматической реализации и зависит от них. На основе процесса моторного программирования и следующего за ним процесса акустико-артикуляционной реализации осуществляется собственно фонация.
Наряду со структурной организацией всякая деятельность, и в том числе речевая, характеризуется предметным (психологическим) содержанием. В предметное содержание включаются условия деятельности, которые определяются такими элементами ее содержания, как предмет, средства, орудия, результат и т. д. [Леонтьев 1959]. В качестве основного элемента предметного содержания деятельности выступает предмет, который в свою очередь определяет и сам характер деятельности [Леонтьев 1959: 38]. Предметом речевой деятельности является мысль как «форма отражения предметов и явлений реальной действительности в их связях и отношениях». В выражении данной мысли реализуется цель продуктивных видов речевой деятельности (говорение и письмо). Цель рецептивных видов (слушания и чтения) заключается в репроизводстве чужой мысли. Специфика мысли как предмета говорения заключается в том, что она раскрывается в самом процессе говорения, в ходе установления всех смысловых связей нижележащих уровней вплоть до межнонятийных. Вместе с тем общая исходная мысль, то есть самый верхний уровень всей структуры смыслообразования, может не выражаться в тексте, а образовывать подтекст сообщения.
Являясь чаще всего результатом собственной творческой мыслительной деятельности говорящего, мысль может реализоваться и в процессе воспроизведения (например, пересказа текста) мыслей других людей, то есть быть результатом репродуктивного мышления. Таким образом, мысль как предмет говорения включает как продуктивные, так и репродуктивные элементы.
Следующим элементом предметного содержания деятельности является ее продукт. В качестве продукта рецептивных видов речевой деятельности выступает умозаключение, к которому приходит адресат в процессе восприятия. Высказывание (текст) — продукт таких видов речевой деятельности, как говорение и письмо.
Прагматический аспект и модели коммуникации
Функционирование в процессе речевой коммуникации языковых и паралингвиетических средств изучает такой раздел лингвистики, как прагматика. В прагматику включается комплекс вопросов, связанных с адресантом, адресатом, их взаимодействием в процессе речевой коммуникации и ситуацией общения. Цель прагматических исследований — определение языковых и паралингвиетических средств, которые следует употребить в соответствующих социальных условиях для достижения необходимого коммуникативного эффекта (успешности соответствующего речевого акта) [Потапова 2003: 212].
В связи с субъектом речи изучаются: 1) явные и скрытые цели высказывания («иллокутивные силы», по Дж. Остину), например, сообщение некоторой информации или мнения, вопрос, приказ, просьба, обещание и т.п.; 2) речевая тактика и типы речевого поведения; 3) установка говорящего или прагматическое значение высказывания: косвенные смыслы высказывания; 4) прагматические пресуппозиции: оценка говорящим общего фонда знаний, интересов, взглядов, психологического состояния адресата и т.д.; 5) отношение говорящего к тому, что он сообщает: а) оценка содержания высказывания (ирония, многозначительность и пр.), б) организация высказывания в соответствии с тем, чему в сообщении придается наибольшее значение. В связи с адресатом речи изучаются: Г) интерпретация речи, правила вывода косвенных и скрытых смыслов из прямого значения высказывания; в этих правилах учитывается контекст, прагматическая ситуация и пресуппозиции; 2) воздействие высказывания на адресата (перлокутивный эффект по Остину): расширение информированности адресата; изменения в эмоциональном состоянии, взглядах и оценках адресата; влияние на совершаемые им действия и т.п.; 3) типы реагирования адресата на полученный стимул (прямые и косвенные реакции, например, способы уклонения от прямого ответа на вопрос) [Арутюнова 1998: 389-390].
Важно отметить, что роль адресата, также будучи активной, предполагает наличие коммуникативной стратегии. В зависимости от того, проинформирован ли адресат о предстоящем коммуникативном акте, В.В. Клюев различает 1) неожидаемые коммуникативные акты и 2) ожидаемые коммуникативные акты. Коммуникативная стратегия адресата в значительной степени зависит от того, к какой группе относится соответствующий коммуникативный акт.
В связи с отношениями между участниками коммуникации изучаются: 1) формы речевого общения (информативный диалог; диалог-спор, ссора и т.д.); 2) социально-этикетная сторона речи (формы обращения; стиль общения); 3) соотношения между участниками коммуникации в тех или иных речевых актах (напр. просьба и приказ) [Арутюнова 1998: 389-390]. Последним фактором, учитываемым в прагматических исследованиях, является ситуация общения. Различаются два вида ситуации: денотативная (предметная) и речевая (реальная обстановка, в которой реализуется речевая коммуникация). В отношении ситуативной обусловленности акта коммуникации имеют значение следующие признаки: а) условия протекания речевого акта; б) наличие/отсутствие предметов, о которых идет речь в момент речевой коммуникации; в) временная продолжительность/краткосрочность речевого действия; г) высокая/низкая частотность речевой ситуации; д) способ общения: прямоконтактный, телефон, радиовещание, телевещание [Потапова 2003: 214].
Невербальный и вербальный каналы в их неразрывном единстве послужили исходной базой для формирования устной коммуникации. Речевая деятельность осуществляется абстрактно мыслящим левым полушарием головного мозга, где расположены "центры речи". Правое полушарие реагирует на невербальные сигналы. В силу того, чю вербальный и невербальный каналы работают параллельно, устная коммуникация оказывается двух канальной, а если учесть каналы обратной связи (ОС), то и четырехканальной [Соколов 2001: 108]. В акте коммуникации вербальный и невербальный каналы взаимодействуют различным образом: 1. Повторение. Невербальная коммуникация может просто дублировать то, что было передано вербально. 2. Контрадикция. Невербальное поведение может противоречить вербальному. 3. Субституция. Невербальное поведение может выступать вместо вербальных сообщений. 4. Дополнение. Невербальное поведение может модифицировать или развивать далее вербальное сообщение. 5. Акцентирование. Невербальное поведение может акцентировать отдельные части вербального сообщения подобно тому, как подчеркивание слов на письме служит их выделению. 6. Регулирование. Невербальное поведение используется для того, чтобы регулировать коммуникативный поток между взаимодействующими индивидами [Потапова2003: 35].
Необходимо отметить, что современная коммун и кативистика располагает значительным количеством моделей, каждая из которых по-своему отражает структуру, элементы и динамику процесса коммуникации. Рассмотрим некоторые из них.
Первая из известных моделей была предложена еще Аристотелем. В «Риторике» философ писал: «Речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)» [Аристотель 2000: 14]. В данной универсальной модели Аристотеля, таким образом, можно выделить три составляющие коммуникации: оратор — предмет речи слушатель.
Поскольку, «в настоящее время центр исследований в области речи сместился с проблем лингвистического описания к проблемам толкования и описания всего процесса речевой коммуникации в целом» [Потапова 2003: 34], современные модели коммуникации кроме трех основных составляющих, перечисленных Аристотелем, содержат более или менее полный набор элементов, сложное взаимодействие которых отражает процесс человеческого общения.
Так, модель Г. Лассуэлла содержит элементы коммуникативного действия, которое раскрывается по мере ответа на последовательно возникающие вопросы: кто? сообщает что? по какому каналу? кому? с каким эффектом? [Lasswell 1980].
В циклической модели У. Шрамма отражен процесс обратной связи, представляющий собой реакцию одного коммуниканта на сообщение другого. Именно обратная связь делает коммуникацию двусторонним процессом (диалогом), позволяя каждой из сторон корректировать свои действия [Schramm 1988].
В.П. Морозов предложил психологическую модель коммуникации [Морозов 1988]. Автор представляє ! коммуникацию как двухканальыый процесс, состоящий из вербального и невербального каналов. Особенность данной модели состоит в учете роли функциональной асимметрии мозга человека, являющейся физиологической основой независимости невербальной функции речи от вербальной.
Лингвистический аспект проблемы лжи
Несмотря на попытки создания свода правил для регулирования процесса речевой коммуникации (максимы П. Грайса, правила Р. Лакофф), а также на понимание Дж. Остином неисренности как таких условий осуществления речевого акта, которые делают его неэффективным или «пустым» [Austin 1971: 17-18], в речевом общении присутствуют многообразные проявления разумного, рационального и целенаправленного использования того явления, которое Дж. Остин обозначил как неискренность. Создание цельной классификации языковых средств реализации ложного высказывания является делом будущего. Вместе с тем, уже на сегодняшний день представляется возможным получить некоторые результаты.
Представляет интерес работа С.Н. Плотниковой, в которой проводится комплексное структурно-семантическое описание единиц разных уровней языковой системы, выражающих неискренность (термин С.Н, Плотниковой) в английском языке, с указанием конкретных механизмов референции, актуального членения предложения, экспрессивной окрашенности, межфразовых связей в неискреннем дискурсе [Плотникова 2000].
Автором установлено, что неискренний дискурс характеризуется специфическими особенностями референции, а именно механизмом фокусирования центрального референта. Неискренний говорящий стремится поместить в фокус дискурса такой референт, который будет принят и поддержан адресатом. При возникновении референциалышго конфликта неискренний участник активно устраняет ненужные ему объекты рассмотрения и настойчиво возвращается к фокусированному референту.
Неискренность может быть основана на конкретной и абстрактной референции. Конкретная референция, как правило, базируется на номинации известного адресату объекта материальной сферы. В случае прямой конкретной референции она подкрепляется непосредственным указанием на объект. Может иметь место добавление референта, когда в целях выражения неискренности к имеющимся в действительности объектам добавляется некий несуществующий объект, получающий соответствующую номинацию. Наблюдаются случаи сужения экстенсионала конкретной референции, при которых общие признаки класса объектов переносятся на несуществующий конкретный объект. Неискренность может также базироваться на переносе внимания с одного конкретного референта на другой в рамках общей структуры референтной ситуации. В случае абстрактной референции неискренний говорящий держит в фокусе внимания стабильно выделенный референт, обозначаемый тем или иным абстрактным существительным, и организует свой дискурс таким образом, чтобы в нем выражалось общепринятое значение данного существительного. С этой целью используются языковые средства, принятые в контекстах употребления выбранного слова. Навязывая собеседнику общепринятое значение референтного абстрактного существительного, неискренний говорящий осуществляет для самого себя индивидуальную категоризацию фокусированного референта.
Исходя из положения о том, что тема дискурса в первую очередь зависит от лежащей в его основе референции, С.Н. Плотниковой установлено, что при выражении неискренности говорящий либо поддерживает обсуждаемую в данный момент тему, либо меняет обсуждаемую тему, переводя разговор в новое русло, либо же уклоняется от темы, не вступая в разговор или прекращая его. При поддержании темы в дискурсе наблюдается четко выраженная верхняя граница, сигнализирующая о первом появлении темы в общении. Верхняя граница неискреннего дискурса может служить начальной точкой отсчета для развития единой тематической прогрессии. При смене темы неискренний собеседник отказывается развивать обсуждаемый на данный момент круг тем, предлагая взамен новую тему. Старая тема отвергается путем использования соответствующих метадискурсивиых высказываний и посредством выбора подходящего наименования из состава референтной ситуации. Уклонение от темы при выражении неискренности состоит в игнорировании тематических элементов, проявляющемся, в основном, в том, что неискренний участник хранит молчание или дает уклончивые ответы на реплики собеседника.
Установлено, что отбор и комбинация лексических и грамматических средств, а также преимущественное употребление тех или иных синтаксических конструкций при выражении неискренности во многом определяется типом используемой рематической доминанты. Автором выявлены следующие четыре типа рематических доминант, присущих неискреннему дискурсу - предметная, качественная, акциональная и импрессивная доминанты.
Общей особенностью неискреннего дискурса с предметной рематической доминантой является то, что в нем логическое ударение несут слова, обозначающие предметы, находящиеся в определенном пространственном соположении и составляющие в своей совокупности единую картину той или иной области пространства - интерьера, пейзажа, обстановки, географического местоположения и т.п. При этом предметы, обозначения которых включены в состав рем, не соответствуют реальной картине мира.
Качественная рематическая доминанта при выражении неискренности представляет собой развертывание содержания путем выделения рем, характеризующих качества предметов. При этом в рематически ударных позициях используются оценочные структуры с ориентацией на те дескриптивные признаки, которые отсутствуют в реальной картине мира.
В пределах акциональной рематической доминанты неискренний говорящий осознанно приписывает себе действия, имеющие отношение к какому-то иному субъекту. В этом типе доминанты логическое ударение в ремах несут глаголы действия. При неискреннем субъекте наблюдается последовательная смена не имеющих к нему отношения действий.
Средства прямого, косвенного и потенциального отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой, Типы высказываний, передающих неполноценную информацию
В результате анализа художественной коммуникации выделены способы уклонения от прямого ответа на вопрос. Данные способы предполагают использование как ложных, так и неложных высказываний, являющихся средствами прямого и косвенного отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой. Таблица № 5 содержит список данных средств и иллюстративные примеры. Таким образом, представляется возможным говорить о средствах прямого и косвенного отказа адресанта в праве на получение адресатом полноценной информации/информации как таковой в акте коммуникации. При этом прямым отказом считаются высказывания, в которых заявляется о невозможности (в силу объясняемых или необъяснимых адресату причин) выдачи запрашиваемой информации. Прямой отказ (№7) является средством отказа в праве на получение информации как таковой (0 информации). Лингвистическими средствами реализации прямого отказа являются глаголы мочь, хотеть, говорить, заявлять, сказать, словосочетание иметь право в высказываниях типа: (Я) не могу/хочу/имею права говорить/сказать/заявлять (об этом). Все остальные способы уклонения от прямого ответа на вопрос считаются средствами косвенного отказа в праве на получение полноценной информации/информации как таковой. При этом переспрос (№ )), встречный вопрос (№2), обещание дать ответ на вопрос позже (условие искренности на момент реализации высказывания может выполняться или не выполняться) (№4) и молчание (игнорирование вопроса) (№8) являются средствами отказа в праве на получение информации как таковой (0 информации). Высказывание неопределенного (обобщенного) характера (№3) и имплицитно-ложное высказывание (№9) являются средствами отказа в праве на получение полноценной информации, поскольку первое высказывание обладает низкой степенью информативности, а второе имплицитно передает ложную информацию (не .представляющую ценность для адресата).
Что касается ложного высказывания о том, что говорящий не владеет информацией (№5), и ложного высказывание о том, что говорящий забыл информацию (№6), то они являются одновременно и средствами отказа в праве на получение информации как таковой (0 информации), и средствами отказа в праве на получение полноценной информации, поскольку обладают двумя планами информации. С одной стороны, они эксплицитно передают неполноценную информацию с целью введения в заблуждение (на самом деле говорящий владеет информацией (№5) или помнит ее (№6)), а с другой стороны, блокируют выдачу запрашиваемой информации как таковой (О информации). Рассмотрим лингвистические и паралингвистические средства реализации способов уклонения от прямого ответа на вопрос. Лингвистическими средствами реализации переспроса являются частица а в значении вопроса, вопросительное местоимение что. Лингвистическими средствами вопроса, свидетельствующего о якобы непонимании того, о ком (о чем) идет речь, являются вопросительные местоимения кто, что, какой и частица это в вопросах типа: Кто это? Что это? Какая ...? Какой ...? Подобные высказывания в норме сопровождаются таким иллюстративным жестом, как «поднятие бровей». Правдоподобная имитация удивления требует реализации данного мимического жеста параллельно с реализацией речевого высказывания. Характерными лингвистическими средствами переадресации вопроса спрашивающему являются союз а и местоимение второго лица в вопросах типа: А ты? А вы?
Использование риторического вопроса, выражающего возмущение и указывающего на отсутствие права (по этическим причинам) задавать вопросы подобного рода, может предполагать использование разговорного фразеологизма какое дело в вопросах типа: Какое твое/ваше дело? Какое тебе/вам дело до...? Подобная реакция на вопрос свидетельствует о том, что произошел запрос информации из проблемной информационной зоны партнера по коммуникации (см. С. 187). Паралингвистическим средством реализации подобных риторических вопросов является нисходяще-резкая мелодика, относящаяся к категории параметров звучания.
Использование высказывания неопределенного (обобщенного) характера предполагает употребление существительных, не обозначающих конкретных лиц (преимущественно во множественном числе: друзья, знакомые, родственники, коллеги и т.д.), неопределенных местоимений и других частей речи, способствующих формированию высказывания с низкой степенью информативности.
Обещание (условие искренности которого на момент реализации высказывания или выполняется, или не выполняется) дать ответ на вопрос позже предполагает использование таких лингвистических средств, как обстоятельственные наречия, выполняющие функцию наименования времени потом, позже, завтра, послезавтра и т.д., существительных, обозначающих дни недели, название месяцев и т.д., а также глаголов сказать, сообщать и т.д. в высказываниях типа: (Я) потом/позже/завтра тебе скажу/сообщу.
Ложное высказывание о том, что говорящий не владеет информацией (использование которого является способом уклонения от прямого ответа н вопрос), включает в себя ментальный глагол знать в отрицательной форме. Данное высказывание имеет невербальный аналог - эмблематический жест пожать плечами, который может сопровождать реализацию высказывания.
Ложное высказывание о том, что говорящий забыл запрашиваемую информацию (использование которого является способом уклонения от прямого ответа на вопрос), включает в себя ментальный глагол забыть, и ментальный глагол помнить в отрицательной форме. Данное высказывание может сопровождаться мимическим жестом хмуриться, отражающим ментальный процесс попытки вспомнить информацию.
Молчание (игнорирование вопроса) не имеет лингвистических средств реализации. Данный способ уклонения от прямого ответа на вопрос сопровождается производством ряда каких-либо действий, предоставляющих возможность правомерного отказа от визуального контакта коммуниканту, игнорирующему вопрос собеседника. Данные невербальные действия (возможно полное внешнее бездействие как, например, имитация погруженности в свои мысли) являются в данном случае значимыми, поскольку их значением является игнорирование вопроса.