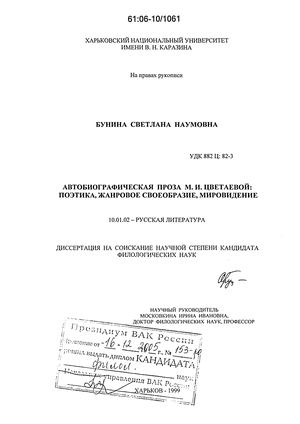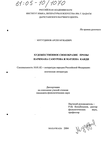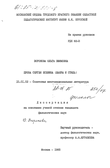Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Проблемы изучения прозы М. И. Цветаевой 9
1.1 История изучения и актуальные вопросы специфики прозы М. И. Цветаевой 9
1.2 Принципы анализа жанрового своеобразия прозаического произведения 22
Выводы к главе 1 25
Глава 2. Эпистолярная новелла М. И. Цветаевой «Флорентийские ночи» 26
Выводы к главе 2 52
Глава 3. Лирико-философские рассказы М. И. Цветаевой 55
3.1. «Хлыстовки» 56
3.2. «Мать и музыка» 72
3.3. «Черт» 84
3.4. «Страховка жизни» 95
Выводы к главе 3 106
Глава 4. Неомифологические повести М. И. Цветаевой 108
4.1. «Дом у Старого Пимена» 109
4.2. «Мой Пушкин» 126
Выводы к главе 4 149
Заключение 152
Список использованных источников
- История изучения и актуальные вопросы специфики прозы М. И. Цветаевой
- Эпистолярная новелла М. И. Цветаевой «Флорентийские ночи»
- «Хлыстовки»
- «Дом у Старого Пимена»
Введение к работе
Актуальность исследования. Творчество М. И. Цветаевой, признанное выдающимся явлением в истории литературы XX века, вызывает растущий интерес со стороны исследователей. Однако его изучение протекает неравномерно. Внимание литературоведов в основном сосредоточено на поэзии Цветаевой, а ее проза до сих пор остается почти не исследованной.
В этой связи показательна концепция единственной монографии, посвященной прозе Цветаевой, изданной в 1982 году польским ученым З.Мачиевским «Proza Maryny Cwietajewej jako program і portret artysty» («Проза Марины Цветаевой как программа и портрет художника») [158]. Цветаевская проза рассматривается в ней как автокомментарий к поэтическому творчеству. Что же касается ряда важных суждений, высказанных в последние годы в статьях И. Кудровой [55, 56], А. Саакянц [111], С. Ельницкой [30], то они, к сожалению, носят фрагментарный характер и не складываются в обобщающую концепцию, определяющую специфику, место и роль этой прозы в художественной системе писательницы и тем более в литературном процессе XX века. Не случайно в новейших историях русской литературы XX века [1, 2], где высоко оценена и достаточно обстоятельно охарактеризована поэзия Цветаевой, разговор о ее прозе носит предельно лаконичный и информативный, а не аналитический характер. В итоге столь своеобразное явление не заняло должного места даже в истории литературы русского зарубежья.
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена недоступностью до недавнего времени широкому кругу ученых цветаевской прозы, созданной и опубликованной в основном в эмигрантский период творчества писательницы (1930-е годы). Лишь в 1994 году было издано семитомное собрание сочинений Цветаевой, вобравшее в себя выверенные и откомментированные тексты большинства ее прозаических произведений [135]. Наличие подобного издания
сделало их углубленное исследование возможным и необходимым, тем более что стало совершенно очевидно, насколько значительна эта часть творческого наследия Цветаевой.
Она обширна количественно (по подсчетам А. Саакянц, Цветаева написала более пятидесяти прозаических произведений [137, с.415]) и, что гораздо важнее, является несоменной эстетической ценностью. Однако эстетическая природа цветаевской прозы оказалась настолько своеобразной, что попытки ее определения сразу же породили не только разночтения, но и серьезное недоразумение.
Еще современники поэта восприняли произведения, публиковавшиеся в эмигрантской печати, как мемуары и литературно-критические статьи. Подобное восприятие сохранилось и у большинства сегодняшних истолкователей цветаевской прозы, которые определяют ее как мемуары (А. Саакянц [112]), очерки (Н. Козина [46]), эссе (В. Швейцер [143]), автокомментарий к поэзии (З.Мачиевский [158]) и т.п. При всей разнице этих определений их объединяет нечто общее - отнесение произведений Цветаевой (даже лучших, бесспорно эстетически ценных) к области документальной или полудокументальной прозы, а следовательно, недооценка их художественной значимости. Дальнейшее развитие подобных концепций и подходов к прозе Цветаевой, на наш взгляд, непродуктивно, так как не затрагивает ее существенные свойства.
Уже В. Ф. Ходасевич, оказавшийся одним из первых проницательных читателей цветаевской прозы, был убежден, что «Цветаева обрела себя как прозаика и обнаружилась настоящим мастером» [135, т.4, с.633], и хорошо представлял себе природу этого мастерства. Именно Ходасевич впервые указал на наличие в прозе поэта «очень сложной и изящной системы приемов» - не только мемуарных, но и «чисто беллетристических» [135, т.4, с.633]. Этим он объяснял тот факт, что, оставаясь в пределах действительности, воспоминания Цветаевой имеют силу и выпуклость художественных произведений. Позже подобные мысли высказал и К. Паустовский: «Проза Цветаевой - точная, тонкая, свободная и порой тяжелая от богатства,., бесспорно войдет в золотой фонд (пожалуй, больше
- в алмазный фонд) нашей литературы» [90, с.35]. Все сказанное свидетельствует
о насущной потребности и актуальности исследования прозы Цветаевой в
контексте художественной литературы.
Поскольку цветаевская проза не только обширна, но и многообразна, ее обстоятельное изучение в рамках одного диссертационного исследования невозможно. Поэтому объектом анализа в нашей работе стала наиболее художественно значимая ее часть, которую в цветаевоведении принято называть автобиографической прозой. Она включает в себя более двадцати произведений, среди которых такие уже широко известные и признанные, но не исследованные, как «Флорентийские ночи» (1932), «Дом у Старого Пимена» (1933), «Хлыстовки» (1934), «Мать и музыка» (1934), «Страховка жизни» (1934), «Черт» (1935), «Мой Пушкин» (1937). Именно они были в центре нашего внимания.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена на кафедре истории русской литературы Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина в рамках комплексной темы «Проблемы истории и поэтики русской литературы XX века».
Цель и задачи исследования. Изучение автобиографической прозы Цветаевой велось с целью выявления ее истинной эстетической природы, художественной специфики и значимости, что, в свою очередь, должно было обогатить представления о литературе русского зарубежья как одной из органических и важных составляющих литературного процесса XX века.
Для достижения такой цели было необходимо решить ряд задач:
- осуществить анализ поэтики произведений, наиболее репрезентативных для
автобиографической прозы Цветаевой;
определить специфику жанровой структуры этих произведений, выявить жанровые разновидности рассматриваемой прозы, осмыслить их эволюцию и взаимодействие, установить, какие из них являются ведущими;
создать модель позднего периода творчества Цветаевой как идейно-художественной целостности, для чего на всех этапах исследования прозу
рассматривать в контексте ее поэзии, эссеистики, литературно-критических статей, писем, дневников и др.;
на этом основании осуществить интерпретацию каждого из рассматриваемых произведений и заключенной в них авторской нравственно-философской и художественно-эстетической концепции в целом;
обобщая результаты исследования, установить генетические и типологические взаимосвязи между автобиографической прозой Цветаевой, творчеством ее предшественников и современников.
Научная новизна результатов исследования обусловлена тем, что:
В работе был впервые осуществлен всесторонний анализ автобиографической прозы Цветаевой, на основании чего выявлены и обобщены ее идейно-художественные особенности.
Автобиографическая проза Цветаевой впервые охарактеризована не как полудокументальная, находящаяся на периферии ее творчества, а как значительное художественное явление, имеющее са*мостоятельную ценность.
Показана несостоятельность традиционной в цветаевоведении тематической классификации прозаических произведений писательницы. Предложена новая классификация по жанровым признакам, подтвердившая свою продуктивность в процессе исследования.
На ее основании впервые обоснована принадлежность рассматриваемых произведений к жанрам лирико-философского рассказа, новеллы и повести, модифицированных в духе новаций русской и западноевропейской литературы первой трети XX века.
В этой связи в работе получили подтверждение и существенное развитие предположения ученых о неомифологической природе цветаевской прозы. Истолкование ее автобиографических произведений с учетом этой особенности выявило их глубинные идейно-художественные пласты и показало их общечеловеческую значимость.
В ходе анализа автобиографической прозы Цветаевой был проведен ряд литературных параллелей (с творчеством Г. Гейне, Ф. де ла Мотт Фуке,
А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, А. Белого, М. Пруста
и др.), позволивших расширить представления о миропонимании и творческом
методе ее автора, а также о ее месте в русской и мировой литературе.
7. Осуществленное исследование позволило в итоге по-новому истолковать
природу автобиографизма рассматриваемой прозы Цветаевой. Обосновав отказ
от его трактовки как тематической особенности этой группы произведений
писательницы, мы выявили их типологическое сходство с разновидностями
жанра художественной автобиографии. Это позволило вписать
автобиографическую прозу Цветаевой в новый контекст - русской и
западноевропейской художественной автобиографической прозы XIX и XX
веков, в том числе и современной Цветаевой, широко развитой в литературе
русского зарубежья 1930-х годов. Тем самым было открыто новое
продуктивное направление дальнейшего исследования прозы Цветаевой.
Методы исследования. Теоретической основой диссертации являются работы
современных ученых по проблемам поэтики и жанра. В соответствии с этим
применены методики целостного анализа художественного произведения, методы
сравнительно-генетического, сравнительно-типологического и системного
анализа.
Теоретическое значение исследования состоит в обосновании новой концепции жанрового своеобразия, художественно-эстетической и философской природы автобиографической прозы Цветаевой.
Практическое значение полученных результатов. Результаты исследования могут быть использованы в работе научных семинаров и спецкурсов по русской литературе XX века, при чтении университетского курса «Истории русской литературы» и курса «Всемирной литературы» в старших классах средних учебных заведений.
Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертации были изложены на международных научных конференциях в городах Донецке («Наследие Бахтина и проблема диалогизма в современной культуре», 1996 г.), Нежине («Гоголь и современный мир», 1997 г.), Дрогобыче («Творчество
М.Цветаевой в контексте культуры Серебряного века», 1998 г.), Харькове («Наследие Д.Н. Овсянико-Куликовского и современная филология», 1998 г.; «Пушкин в конце XX века», 1999 г.), Коктебеле («X Волошинские чтения», 1999 г.), Гурзуфе («IX Пушкинские чтения», 1999 г.). Они нашли отражение в восьми публикациях: семи статьях и одних тезисах.
Структура работы. Общий объем диссертации составляет 172 страницы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников, который насчитывает 164 позиции.
История изучения и актуальные вопросы специфики прозы М. И. Цветаевой
Проза М. И. Цветаевой, публиковавшаяся в тридцатые годы в эмигрантской печати, как уже говорилось, была воспринята современниками как мемуары и критические статьи и встречена небольшим количеством рецензий. За исключением отзыва В. Ф. Ходасевича, эти рецензии ограничивались ее поверхностными характеристиками [109, с.572, 590, 604]. Проза поэта не получила признания, ее сущность долго оставалась непроясненной.
Переоценка значимости прозы Цветаевой, привлекшая к ней интерес исследователей, произошла в 1960-е годы, когда публикация части эмигрантского творчества писательницы стала возможна на родине. В Советском Союзе появились небольшие заметки (в виде вступительных статей к публикациям) К. Паустовского [96], А. Саакянц [133], В. Швейцер [139], где были высказаны предварительные суждения о проблематике и поэтике этой прозы. Тогда же в США была издана первая монография о творчестве Цветаевой [155], в которой прозе отводилась отдельная глава. Автор работы, Симон Карлинский, конечно, не был готов сформулировать обобщающие выводы о природе этой прозы. Его положение осложнялось как недоступностью цветаевского архива, так и полным отсутствием исследований в данной области. И все же американскому ученому удалось сделать ценные наблюдения, заслуживающие дальнейшей разработки.
Наиболее продуктивной сегодня представляется мысль С. Карлинского о возможности рассмотрения цветаевской прозы как некого единого метатекста, скрепленного уникальной фигурой автора. Идея же исследователя о специфическом мировидении Цветаевой - прозаика, для которого характерна «комбинация микроскопического и телескопического зрения»[155, с.271], обусловленная генетическим родством ее стихов и прозы, уже получила подтверждение в современном литературоведении.
Однако С. Карлинский, на наш вгляд, переоценил роль «тенденции к невыдуманному» в цветаевском творчестве, что привело его к уподоблению прозы поэта литературе факта, популярной в те годы в советской России. Придавая повышенное значение дневниковым записям Цветаевой начала двадцатых годов, в которых якобы содержатся все стилистические особенности ее прозы, ученый не учитывал эволюции этой прозы в последующее десятилетие. В результате он сделал вывод, кажущийся сегодня парадоксальным: «Цветаева никогда не писала беллетристики» [155, с.267].
В 1980-е годы начался наиболее плодотворный этап в изучении цветаевского наследия. По мере расширения представлений о многообразии творчества поэта в его исследование вовлекалось все большее число литературоведов. В это время появились ценные статьи о прозе Цветаевой, написанные И. Бродским [11], А. Саакянц [111], И. Кудровой [56], С. Сонтаг [161], М. Кинг [156], а также монография 3. Мачиевского «Proza Maryny Cvietajewej jako program і portret artysty» [158] («Проза Марины Цветаевой как программа и портрет художника»).
Особого внимания заслуживает уже упоминавшаяся работа польского ученого, являющаяся на сегодняшний день единственным монографическим исследованием прозы Цветаевой. 3. Мачиевскому удалось многосторонне осветить проблему выражения эстетических взглядов поэта в его прозе. Он показал, что цветаевская концепция искусства формировалась во взаимодействии с эстетикой символистов и философскими традициями А.Шопенгауэра, А. Бергсона, 3. Фрейда, актуальными для европейской культуры начала двадцатых годов. Однако уточнение места этой прозы в контексте русской литературы первой половины XX века оказалось для него проблематичным, так как творчество многих современников Цветаевой не только в 1980-е годы но и сегодня изучено недостаточно. В значительной степени нерешенность этого вопроса в работе Мачиевского связана и с тем, что исследователь рассматривал прозу Цветаевой не как самоценное явление, а как отражение эстетического кредо поэта. Ее глубинные идейно-философские пласты оказались в работе незатронутыми. Все же первая книга о цветаевской прозе послужила мощным толчком к ее дальнейшему изучению.
Не только 3. Мачиевский, но и другие исследователи обратили внимание на тот факт, что цветаевская проза является «продолжением ее поэзии» [11, с.59]. Поэтому, по словам И. Бродского, в ней «мы сталкиваемся с перенесением методологии поэтического мышления на прозаический текст, с развитием поэзии в прозу. Фраза строится у Цветаевой не столько по принципу сказуемого, следующего за подлежащим, сколько за счет собственно поэтической технологии: звуковой аллюзии, корневой рифмы, семантического enjambement, etc» [11, с.59].
Неудивительно, что большинство работ о цветаевской прозе содержат ее лингвостилистический анализ. Все ученые признают, что в этой прозе увеличены удельный вес, значимость отдельного слова. Л. Черкасова писала об умении поэта представлять слово во всей полноте его значений, чувствовать его «яркость изнутри» [140, с.37]. Е. Тагер связывал эту удивительную способность Цветаевой со свойственной ей «неукротимой жаждой вскрыть корень вещей, добиться глубинной сути, конечной природы явления» [121, с.500]. «Разверзающееся вглубь», «открывающее скрытое дно» слово «вырастает, воздвигается, громоздится» [121, с.500], благодаря чему проза производит впечатление «тяжелой от богатства» [90, с.35].
Продолжая разыскания в этой области, В. Мирская заметила, что эффект необычайной плотности речи создают также «предельная эллиптированность в сочетании со строжайшей выверенностью, насыщенность образными преобразованиями, тяготение к гиперболизации, предельная актуализированность смысловых элементов речи всеми средствами языковой системы» [78, с. 132].
Связь между поэзией и прозой М.И. Цветаевой обнаружилась не только на уровне повествования, но и в более глубоких пластах идейно-художественной структуры ее произведений. Исследователи выявили лирическую родовую основу этой прозы. Так, И.В. Кудрова показала типологическое сходство лирической прозы М. Цветаевой и Б. Пастернака [56, с. 175]. В последней же, по характеристике В. Каверина, «размышления вступают без обоснованного предлога, вспыхивают, влетают в сознание читателя как шаровая молния» и «переходы от личного к всечеловеческому почти на каждой странице» [56, с. 175].
Эпистолярная новелла М. И. Цветаевой «Флорентийские ночи»
Большая часть цветаевской прозы была создана в так называемый парижский период творчества поэта (1925 - 1939 годы). Однако Цветаева обращалась к прозе и раньше. Еще в 1910 году она написала свою первую статью «Волшебство в стихах Брюсова», а в 1911 - 1912 годах - рассказ «То, что было». Своеобразным этапом в становлении Цветаевой-прозаика явилась ее дневниковая проза периода революции и гражданской войны, где очерки и зарисовки из современной жизни перемежались рассуждениями автора и лирическими фрагментами. Здесь, по мнению И. Кудровой, была заложена основа всех последующих произведений Цветаевой: «Сочетание документальности и открытого лиризма, сплав жизненных фактов и размышлений, возникающих как бы наедине с собой, а не перед широким читательским форумом» [56, с. 172].
Важной вехой на пути Цветаевой к художественной прозе стала эпистолярная новелла «Флорентийские ночи»,1 выросшая из ее берлинской переписки 1922 года. Ни роль новеллы в творчестве поэта, ни ее художественное своеобразие пока не оценены по достоинству. Между тем это произведение, несомненно обладающее самостоятельной ценностью, можно рассматривать и как своего рода лабораторию, где вызревало мастерство Марины Цветаевой.
Как известно (см. об этом в книге А. Саакянц [109, с.570]), события, положенные в основу новеллы, происходили в мае - июне 1922 года и были связаны с именем издателя А. Вишняка, от которого Цветаева получила для перевода «Флорентийские ночи» Гейне. В 1933 году в письме к А. Тесковой поэтесса сообщила, что «сделала перевод своей собственной вещи на французский: 9 своих собственных настоящих писем и единственное, в ответ, мужское - и послесловие... - и последняя встреча с моим адресатом, 5 лет спустя в новогоднюю ночь. Получилась цельная вещь, написанная жизнью» [135, т.5, с.710]. Русский первоисточник «Флорентийских ночей» долгое время считался утраченным. Но недавно его черновик был найден в сводных тетрадях Цветаевой и опубликован [134, с. 91 - 106]. Это открыло новые возможности для изучения новеллы. И хотя в своем исследовании мы опирались в основном на перевод произведения, выполненный Р. Родиной [135, т.5, с.463-483], его сопоставление с русским текстом позволило уточнить полученные результаты.
Как явствует из сводных тетрадей, эпистолярная часть «Флорентийских ночей» была по сути создана уже в 1922 году. Однако окончательный вид новелла приобрела лишь через 10 лет. Что заставило Цветаеву в 1932 году обратиться к своим старым письмам? Очевидно, после написания ряда статей и эссе («Световой ливень» (1922), «Кедр» (1923), «Герой труда» (1925), «Поэт о критике» (1926), «Наталья Гончарова» (1929) и др.) ее посетила идея создания произведений о самой себе. Цветаева впервые всерьез задумалась о возможности адекватного самовыражения в прозе. Письма к А. Вишняку были привлекательны тем, что «переводили на иной язык» лирический сюжет, уже реализовавшийся в стихотворениях берлинского периода. Так появление новеллы «Флорентийские ночи» положило начало автобиографической прозе поэта. Более того, с момента ее создания русская литература обрела еще одного значительного прозаика.
«Флорентийские ночи» немыслимы вне контекста творчества Цветаевой начала 20-х годов. Они связаны не только с ее лирикой 1922 года (цикл «Земные приметы» и ряд отдельных стихотворений, таких как «Ночные шепота: шелка...», «Помни закон: здесь не владей!..», «Когда же Господин, на жизнь мою сойдет...» и др.), но и с дневниковыми записями предшествующих лет (отрывки из книги «Земные приметы»), а также с ее драматическими произведениями. Как известно, ко времени отъезда в Берлин М. Цветаева была автором шести драм, созданных в 1918 - 1919 годах. Увлечение театром во многом обусловило своеобразие ее творчества этого периода. Исследование О.В. Гудошник показало, что в конце десятых - начале двадцатых готов лирика Цветаевой была по преимуществу автокоммуникативной, ролевой или диалогизированной, а роль центрального структурообразующего принципа выполнял в ней диалог [28].
Новелла «Флорентийские ночи» отразила процесс трансформации цветаевской лирики в прозу. Поэтому неудивительно, что ее идейно-художественная структура обнаруживает очень высокую степень диалогизма. Принцип диалогизма реализуется в произведении на трех уровнях (взаимоотношений между персонажами, внутреннего мира лирической героини и на уровне «диалога авторов» - М. Цветаевой и Г. Гейне) и определяет жанровое своеобразие ковеллы.
Воссозданию диалога между персонажами способствует эпистолярная форма «Флорентийских ночей». Обратившись к жанру новеллы в письмах, Цветаева широко использовала традиции эпистолярной литературы прошлого. Дидактизм, свойственный этому жанру в 17 - 18 веках, проявился в позиции героини произведения. Напоминая литературных предшественниц, она настойчиво проповедует возлюбленному свои взгляды на жизнь, пытается «обратить его в свою веру».
Цветаевская новелла тесно связана и с традицией эпистолярной литературы эпохи романтизма, в которой господствовало лирически окрашенное воображение. Творчество немецких романтиков (в том числе Г.Гейне, к которому прямо обращены «Флорентийские ночи») оказало огромное влияние на формирование мировоззрения Цветаевой - по сути неоромантического. Поэтому в ее произведении так же ощутим тон лирического излияния, высвобождающий неуемную фантазию автора писем.
Вместе с тем, будучи писателем XX века, Цветаева опиралась в своей прозе на открытия, сделанные реалистами - в первую очередь, Ф.М.Достоевским. Она считала, что современный человек находится в постоянном духовном поиске и ведет диалог как носителями других сознаний, так и с самим собой. Поэтому в ее новелле акцентирована роль письма как реплики в предельно значимом диалоге Человека с Человеком. Учитывая своеобразный диалогизм цветаевской концепции искусства («Не письмо -искусство, а искусство - письмо», - записано в ее сводных тетрадях [134, с. 157]), можно заключить, насколько неслучайным было для нее обращение к жанру новеллы в письмах.
«Флорентийские ночи» имеют и ряд существенных отличий от всех предшествовавших им образцов эпистолярного жанра, что позволяет говорить о новаторской природе этого произведения.
Во-первых, Цветаева стремилась запечатлеть не только непосредственные переживания героев, но и эволюцию их самосознания на протяжении некоторого времени. Поэтому «Флорентийские ночи» состоят из трех частей, первая из которых - собственно эпистолярный рассказ в 11 письмах, вторая -сцена встречи персонажей через 5 лет («Последняя из флорентийских ночей»), третья - философское заключение новеллы («Послесловие, или посмертный лик вещей»). Таким образом, хотя повествование все время ведется от первого лица, в первой части произведения героиня обращается к собеседнику, а в последующих частях его утрачивает. Это сказывается на манере повествования, и повышенную эмоциональность писем сменяет аналитизм «Последней из флорентийских ночей» и «Послесловия». Переосмысление героиней случившегося отражается также в «заметках на полях» и «посмертной ремарке», родственным по жанровой природе афоризмам. Они привносят в произведение динамизм, емкость, философичность, преобразовывая эпистолярный жанр в духе достижений прозы XX века.
«Хлыстовки»
Рассказ «Хлыстовки» (в советских изданиях его публиковали под названием «Кирилловны») - одно из лучших автопсихологических произведений М. Цветаевой. Она предстает здесь и рассказчиком, и центральным персонажем, однако в первом случае это зрелый человек, поэт, во втором - ребенок. Структура повествования рассказа отражает процесс открытия окружающего мира и самой себя маленькой девочкой. Ее специфическое субъективное восприятие действительности получает в произведении адекватное словесное выражение. Читатель встречается с многочисленными примерами толкований («горький пьяница» - тот, кто пьет, наевшись полыни), наименований (употребление отчества «Кирилловна» по отношению к более чем тридцати хлыстовкам), рассуждений Муси («Раз они воруют яблоки, то не совсем Христос и Богородица, но так как они все-таки Христос и Богородица, значит, не совсем воруют» [135, т.5, с.95]). Цветаева как бы заново воссоздает в слове себя-ребенка и одновременно выполняет роль редактора, по своему трактующего события прошлого.
Рассказчик никоим образом не является в «Хлыстовках» сторонним наблюдателем, т. к. ведет повествование заведомо субъективно, пристрастно, подчиняя его своему волевому акту. Это одна из характерных особенностей цветаевской прозы, позволяющая определить ее как лирическую.
Воля автора не только преображает черты прошлого, но стремится преодолеть пространственные и временные границы. Дистанция между временем действия и временем повествования в рассказе больше тридцати лет, но Цветаевой удается донести до читателя живые голоса окружавших ее людей, передать особенности их мышления, внести в произведение саму атмосферу прошлого. В книге «Земные приметы» (1919) она утверждала: «Вся тайна в том, чтобы 100 лет назад видеть, как сегодня, и сегодня - как 100 лет назад (Уничтожение ... я хотела написать: пространства. Нет, времени. Но «время» не мыслишь иначе как: расстояние. А «расстояние» - сразу версты, столбы. Стало быть: версты - это пространственные годы, равно как год - это во времени - верста. Так или иначе, но перемещать годы и версты нужно)» [135, т.4, с.516]. В этих словах - творческое кредо Цветаевой: отметая злободневное, она живописует мир с вершинной точки вечности, любви и искусства.
При всей разомкнутости пространственных и временных границ хронотоп рассказа не лишен конкретики. Действие происходит в Тарусе, где семья Цветаевых каждое лето снимала дачу. Дача располагалась в пригороде, пограничное же положение между ней и Тарусой занимало жилище хлыстовок. Эта важная деталь по сути организует хронотоп произведения.
Место, где живут Кирилловны, в восприятии ребенка окружено тайной. Оно означает «вход в город», «переход от нашего одинокого жилья к людям» и вместе с тем «не вход, а выход. Выход из всякого города, из всякой плоти в простор» [135, т.5, с.93]. Дом хлыстовок, дающий возможность выхода из тесноты повседневной жизни в духовную свободу, становится границей между традиционно противопостановленными в мире М. Цветаевой бытом и бытием.
Жилище располагается в низине; его «тьма, сырость, свежесть» [135, т.5, с.92] контрастируют с атрибутами обычного людского жилья. Чтобы добраться до хлыстовок, нужно идти «через ручей, за первый по левую гору плетень» [135, т.5, с.93], - чем не сказочный маршрут? Даже название «гнездо» вместо привычного «дом» заставляет вспомнить жилища сказочных персонажей. Это впечатление усиливается описанием окружавшего дом «райского сада», речь о котором впереди.
Время здесь тоже течет иначе, а точнее, просто стоит. В восприятии Муси, за плетнем у хлыстовок всегда лето, причем «все лето сразу, со всем, что в нем красного и сладкого», поэтому все ягоды зреют одновременно, «клубника, например, вместе с рябиной» [135, т.5, с.93]. Взрослый человек мог бы найти этому факту простое объяснение: девочка никогда не бывала в Тарусе в другое время года, ведь дача снималась на лето. Но на протяжении рассказа мы не раз убедимся в верности именно детского видения, постигающего самую суть явлений, закрытую для равнодушных взглядов взрослых. Замечательный дом, хозяйки которого всегда «гуляют по саду и едят ягоды» [135 , т.5, с.93], становится для героини миром в мире, живущим по собственным законам. Тайну же его она связывает, в первую очередь, с садом...
Примечательно, что сад в восприятии М. Цветаевой всегда являлся положительно окрашенной частью пространства. Этот образ часто возникал в лирике поэта. «А всему предпочла нежный воздух садовый в монастырском саду, где монашки и вдовы», - находим в одном из стихотворений [135, т.1, с.433]. «За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет», - писала Цветаева в особенно трудное для себя время [135, т.2, с.320]. Сад, противостоящий аду, - что это, как не библейский Эдем, место гармонического единения человека и Бога? Сад в рассказе «Хлыстовки» берет свое начало в давно прошедших временах («Кирилловны в Тарусе были раньше нас, раньше всех, может быть, даже раньше татар» [135, т.5, с.94]) и, неподвластный времени, остается удивительным заповедным местом, где до сих пор прогуливаются Христос и Богородица. Он понимается Цветаевой как земное воплощение человеческой мечты о счастье и гармонии (недаром в уста своих персонажей она вкладывает песню про «сады зеленые» [135, т.5, с.94]). Восходящий к библейским мифам и народным сказкам, образ этот является значимой частью мифопоэтической картины мира, возникающей в субъективном восприятии ребенка.
В автопсихологических произведениях М. Цветаевой важную функцию выполняет предметный мир. Он помогает памяти воскрешать события прошлого, часто является отправной точкой для воспоминаний. Думается, Цветаева согласилась бы с Марселем Прустом, который считал, что прошлое часто «находится в какой-нибудь вещи (в том ощущении, какое мы от нее получаем)» [99, с.41]. Как много воспоминаний связано у героя романов Пруста с кустом боярышника! В рассказе М. Цветаевой поистине символическое значение приобретает образ бузины.
Бузина является для поэта приметой Тарусы и собственного детства, а позже понимается еще шире - как примета века, его болезнь. В поэзии Цветаевой периода эмиграции этот образ встречается очень часто. Чувствуя себя в Париже бездомной чужестранкой, она мечтала: Степь - хунхузу, Кавказ - грузину, Мне - мой куст под окном бузинный Дайте. Вместо Дворцов Искусств Только этот бузинный куст... [135,т.2,с.296]. Еще один предмет вырастает в цветаевском рассказе до размеров символа. Рассказчик неоднократно подчеркивает, что в саду у хлыстовок (где, как мы помним, спели все плоды одновременно) не было яблок. Это тем более удивительно, что в Тарусе яблоки «в урожайный год - а каждый был урожайным! - на базар выносили бельевыми корзинами и их уж и свиньи не ели» [135, т.5, с.93]. Очевидно, хлыстовки сознательно не выращивали их. В рассказе этот факт оказывается связанным с давней народной традицией, которая отождествляет с яблоком плод Древа познания добра и зла.
Яблоки, ставшие символом искушения и греховности человека, невозможны в райском саду хлыстовок. В количествах, необходимых для еды, они берут их у соседей. Причем делают это не Кирилловны, которые, будучи обыкновенными людьми (тем более женщинами), могут подпасть под искушение, а только Богородица и Христос. Интересно, что последние, набрав яблок, прячутся от взглядов за деревьями, что делали, съев плод Древа познания, Адам и Ева. [135, т.5, с.95]. При помощи яблок окружающий мир (в котором плод божественного Древа низведен до того, что продается бельевыми корзинами и его даже свиньи не едят) искушает хлыстовок благополучием и сытостью.
«Дом у Старого Пимена»
Повесть Цветаевой «Дом у Старого Пимена» с полным основанием можно считать мифопоэтическим произведением. Она имеет структуру неомифологического текста, охарактеризованную Д. Максимовым, 3. Минц, Л.Силард и другими учеными [70, 77, 117]. План выражения задается в этом произведении картинами русской жизни конца XIX - начала XX веков, а план содержания образует соотнесение изображаемого с мифом. Миф, таким образом, получает «функцию языка, шифра-кода, проясняющего тайный смысл происходящего» [77, с.92]. Одной из главных примет мифопоэтики повести являются цитаты, реминисценции и мифологемы - «предельно свернутые знаки текстов, являющиеся заместителями цельных ситуаций и сюжетов, несущие в себе память о прошлом и будущем состояниях образов» [77, с.95].
Создавая «Дом у Старого Пимена», Цветаева имела сознательную установку на мифотворчество, понимаемое ею как синоним творчества вообще. «Все миф,., не-мифа - нет, вне-мифа - нет, из-мифа - нет,., миф предвосхитил и раз навсегда изваял все,»- утверждала она в повести [135, т.5, с. 111]. Цветаева обладала уникальной способностью к созданию мифов, проявлявшейся не только в мифопоэтических произведениях, но и в превращении в миф собственной обыденной жизни. Друг поэта, критик М.Л.Слоним вспоминал о Цветаевой: «Ее всегда притягивало все то, что выходило за пределы, что вне мер, ее «безмерность в мире мер» - это же и есть тяга к мифу» [67, с.226].
Повесть «Дом у Старого Пимена», как и многие другие мифопоэтические произведения, достаточно сложна для восприятия. Она нуждается в особом, активном и напряженно размышляющем, читателе. Впрочем, сама Цветаева иного не признавала, говоря, что «чтение есть соучастие в творчестве» [135, т.5, с.279]. Стремясь сделать читателя активным участником художественного исследования, она обнажала сам процесс рассуждения, облачения мысли в форму слова. Как писал И. Бродский, «обращаясь к прозе, расчленяя чуть ли не каждое в ней слово на составные части, Цветаева показывает своему читателю, из чего слово-мысль-фраза-состоит; она пытается - часто против своей воли - приблизить читателя к себе: сделать его равновеликим» [11, с.60].
«Дому у Старого Пимена» свойственна своеобразная двухмерность повествования: оно ведется и от лица маленькой девочки, и от лица взрослого поэта. Это позволяет Цветаевой достичь уникального синтеза непосредственного восприятия и зрелого размышления. Финальная сцена повести представляет собой поток сознания жены историка Иловайского. Применение этого приема обусловлено логикой постижения характера персонажа. Сцена последних минут жизни Иловайской, во время которой рассказчик отступает на задний план, органично вписывается в контекст произведения. Она является убедительным завершающим штрихом в изображении не только самой Александры Александровны, но всей семьи Иловайских, со смертью героини прекращающей свое существование.
Важным аспектом мифопоэтической концепции повести является ее пространственная и временная организация. Хронотоп «Дома у Старого Пимена» может быть истолкован при помощи мифов и произведений искусства. Иловайские проживают на Старопименовской улице в районе под названием Малая Димитровка. Цветаева связывает эти пространственные координаты с пушкинским «Борисом Годуновым» и кладет их в основу мифа о старом историке, вытесняющем из жизни своих детей.
Не менее значимым оказалось для поэта и внутреннее пространство дома Иловайских. Дети здесь занимали нижний этаж, а родители - верхний; таким образом, дети «жили под родителями, как под спудом» [135, т.5, с.112], были «вроде Атлантов, держащих небосвод с небожителями» [135, т.5, с.114]. Эта ноша оказалась непосильной для юных Иловайских.
Как мы видим, для пространства дома у Старого Пимена актуально одно из главных мифологических противопоставлений верха и низа, верхнего и нижнего миров. Его можно истолковать двояко. Если верхний мир родителей Иловайских уподобить Олимпу, то нижний, мир их детей, окажется вотчиной смертных. Не случайно именно дети в повести безвременно умирают, в то время как старшие Иловайские живут на удивление долго. Если же считать верхний мир человеческим, то нижний предстанет по отношению к нему как подпол, подземелье, где не живут, а лишь пребывают превратившиеся в тени Сережа, Надя и Оля. При любом из этих толкований, однако, нижний мир будет соотнесен со смертью.
В связи с обнаруженным противопоставлением примечательна еще одна деталь. Сюжет целого ряда мифов основывается на перемещении героев из одного мира в другой (например, из верхнего в нижний или наоборот). В повести «Дом у Старого Пимена» он реализуется в судьбе каждого из детей историка. Сережа и Надя совершают выход из нижнего мира во время поездки в солнечный Нерви, их сводная сестра Варвара Дмитриевна временно покидает его согласно «брачному контракту». Заметим, что в мифах «перемещения из одного мира в другой сопряжены с опасностями и запретами, нарушение которых ведет к гибели героя (запрет оглядываться назад, например, в мифе о путешествии Орфея в нижний мир и др.)» . Этот мотив тоже трагически преломляется в судьбах молодых Иловайских - ведь все они мечтают так или иначе обмануть рок, покинуть нижний мир и никогда в него не возвращаться. Единственный удавшийся побег осуществила Ольга, нарушившая запрет на любовь к иноверцу. Очевидно, именно эта любовь позволила ей, как сказочной героине, преодолеть чары страшного смертного дома.
Однако не только дети, но и сами родители были, по словам рассказчика, «гнетомыми», ибо «и над Зевесом рок» [135, т.5, с.117]. «Гнел дом, сам дом, со всеми прежде в нем жившими и жившими так, как нынче жить уже нельзя» [135, т.5, с.117]. С образом «смертного» дома в произведение входит тема рока. Обреченная на вымирание семья Иловайских напоминает героев новеллы Э. По «Падение дома Ашеров». И новелла По, и повесть Цветаевой заканчиваются символическим описанием «падения» дома, поглотившего всех своих жильцов.
Не меньше, чем дом, психику жильцов угнетал близлежащий сад с его мнимой свободой, сыростью, старостью, с калиткой, не ведущей никуда. Так даже образ сада, с которым у Цветаевой всегда связано представление о счастье, рае, символическое отождествление человека с растущим деревом, в повести напоминает только о смерти. Не случайно все деревья здесь старые, гнилые от сырости («древесное сырье» [135, т.5, с.117]), а кусты звенят, как погребальные венки. Сад Иловайских плотным кольцом охвативший дом, как бастион, ограждает страшное пространство Старого Пимена.
Давящая атмосфера не ограничивалась однако и этой территорией: над всеми покинувшими дом она сохраняла власть на сказочные 30 верст вокруг и 30 лет вперед. Для Цветаевой эта воронка во времени и пространстве - Аид со своим Гадесом - Иловайским. Иловайский был историком, а дом его -затянувшимся уроком истории и неурочных часов здесь не было. Дом стал в повести символом старой домостроевской России, живым напоминанием о временах летописца Пимена и царя Бориса.
Еще одно место, где обрываются молодые жизни, - имение Иловайских Спасское, в народе называемое Крюково. Вместо ожидаемого спасения («Спасское») оно приносит детям историка гибель («Крюково», смерть от удушья - один из лейтмотивов цветаевской повести). Здесь тоже стоят старые деревья и царит сырость - ведь имение располагается на болоте.
Примечательно, что сырость, отличающая оба дома Иловайских, является характерной приметой нижнего мира, который часто представляется как водный. Поэтому деревья здесь не растут, а гниют, а сады кажутся лишь лживыми отражениями настоящих. Мотив отражения, при помощи которого в сказках героев заманивают в нижний мир, очень актуален для понимания образа Спасского-Крюкова.